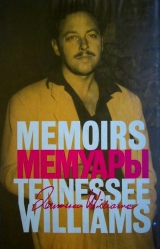
Текст книги "Мемуары"
Автор книги: Теннесси Уильямс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
В нетерпении я позвонил Билли и сказал, что будет веселее, если мы встретимся в холле отеля, а не в салоне моего люкса, и как всегда, я ошибся – было не только не лучше, но существенно хуже. Я сидел с Билли за столиком на четверых, а какая-то жалкая проститутка начала играть на пианино прямо за моей спиной.
– Какой-то идиот бренчит на пианино, – громко сказал я Билли.
– Боюсь, это их профессиональный пианист, – ответил Билли, – и нам лучше перебраться в другое место, где можно будет разговаривать.
Но с того момента, когда мы встретились с Йорком, вечер был очень приятным. Пэт [80]80
Несколькими страницами ранее у Т. Уильямса Пэт – мужчина.
[Закрыть]только что сделала себе прическу, поэтому она осталась в каюте с Билли, а я сидел на воздухе с Майклом, и лагуна была удивительно красивой – как в самых приятных воспоминаниях.
– Ах, Венеция, город жемчуга, – сказал я, цитируя «Камино реал».
Мы быстро и просто поужинали на террасе Гритти (spagetti alia vongole), где неполная луна выплыла прямо из-за белого купола церкви за каналом, и я здорово набрался, сначала фраскати, а потом еще и лучшего венецианского вина.
Видите ли, нам надо было торопиться обратно на Лидо, так как фильм Майкла «Кабаре» открывал фестиваль.
Вернувшись в бар «Эксельсиор», я сел на подлокотник кресла Пэт, напротив сидели красавицы леди, вроде Марисы Беренсон, а за спиной интервьюировали Майкла Йорка. Непрерывно сверкали вспышки фотокамер.
За столом я спросил продюсера, есть ли у него деньги. Он ответил, что нет. А я сказал: «Тогда я с вами не разговариваю».
В конце лета 1969 года, вернувшись с Анной Мичэм и Джиджи из мрачной поездки в Токио, я вновь поселился в своем доме в Ки-Уэсте. Но ничего из этого периода не помню, абсолютно ничего – начался коллапс.
Затеялось строительство большой новой кухни, обошедшейся в две цены всего дома в 1949 году. Строительство не только встало нам в копеечку, но и просто не двигалось, стоя на месте четыре месяца. Если бы так долго могло стоять у мужчин… но это не снилось даже Казанове.
Плиту перенесли в патио, поэтому свой утренний кофе я приготовить мог. И однажды рано утром, через два дня после возвращения в Ки-Уэст, я в кофейнике приготовил слишком много кофе. Я в это время часто падал – не забывайте – и, сняв кофейник с плиты, грохнулся на плитки патио, ошпарив кипящим кофе голое плечо.
Я был настолько не в себе, что не почувствовал боли, и, как обычно, сел за утреннюю работу.
С этого момента начинается туман. Помню, что ходил к врачу, который перевязал красное, как вареный рак, плечо, помню, что в Ки-Уэсте был Дейкин. Еще помню, что мы были в аэропорту Ки-Уэста, к моему столику подошла бедняжка Эди Кидд, и я сказал ей: «Я люблю твою живопись, Эди, но других интересов к тебе не испытываю».
А потом я был в Клейтоне, в доме на Уайдаун-бульваре, в старом испанском оштукатуренном жилище; было утро, и я твердо решил не ложиться больницу.
– Мама, ты когда-нибудь слышала о братской зависти?
– Думаю, что да, – ледяным тоном ответила миссис Эдвина.
Немного позже я заявил, что соглашусь лечь в больницу, если за мной пришлют «скорую помощь». Дейкин отговорил меня. Он усадил меня в свою машину и отвез в больницу Барнакля. Там меня сначала уложили в Отделение Королевы [81]81
Игра слов: Queen – королева, на сленге – проститутка мужского пола.
[Закрыть]– я не придумал это название, так оно и было. Это довольно роскошное отделение для больных «средней тяжести». Заботу обо мне взяли на себя три невропатолога и один интерн.
Все, что я помню о первом дне пребывания в Отделении Королевы – это как я лежал на кровати и смотрел телевизор. Все программы казались мне направленными лично против меня с хорошо замаскированной враждебностью, даже мыльная опера Ширли Бут поразила угрозами непосредственно мне.
Около шести вечера вошел ухмыляющийся Дейкин с букетиком желтых цветов и несколькими удивительно бездарными карандашными рисунками, выполненными для моего удовольствия двумя его приемными дочерьми.
Торжественным шагом вступила мать – маленький прусский офицер в юбке.
Совершенно очевидно, что надвигалось нечто угрожающее. Я почувствовал это, с необыкновенной ловкостью вскочил с кровати, заявил: «Я немедленно отправляюсь домой», и помчался к шкафу, чтобы взять свою одежду.
– Нет, нет, сынок, тебе нельзя.
– Или вы немедленно везете меня домой, иди я иду пешком.
Я живо оделся – непрерывно выкрикивая оскорбления в адрес Дейкина.
– Будьте прокляты вы все, и ты, и обе твои приемные дочери. Как ты смел дать им нашу фамилию!
– Я не собираюсь сидеть тут и выслушивать оскорбления! (Это Дейкин.)
Полностью одетый и полностью потерявший рассудок, я вышел в коридор и пошел к лифту. Я уже хотел в него войти, как дорогу мне преградил дюжий молодой человек в больничной униформе. Помню, что он был блондином с мясистым насмешливым лицом.
Разъярившись и осыпая всех ругательствами, я вернулся за ним в палату, где мама выпрашивала у медсестры нюхательную соль. О Господи!
Ей тоже здорово досталось от меня.
– Зачем женщины рожают на свет детей, а потом губят их?
(Я до сих пор считаю это неплохим вопросом.)
Миссис Эдвина ответила – искренне ли? – «Я определенно не понимаю, все ли мы делаем правильно».
Я снова повернулся в направлении коридора, но на этот раз двери были заблокированы инвалидным креслом с ремнями и целым отрядом интернов.
Осознав свое поражение, я отказался от борьбы.
Я прижал к себе сумку, в которой была выпивка, таблетки, пузырек с амфетамином, и крепко ее держал – а меня ремнями привязали к креслу и покатили из отделения Королевы в палату для буйных – там мою сумку у меня отобрали, и с этого момента – темнота…
Я и палате для буйных отделения Фриггинза больницы Барнакля. Я уже говорил, что погрузился в темноту, так оно и было – как только у меня отобрали мою сумку.
Попробую рассказать вам – насколько смогу – о моем самом близком соприкосновении со смертью.
Я погрузился в темноту, но не знал, был при смерти или нет.
И не знал, сколько продолжались конвульсии. Помню только, что всего за одно утро было три приступа, и что была остановка сердца, и это единственное во время всего этого апокалипсиса, что вспоминается ясно, потому что я почувствовал во время своих конвульсий внезапную острую боль остановившегося сердца.
Я прошел период абсолютной фантазии.
Помню, что меня привязали к столу и куда-то катили. Но не давали никаких лекарств.
Я отказываюсь приписывать паранойе мои подозрения, что тамошний врач настаивал на том, чтобы немедленно подвергнуть меня насильственной смерти – и был очень близок к выполнению своих планов.
Помню чрезвычайно важные события, происходившие или не происходившие – вечером после конвульсий.
Я медленно, медленно иду по коридору к освещенной комнате и распеваю стихотворение.
Повторяющаяся строчка каждого куплета – «Искупление, искупление». И, медленно двигаясь по коридору, я иду преувеличенно жеманной «пидовочьей» походкой. О чем и пел? О рождении моего брата Дейкина, когда мне было восемь лет, о том, как я увидел в первый раз, как он сосет обнаженную грудь моей матери в больнице Сент-Луиса.
«Искупление» чего? Никогда не высказывавшегося братского соперничества с ним, наверное. И искупление «преступлений» моей любовной жизни с мальчиками и молодыми людьми.
Правда в том, что мне не хочется возвращаться к временам, проведенным в отделении Фриггинза больницы Барнакля в городе Св. Скверны. Все это честно изложено документальным образом в «Что дальше на повестке дня, мистер Уильямс?»
Приведу только то немногое, что пропущено в «стихотворении».
После конвульсий и неопределенного периода бреда я проснулся в узкой палате, в кровати с решетками с обеих сторон – похожей на большую детскую кроватку. «Я проснулся» – значит, что я открыл глаза и приобрел некую способность размышлять, но на самом деле я не просыпался еще час или два, потому что ничего не помнил и не мог сообразить, где нахожусь.
Осознание было подобно смерти.
Странные фигуры проплывали мимо моей двери, ведущей в узкий коридор, я не верил, что они реальны. Я буквально думал, что сплю.
Не думаю, что у меня были посетители, кажется, мне даже не приносили еду – по крайней мере, я ничего подобного не помню.
Но вечером я был уже за пределами своей палаты – с Дейкином в «дневной комнате». На его лице было что-то вроде торжествующей глупой улыбки, он принес копию журнала «Эсквайр», номер с ужасающей статьей под названием «Сон Теннесси Уильямса» – и первыми его словами, наряду с ухмылкой и сердечным рукопожатием, был убийственный вопрос: «Ты знаешь, что у тебя была остановка сердца? И несколько конвульсий?»
Потом он оставил мне журнал и, ухмыляясь, удалился, а я начал отчаянные попытки стать собой – в отделении для буйных.
Каким образом я там «буйствовал»?
Я как на службу ходил на их обеды и ужины, а все остальное время лежал, свернувшись, как беззащитное животное, в уголке, пока тянулась страшная видимость дней и ночей, шло непрерывное представление ужасов – внутри моего черепа и снаружи.
Мне было суждено выжить.
Короткие моменты «выживания».
Громадная санитарка с крупной германской светловолосой головой и застывшей гримасой торжествующей власти ходит и ходит вокруг, руки разведены, как у борца, готовящегося схватить соперника – вылитая мисс Ротшильд, и позвольте вам сказать: я при ней рта не открыл!
Кстати о ртах. В палате лежал фантастически явный педераст среднего возраста, он все время разгуливал взад и вперед – прекрасная пара мисс Ротшильд! – и, прогуливаясь, непрерывно поправлял порхающими пальчиками свои седые волосы, и однажды горячий ирландец-мужлан вскочил и кулаком врезал ему по зубам – это был самый страшный удар, какой я видел в жизни. Все передние зубы бедного педераста были выбиты, как будто его ударили кузнечным молотом. Несколько дней его лицо напоминало задницу бабуина, рот разнесло до самого носа, а внутренность его напоминала кровавое месиво. Но это ни в коей мере не отразилось на его заботе о своих седых волосах, его пальцы продолжали порхать по тщательно уложенным локонам.
А потом – Господи, помилуй! – этот ирландец стал двигать свой стул все ближе и ближе ко мне – с тем же выражением на лице, с каким он смотрел на бедного старого нарцисса-педераста!
В один из дней привели совсем молоденькую вопящую девушку с копной ярко-рыжих волос, бросили ее в обитую мягким камеру и оставили там, кричащую, на всю ночь – а когда я утром увидел ее, на месте густой и яркой гривы был могильный холм окровавленных бинтов.
Я начал задавать вопросы молоденькому интерну, который казался приветливее других, и он рассказал мне, что девушка выдрала себе все волосы в ту ночь, когда кричала в обитой мягким камере – выдрала их с корнями.
У меня в шкафчике было несколько костюмов; их принес мне Дейкин.
Тайком я обыскал карманы и нашел маленький пакетик «розовеньких», пять капсул; я решил принимать их по одной на ночь, в дополнение к тем совершенно неэффективным снотворным, что прописал мне врач, до сих пор не нашедший времени позвонить мне в мою палату для буйных.
Когда капсулы кончились, меня ждали три или четыре бессонные ночи подряд.
В конце концов наступила ночь такой усталости, что мне удалось часок поспать.
Однажды ночью я уснул – да, на самом деле забылся – как вдруг дверь распахнулась и влетел молодой интерн, которого никто бы не назвал приветливым.
– О Господи, чего вам надо?
– Вы не вернули электробритву!
– Ну и что?
Он выхватил из тумбочки «Филипс» и заорал: «Пациентам этого отделения не разрешается иметь у себя ничего, чем они могут нанести себе повреждения!»
Я вышел в коридор следом за ним и направился к застекленной кабинке ночной сестры, откуда она наблюдала за пациентами.
Я постучал в дверь. Там собралось несколько сестер и интернов, и я в истерике по поводу случившегося сказал им:
– Я уснул, я на самом деле уснул после четырех бессонных ночей, а он ворвался ко мне за электробритвой!
Я повторял и повторял эту фразу, а потом начал всхлипывать, ночная сестра оказалась приятной женщиной, и мягко поговорила со мной.
– Вернитесь к себе, ваше лекарство должно скоро снова подействовать.
Оно не подействовало.
Мое окно выходило на громадный мусороперерабатывающий завод, и за целый час до рассвета этот завод начинал монотонно громыхать – я по этому звуку определял наступление нового дня, потому что часы у меня конфисковали, так как в них было стекло, а ни один предмет, содержащий стекло, не разрешался пациенту этого отделения.
На рассвете санитарка с отсутствующим выражением на лице и с голосом, напоминавшим визжание дрели, входила в палату для проверки и измерения пульса и температуры.
– Уткой вчера пользовались?
Иногда я вообще не отвечал, иногда тяжело вздыхал и закрывал лицо, и поэтому мое пребывание в палате для буйных продлевали и продлевали – за «отказ от сотрудничества» я провел в нем целый месяц.
Какая-то гордость в человеке остается, когда уходит все, кроме последнего вздоха…
Местный врач был очень приветлив с моим братом, и когда Дейкин приходил навещать меня – примерно два раза в неделю – они болтали друг с другом в моем присутствии. Он рассказал Дейкину, что у меня были конвульсии три раза за одно утро, и говорил все это с налетом гордости, как будто эти конвульсии были достижением, с которым он поздравлял себя.
Я уже давно прочитал «Сон Теннесси Уильямса», когда однажды вечером этот врач принес мне тот самый номер «Эсквайра» и сказал со своей злой усмешкой: «Тут о вас замечательная хвалебная статья. Хотите прочитать?»
– Спасибо, нет. Я уже читал.
– Врачи из буйного отделения завидуют нам, – говорил доктор Леви, – и вымещают это на наших пациентах…
Даже в палате для буйных у пациентов был час трудовой терапии утром, и час – после обеда.
Каждый день те, кого допускали к трудотерапии, после переклички выстраивались у лифта. У нас была возможность отказаться, можно было не спускаться на лифте и не заниматься теми незатейливыми видами деятельности, что позволялись нам внизу.
Сначала я долго отказывался спускаться, но потом обнаружил, что в случае отказов за мной наблюдают еще ревностнее. И я начал ходить на эту трудотерапию. Я выбрал рисование акварельными красками, как наименее скучный вид занятий, но по каким-то причинам рисовать начал левой рукой.
Помню, как я уже почти закончил рисунок, когда ко мне подошел громадный старый доктор Леви.
– Твой мизинец не такой большой, Том.
Не хотел ли он сказать, что я все еще страдал манией величия?
Доктор Леви был менее бесчеловечным из трех невропатологов, лечивших меня, и он, в свое время – после месяца в палате для буйных – перевел меня в так называемое «открытое» отделение.
Заключение в отделении Фриггинза помогли мне перенести книги, присылаемые мне ящиками Энди Браун из компании «Книжная ярмарка Готэма», и игра в бридж по вечерам – четыре часа между ужином и временем, когда свет выключали – это уже в «открытом» отделении. В первом открытом отделении, где я лежал, было несколько женщин – блестящих игроков в бридж. Я играл каждый вечер по четыре часа. Одним из игроков была семидесятипятилетняя леди, подвергавшаяся безжалостным сериям шоковой терапии, которых она боялась до ужаса. До позднего вечера она не знала, будут ли ее утром подвергать шоку. Записочку об этом прикалывали к дверям ее палаты, и она начинала расстраиваться, дрожать и плакать.
После шокового воздействия ей было трудно играть в бридж. С самыми теплыми чувствами я вспоминаю, как мы все не обращали внимания на провалы в памяти во время игры, и как мы успокаивали ее, пытались облегчить ужас, когда она обнаруживала записку о предстоящей шоковой обработке, намеченной на следующее утро.
У нее было двое взрослых сыновей, забегавших повидаться с ней примерно раз в неделю; почему они не прекращали эти пытки своей старой матери? Я достаточно циничен, чтобы предположить, что они хотели «убрать ее с дороги» – один из них был профессором университета Сент-Луиса, католического заведения…
Счастлив сообщить, что через несколько месяцев, уже в Ки-Уэсте, я получил от нее открытку, где сообщалось, что ее выпустили из отделения Фриггинза, и она вернулась «домой».
Она выжила! Какими громадными могут быть резервы человеческого сердца – и молодого, и старого!
Сколь бы ни были ужасны времена, и в них встречаются случаи и люди, которые – по прошествии времени – вспоминаются с шокирующей веселостью. Там была, например, крупная чернокожая женщина, сидевшая в центре дневной комнаты. Когда бы я ни проходил мимо нее, она улыбалась мне и говорила: «Ты такой сладкий, ты конфетка, ты настоящая конфетка».
По своему чистосердечию я считал, что она так и думает. Но однажды, рассыпая эти сахариновые комплименты, она внезапно вскочила и нанесла мне такой хук правой, что я оказался бы на полу, не промахнись она мимо цели.
Я вставил ее в свой телесценарий «Остановленное качание» [82]82
См. «Киносценарии», № 4, 1997.
[Закрыть].
Еще там были две весьма привлекательные молодые леди, пристрастившиеся в Стамбуле к наркотикам, которые могли спать, только если им давали в качестве снотворного химические компоненты, известные в подпольном мире, как «Микки Финн» [83]83
Клофеллин.
[Закрыть]. Каждую ночь, когда действие снотворного заканчивалось, девушки вставали и шли за своим зельем. Получив его, они начинали бешеную гонку к своим палатам – примерно метров двадцать пять. И неизменно падали на пол, не достигнув своих дверей, и их, уже бессознательных, оттаскивали на кровати.
Как я завидовал этим девушкам! Я умолял доктора Леви дать и мне этого зелья, но он говорил: «Ни в коем случае».
Мне разрешили, наконец, выходить, но еще в течение целого месяца меня выпускали только для прогулок вокруг больницы, и то в сопровождении небольшой команды от Фриггинза – на всякий случай, чтобы я не сбежал.
Где-то к самому концу пребывания в больнице мне разрешили взять такси и на час съездить в центр Клейтона.
Прямым ходом я направился в аптеку и купил коробку отпускаемых без рецепта снотворных таблеток под названием «найтол».
Обнаружилось, что они затуманивают зрение, и я отказался от них.
В другой раз в центре Клейтона я нашел кабинет одного врача, назвал себя Клеменсом Оттом – так звали брата моей немецкой бабушки – и сказал, что я в городе на съезде, не могу спать и очень прошу его выписать мне немного секонала.
Доктор настоял на обследовании. Он отметил, что у меня проблемы с сердцем, и сделал ЭКГ. После этого выписал мне рецепт на… три таблетки.
В тот же день, вернувшись к Фриггинзу, я был вызван к доктору Леви. Он объявил, что меня выписывают на следующий день – после трехмесячного заточения.
Первая ночь дома; Рождество 1969 года.
Мы с мамой сидим внизу у телевизора, смотрим мою «Римскую весну миссис Стоун».Мама не замолкает ни на минуту, она болтает в течение всею фильма, несмотря на мои непрерывные мольбы дать мне послушать диалоги.
Расстроенный всем этим, я сидел и просто смотрел на грациозный и трагический стиль Вивьен Ли. Мне этот фильм кажется поэмой. Он стал последней важной работой и мисс Ли, и режиссера Хосе Куинтеро – человека столь же дорогого моему сердцу, как и мисс Ли.
В последние месяцы жизни Фрэнки Вивьен устроила прием, на который пригласила и Фрэнки.
Это был его последний выход в свет.
Вивьен весь прием построила вокруг него, сделав это стой интуитивной симпатией, что всегда будет питать мою любовь к ней. Она делала добро, даже не замечая сама…
Знакомая с сумасшествием, она знала, что такое быть на полшага от смерти.
Она сама была близка к смерти, хотя еще не сознавала этого…
В мой первый вечер дома, после просмотра фильма, я спросил маму, не приготовит ли она мне чашечку какао. Она бесконечно долго искала какао на кухне, а потом сказала: «Сьюзи утащила его домой».
Сьюзи была ее служанкой в течение полжизни. Позднее мама нашла какао в кухонном шкафчике.
Бедная Сьюзи, бедная миссис Эдвина!
Когда Сьюзи приходила вечером домой, мама ослабляла четыре запора на передней двери, боязливо выглядывала, потом захлопывала дверь и кричала Сьюзи: «Сьюзи, тебе нельзя уходить. За утлом на остановке автобуса стоят черные».
Однажды Сьюзи не выдержала, засмеялась и сказала: «Миссис Уильямс, ни один из них не чернее меня».
А теперь миссис Эдвина обвиняет Дейкина в том, что у него наверху «молодая чернокожая леди», из-за которой она вынуждена оставаться на первом этаже…
Увеличенная фотография из паспорта Фрэнки смотрит на меня со стола; она мешает мне; я кладу ее лицом вниз на рукопись моего стихотворения «Старики сходят с ума по ночам».
Быть в моем возрасте чувствительным романтиком – предельно некрасиво, оскорбительно, унизительно и мешает спать.
Утром – точнее, около полудня – я узнал, что Майкл Йорк прочел последнюю версию «Крика»и дал устное согласие играть в этой пьесе. Существуют какие-то трудности в вопросе оплаты – но мой агент Билли Барнс считает, что он и Меррик справятся с этим.
Однажды я ужинал у Джо Аллена с мудрой и прелестной актрисой – Рут Форд, которая, кажется, с рождения обладала большей мудростью, чем я сумел накопить к концу жизни. Я начал говорить о моем одиночестве, о нужде в компаньоне.
– Так найми себе компаньона, – посоветовала она, – только не позволяй ему ложиться с тобой в постель. Для этого ты всегда сможешь подобрать кого-нибудь на улице.
– Ты не поняла. Нет ничего более пустого, более обременительного, чем «снимать» кого-нибудь на улице. Всегда подхватываешь вшей – слава Богу, если не триппер – и каждый раз частичку твоего сердца отщипывают и бросают в канаву.
На это она ничего не ответила; ее прекрасное лицо осталось загадочным и серьезным.
– Так каков будет ответ? – не выдержал я.
Выражение благородного южного лица не изменилось.
Многие люди не понимают, почему я счел необходимым летом 1971 года разорвать мои профессиональные отношения с Одри Вуд.
Этот разрыв следует отнести, я думаю, на счет паранойи, черной неблагодарности и общего разрушения во мне моральной ткани. Думаю, я обязан со всей честностью, какую допускают мои познания, рассказать мое видение этой истории.
Это правда – Одри Вуд представляла мои интересы с 1939 года по 1971, но «представление» как-то само собой износилось, особенно в последние десять лет этого исключительно долгого срока.
Может быть, по причине ухудшившегося здоровья ее мужа, или из-за моего собственного чуждого ей стиля жизни, со всеми этими таблетками, выпивками, «неболитовскими» уколами, но Одри стала – или мне казалось, что стала – отдаляться от моих все более отчаянных обстоятельств в шестидесятые годы.
После смерти Фрэнка мне никто не мог помочь выйти из почта клинической депрессии, в которую я погрузился.
Мне кажется, что только Мария делала реальные попытки лично позаботься обо мне – в чем я ужасно нуждался в то время.
Разрыв с Одри произошел во время одной из моих истерических «сумасшедших сцен» перед премьерой новой пьесы. Произошло это, мне стыдно сказать, в присутствии нескольких свидетелей, собравшихся в грим-уборной Дональда Мэддена после одного из прогонов первой редакции «Крика»в театре «Айвенго» в Чикаго в 1971 году.
Я очень долго работал над «Криком»,он особенно близок смыслу моего существования – что бы под этим ни понимать. Первые прогоны посещали в основном молодые люди, исключительно сердечно реагировавшие на спектакль, блестяще сыгранный Дональдом Мэдденом и Эйлин Херли. Но мне показалось, что Одри в тот вечер реагировала на пьесу и ее прием недостаточно тепло. Если бы Одри не была так близка мне и так важна для меня, то я бы вообще не обратил на это внимания.
Второй прогон был наполовину скуплен обществом театралов, которое называется что-то вроде «Сестры Сары Сиддон». Это, в основном, матроны со слишком строгими и несовременными вкусами для восприятия такого театрального события, как «Крик». Прием в тот вечер был очень холодным. И тут – я могу обманываться из-за своих растущих страхов мне показалось, что Одри куда больше устраивал прием сестер Сары Сиддон, чем энтузиазм молодой публики накануне.
В грим-уборной Дональда Мэддена на меня нашло, Я посмотрел на Одри и сказал ей: «Вам, конечно, понравилась реакция сегодняшней публики. Вы хотите моей смерти уже десять лет. Но я не собираюсь умирать».
Я не кричал на нее, я говорил со спокойной жестокостью, но с моей стороны говорить так было ужасно, хотя Одри из долгого опыта и знала взвинченное состояние моих нервов накануне официальной премьеры пьесы, глубоко затрагивающей мои чувства.
Со своим обычным достоинством она не ответила на мой взрыв в грим-уборной Мэддена. Но она не осталась в Чикаго на премьеру. Она улетела в Нью-Йорк.
Вокруг всего этого наросло множество самых диких историй. Говорили даже, что я «избил ее». Я протестую! Я ни разу жизни не ударил женщину. (Говорили также, что я запирал Марию в моей спальне в отеле «Амбасадор» в восточном Чикаго и угрожал выпрыгнуть из окна, если она попытается сбежать!)
Ни одна из этих историй – стоит ли говорить? – не несет в себе ни грамма правды. Один гротескный юмор. Однако, то, что я сделал, и то, как я это сделал, чрезвычайно мало укрепило мою репутацию как надежного и разумного человека.
Я искренне сомневаюсь, что хотя бы раз в жизни вообще хотел обидеть кого-нибудь, но невозможно прожить жизнь, не причинив никому обид – и скорее всего это случается с человеком, который тебе наиболее близок.
Мне Одри очень была близка, и осталась такой, я уверен, хотя степень этой близости естественным образом снизилась за десятилетие ее пренебрежения.
С течением времени мне все больше кажется, что это десятилетие исчезает из моих воспоминаний об этой действительно замечательной женщине, заслужившей уважение профессионального мира, в котором она работала, и так блестяще представлявшей интересы многих знаменитых писателей.
Для меня она была кем-то вроде члена семьи, на нее я всегда мог положиться. Ее мнение о моих новых работах интересовало меня в первую очередь, и я относился к нему наиболее серьезно – как и к мнению Казана.
Если бы мои чувства к ней были бы сугубо профессиональными, меня бы не тронуло – а потом не возмутило – что ее забота обо мне, когда-то такая серьезная и искренняя, или казавшаяся такой – стала ослабевать, и я почувствовал себя одиноким, как потерявшийся ребенок или как старая выгнанная из дома собака…







