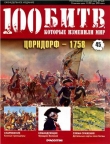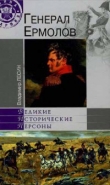Текст книги "Генерал Ермолов"
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
ЧАСТЬ 3
«...Удостой меня, чтобы я воздвигал
веру, где давит сомнение...»
Слова молитвы
– О-о-о-о!.. – стонал парнишка. – За что так били меня? Я плохого не хотел – только хорошее. Я принёс вам важную вещь... Не бейте, не бейте!..
– А вот я тебя прямо к генерал-лейтенанту Василию Алексеевичу Сысоеву сведу. Отведаешь вкуса казацкой нагайки – тогда не так закряхтишь. Говори: кто таков и откудова приполз!
– Мажит, Мажит я, сын Мухаммада из Акки...
– Ах, змеёныш ехиднай! А как это у вас повелося: может, сын Махмада из Акки, а может, не сын! Я, к примеру, точно знаю кто мой отец!
– Не оскорбляй меня, урус! Я грамотный, в медресе учился, в самой столице Персидского ханства жил!
– Так что ж гам тебя имени твоему не выучили?
Гриня-казачок снова принялся таскать паренька за давно немытые чернявые вихры.
– Мажит его зовут, – буркнул Фёдор. – И взаправду, чего к парню пристал за волосы таскать? Если есть за что бить – бей! А так – чего изгаляться?
– Экий ты справедливый, Фёдор, татарского лазутчика защищать, – огрызнулся Гриня. За тщедушное телосложение и склочный, неуживчивый нрав Гриню Шалопова в казачьем войске пренебрежительно называли казачком. В присутствии лиц командующих или приближённых к оным бывал Гриня тих и смирен. В бою иль драке особо на рожон не лез, во вторых, а то и в третьих рядах предпочитал отсидеться. За тугую сообразительность особо важных поручений – в разведку ли пойти, за языком ли – Грине не давали. Так и нёс Гриня службу всё больше по хозяйству: туда-сюда да подай-принеси. Чуя дурной нрав казачка, его неизменно кусали лошади, гоняли, облаивая, собаки. Даже слепой да кривобокий ишак балкарца Баби лягнул Гриню ненароком, ни с того ни с сего.
Зато перед лицом слабейшего, или бабы-тихони, или убогонького человечка Гриня-казачок становился смел до нахрапистости, драчлив до самозабвения да болтлив до красноречивости.
А тут как раз выпала казачку удача: выследил и поймал он паренька, что три дня сряду прятался то во рву, то между штабелями брёвен.
– Я за этим незнамо чьим сыном три дня следил, Федя!
– Не оскорбляй, мой отец – аккинский мулла! Я в самом Тегеране учился! Арабскую и русскую грамоту знаю!
– Чего ж ты, Гриня, сразу его не споймал? – поинтересовался Фёдор.
– А не давался я, – неожиданно заявил Мажит.
– Как это?
– У меня тут дело. Отец поручил. До Ярмула дело. Да пробраться к нему не могу. Там офицеры, охрана. Не пройти.
– Ишь ты! – завопил Гриня не своим голосом. – На самого Алексея Петровича покуситься задумал! Ах ты, бандит!
И давай опять паренька за волосы таскать. А тот, и в правду только кряхтит, не сопротивляется. Только руки ко впалому животу прижимает.
«Тощий, горбатенький какой... Рубаха ветхая, драная, босой, чумазый, – размышлял Фёдор, рассматривая грамотея из Акки. – А по нашему-то чисто говорит. Чудеса, да и только!»
– Дак, что мы с тобой порешим, Федя? – пиявкой впивался Гриня-казачок. – Что с пленным станем делать?
– Мы с тобой, Гриня, совместных дел иметь не будем, – отвечал Фёдор. – Я в штаб этого чудака сведу. Там командиры дело решат. А ты отдыхай пока.
Ухватил Фёдор Мажита за тощий загривок привычной к аркану, твёрдой рукою и повёл через всю Грозную прямо в штаб, к Алексею Петровичу на допрос. Парень шагал торопливо, вырваться не пытался, только подвывал жалобно:
– Зачем ты, казак, так больно шею мне сдавил? Ой, дышать тяжело! Если не веришь – за рубаху держи, а то и вовсе отпусти. Аллах свидетель – не сбегу. Мне к Ярмулу надо. Отец послал.
– Так ты надень рубаху поновее, – весело отвечал Фёдор. – А ну как в бега рванёсси? Вот и останусь я вдвоём с твоей рубахой!
* * *
При виде золотых галунов и аксельбантов Самойлова и орденских лент Бебутова, Мажит ещё больше сгорбился, словно ссохся весь.
– Надеюсь, Фёдор, ты обыскал лазутчика, прежде чем тащить его в штаб через весь лагерь? – спросил Бебутов.
– Он безоружен, – ответил Фёдор.
Адъютанты Ермолова, такие разные, с одинаковым сомнением рассматривали жалкую фигуру Мажита.
– Значит, он наплёл тебе всякой ерунды про отца-муллу, про медресе в Тегеране, про свои мирные намерения, – произнёс Николаша Самойлов, поигрывая позолоченным стеком. – А ты и поверил?
– Обыщи его, – скомандовал Бебутов.
– А чего искать-то? Он под рубахой на животе это прячет. Но не оружие это.
– Не надо обыскивать, – неожиданно твёрдо заявил Мажит. – Меня отец послал. Только Ярмулу могу отдать то, что принёс.
– Да кто ж ты таков, чтобы так нагло к командующему русской армией ломиться? Нищеброд, голодранец! Показывай, что под рубахой прячешь!
– Меня отец послал к Ярмулу, чтобы я отдал ему и только ему из рук в руки... Не оскорбляйте меня. Мой отец – мулла.
Внезапно две крупные слёзы выкатились из чернющих глаз Мажита.
– Ого! – усмехнулся Николаша. – Попусту стараешься, бродяга. Если уйдёшь отсюда живым, передай сородичам, что мы не внимает ни мольбам, ни слезам врагов наших. А внимаем мы лишь честному повиновению.
– Я принёс вашего бога. Я должен передать его Ярмулу. Так велел мне отец, – прошептал Мажит.
– Так давай его сюда! Я есть Ярмул! – грянул пушечным залпом окрик Ермолова. Командующий вышел на штабное крыльцо в полном обмундировании: в бурке поверх мундира. Генеральскую фуражку он держал в руке. Свежий ветерок поигрывал его седеющими кудрями.
– Что мой гнедой? Осёдлан? А ты, брат, готов? Или до вечера намерен этому проходимцу морали читать? Так это пустое занятие.
Ермолов, явно не в духе, никак не мог уместить пальцы в перчатках.
– Третий день такой. Словно сам не свой, – шепнул Бебутов Фёдору. – Как о Коби известия пришли, так и не спит почти...
Тем временем Мажит, удостоверившись в подлинности Ярмула, извлёк из-под полы рваной рубахи оберегаемый предмет.
– Что это? Книга? – удивился Ермолов.
Мажит с поклоном подал ему свёрток, бормоча на арабском языке то ли молитвы, то ли заклинания.
Морщась, словно от невыносимой боли, Ермолов разорвал дерюгу, скрывавшую содержимое свёртка.
– Николай Чудотворец! – изумился Самойлов.
– Икона древняя. Ей не менее трёх сотен лет. Смотрите, какое письмо, да и потёрлась она изрядно! – сказал Бебутов.
– Где взял икону? – спросил Ермолов.
– Она хранилась в нашем роду много веков. Мой дед рассказал мне, что его прадед нашёл вашего бога в брошенном русском доме. Прадед моего деда сохранял вашего бога от порчи и недобрых глаз. Потом прадед моего деда передал его своему сыну, тот своему...
– Короче, – оборвал его Ермолов.
– Когда великий Ярмул, – Мажит снова низко поклонился, – с войском перешёл Терек, мой отец сказал: русские пришли забрать своего бога. И вот отец послал меня к вам, чтобы я вернул вам вашего бога. Мы заботились о нём, оберегали и теперь просим забрать его и уйти с миром.
Бебутов шумно выдохнул. Самойлов снова усмехнулся.
– Где мой конь? – спросил Ермолов, передавая икону Бебутову. – Подать сию минуту!
Подвели коня. Фёдор придержал командующему стремя.
– Что делать с парнем? – осторожно спросил казак.
Ермолов натянул поводья, разворачивая буланого жеребца по кличке Набат. Самойлов и Бебутов торопились сесть на коней.
– Куда девать чеченёнка? – повторил Фёдор чуть настойчивей. Он, придерживая Набата за уздечку, снизу вверх смотрел на Ермолова. Ну вот! Черты командира немного смягчились. Ермолов пустил Набата шагом.
– В яму его, – бросил командующий.
* * *
Фёдор не долго петлял в лабиринте глинобитных и каменных построек, подсвеченных изнутри огнями очагов. Разведчик знал Грозную крепость так же подробно, как дедову бахчу в младенческие времена. Живот согревала свежеиспечённая полкраюха хлеба. Там же сохранялся от алчного внимая псов заботливо завёрнутый в тряпицу большой кусок козьего сыра. В вечернем воздухе витали ароматы готовящейся еды. Из открытых окон слышались обрывки вечерних разговоров об охоте, о конях, об усталости от тяжёлой работы. Иногда навстречу ему попадалась женщина в чадре и с кувшином на плече. В узких извилистых переулках шныряли собаки. Чем ближе подходил он к окраине Грозной, тем чаще и слышнее становились окрики дозорных. Наконец он добрался до загонов, где командир интендантской роты, майор N держал овец. Тут же, неподалёку, находилась импровизированная тюрьма – яма, в которую сажали пленников и держали до выяснения обстоятельств тёмные личности всех наций и вероисповеданий, схваченные дозорными в окрестностях Грозной крепости. Обычно яма пустовала. Майор N быстро определял пленников к месту работы. Арестанты, каждый с тяжёлой колодкой на ноге, копали рвы, носили воду, добывали камень для строительства вместе с солдатами строевых частей русской армии.
Фёдор всматривался в густую тьму, заполнившую дно ямы. Из недр узилища не доносилось ни звука. Сколько ни вслушивался разведчик, мог различить лишь тихие разговоры дозорных у ближайшего костра.
– Эй! – тихо позвал он. – Грамотей, ты там ещё?
Пленник отозвался тотчас же:
– Я тут, Педар-ага...
– Меня зовут Фёдор сын Романа. Так и называй меня Фёдор Романович, понял?
– Понял!
– Повтори!
– Педар ибн Рамэн...
– Тьфу, ты! Басурманское племя!
– Не оскорбляй меня, я – пленник.
– Есть хочешь, пленник?
– Мне только воду спустили в кувшине. Еды не давали...
Фёдор лёг на живот, на край ямы. Он опустил полбуханку и свёрток во тьму, как в воду.
– Лови, грамотей, – казак разжал пальцы. – Поймал?
Со дня ямы послышались сначала возня, затем громкое чавканье и хруст.
– Чем ты там хрустишь, грамотей? Костей я тебе не принёс! – рассмеялся Фёдор.
– То хрустят мои голодные челюсти, – был ответ.
Вскоре пленник закончил трапезу. На дне ямы снова воцарилась тишина.
– Наелся? – шёпотом спросил Фёдор. – Разговор есть... Эй, чего затих?
– Ты добрый? – донеслось со дна ямы.
– Я – сильный, а ты —хитрый, – усмехнулся Фёдор.
– Я – учёный человек, сын муллы и сам стану муллой...
– Эх, прав его сиятельство – нищеброд ты болтливый.
– Не оскорбляй меня...
Фёдор сплюнул в сердцах.
– Чтоб тебя не оскорбляли, Мажит сын Мухаммада, надо кулак сжать покрепче да прям по носу обидчику вдарить, да так, чтобы юшка хлынула, да так, чтоб всё обчество видело, как ты сумел честь свою защитить. Учёный человек!
Со дня ямы снова послышалось чавканье.
– Ешь, утроба тоже внимания требует. Не сомневайся, завтра ещё принесу.
– Ты что-то хочешь, – в словах Мажита не было вопроса.
– Да, хочу. Поможешь мне?
– Хочешь, чтобы я арабской грамоте тебя учил?
– Арабской грамоте?! – Фёдор от изумления едва к Мажиту в яму не скатился.
– Ведь русской ты овладел уже. – Фёдор вдруг понял, что Мажит смотрит на него со дна ямы, задрав голову.
«Ему видно меня из темноты», – подумал казак. Он тоже поднял голову. Над ним, на небосводе, уже разгорелись созвездия.
– Почём знаешь, что овладел? – Фёдор даже не удивился. Спросил просто так.
– Догадался...
– Говорю же, хитрый ты. Так поможешь? Станешь делать, что укажу? Не предашь?
– Не предам...
– До крепости Коби со мной пойдёшь? Дорогу знаешь? Поможешь вашим человеком прикинуться?
– Пойду, знаю, помогу...
– Там чума!
– Наша судьба в руках Аллаха.
– Я за тебя Алексея Петровича просить стану. Клянись, что не предашь!
– Клясться грешно...
– Ну, смотри! Коли предашь, вырастут у тебя уши, как у ишака, а хвост, как у свиньи. Все зубы выпадут, а два большие отрастут, как у крысы. И станешь ты гадить повсюду и выть по ночам, как шакал лесной...
– Такими карами простонародье пугают, Педар-ага. А я – учёный человек, сын муллы...
* * *
– Ты решился? – Ермолов глянул на Фёдора суровым взглядом, но не пристально, вскользь, словно опасался расплескать душевную боль. Хотел, видно, при себе оставить утомительную усталость, тревогу, тоску.
– Решился, ваше высокопревосходительство. – Фёдор стоял перед командующим, как на смотру – в полном вооружении: новая папаха, Святой Георгий на груди, шпоры карябают некрашеный пол генеральской горницы.
– Намерен, значит, маскарадным манером вместе с выучеником медресе полезть в самое пекло?
Почерневшей кочергой генерал ворошил уголья в затухающем очаге. В горнице не горело ни свечи, ни лучины. Лишь в углу, под образом Николая Чудотворца, возвращённым Мажитом, беленьким огоньком мерцала лампада. Лицо Ермолова скрывал сумрак. Фёдор видел белый силуэт полотняной рубахи, слышал голос и в минуты трудных раздумий не утративший твёрдости.
– Иным манером можем не дойтить, ваше высокопревосходительство, – рапортовал Фёдор. – Это как разведка. Тайно надо, скрытно – тогда больше шансов завершить дело удачей.
– Оставь чины, Фёдор Романович. Не посмел бы я ни просить тебя, ни, тем более, приказать совершить такое дело. Но раз ты сам решился – противоречить не стану. Снаряжай команду по своему усмотрению. Из нас двоих – ты разведчик.
– Конечно, может оно и невместно княжне в обществе такого... грамотея путешествовать, да только...
– А ты полюбил его, – Ермолов улыбнулся. – Признайся – полюбил. Кирилл Максимович рассказал мне, как ты ему каждый вечер в яму хлеб таскаешь. Да не чёрствые сухари! И не отпирайся! Всякое на свете бывает, сам грешен.
– Выходит, отпустите грамотея со мной?
– Отпущу...
Ермолов встал, подошёл к Фёдору вплотную, положил руку на плечо. Они были одного роста. Фёдор прожил с командующим бок о бок не одну неделю, видел его весёлым, озабоченным, разгневанным, растроганным и ни разу – печальным, растерянным или ослабевшим.
– Любовь не должна делать человека слабым, – печально сказал генерал. – И я, раб Божий, сейчас черпаю силы из надежды. На тебя надеюсь, Фёдор Романович.
– Не сомневайтесь, Алексей Петрович, я не подведу.
– Ты пропуск мой сохранил? – Ермолов снова улыбнулся.
– Пришлось сожрать с голодухи, – засмеялся Фёдор. – В чеченском плену не особо харчами жаловали.
– Бери новый.
На квадратике плотной бумаги рукой командующего были начертаны заветные слова: «Не тронь его. Ермолов».
– Будь осторожен, Фёдор. Со всех сторон стекаются вести об отрядах Мустафы. Будто бы тайно сочатся они по ущельям в нашу сторону. Валериан Григорьевич, так и не излечив раны, вновь отправился по горам бандитов гонять.
– Слышал я о кровавой стычке у Парчхой-аула...
– Наших полегло двадцать человек, а может, и более. – Ермолов вернулся к очагу. – Хотел было я Гасана с отрядом вам в провожатые отрядить, да передумал. Пусть ваша миссия тайной останется. Ступай теперь, Фёдор Романович, с Богом!
Фёдор шагнул к двери.
– И ещё. – Ермолов обернулся. – Не верь ему. У них и подлость, и правда другие. Честью прошу, не верь!
* * *
– Педар-ага, куда коня гонишь? Куда спешишь? Конь устал, дай отдых нам, остановись... О-о-о-о, – битый час стонал Мажит, пытаясь пробудить жалость в сердце сурового воина, потомка грабителей прикаспийских крепостей. Грамотей из Акки преобразился. Сутулая спина распрямилась, румянец вспыхнул на смуглых щеках, заблестели озорным задором глаза. Мажит стал говорлив и задирист. Неловко понукая престарелого конягу, выделенного ему от щедрот интендантской службы, он тараторил без умолку:
– Старый Исламбек, младший брат моего прадеда, учил нас: торопливость греховна, а медлительность праведна. Чрезмерное усердие фальшиво, а умеренное трудолюбие искренно. Отвага, основанная на трезвом расчёте, поощряема Аллахом, а отчаянная храбрость – предосудительна, потому что отчаиваться грешно...
Фёдор помалкивал, прикидывая расстояние. Пятый день двигались они ни шатко ни валко, не медленно и не быстро, изредка переходя на рысь. Пустынно и тихо было вокруг, странно. Ни встречных путников, ни конвоев не попадалось им. Фёдор прокладывал маршрут на свой лад – днём стараясь держаться проезжих дорог, по вечерам углубляясь в лес с тем расчётом, чтобы не ночевать ни в аулах, ни в придорожных крепостцах. Такие крепости во множестве возводились на пути, связывающем Грозную с Тифлисом. За неделю Мажит изрядно надоел казаку. И в седле-то он сидел, как лапотник чесоточный, и ружьё Фёдор у него отобрал на второй же день, опасаясь нечаянного самострела, и утомился казак от неуёмной говорливости товарища. В один из вечеров Фёдор, уже не надеясь обнаружить воинские навыки у Мажита, вручил ему Волчка. Казак подал саблю осторожно, рукоятью вперёд. Мажит принял оружие с почтением. Внимательно оглядел клинок. Почмокал губами:
– Я знаю, чья это работа.
– А ну-тка, – засмеялся Фёдор.
Вместо ответа Мажит извлёк из-за пояса кинжал, подаренный ему Фёдором в день отъезда из Грозной. Так себе клинок, за дёшево купленный для хозяйственных нужд: каравай покромсать, перья Алексею Петровичу очинить, рыбу выпотрошить. А вот ежели кабанью тушу надобно освежевать, то тут настоящий нож нужен, не этому чета.
Мажит покрутил шашку в ладони, обернулся вокруг себя раз, другой. Полы черкески взлетели. Он кружился, приседал, подпрыгивал, словно слышал стройные лады – музыку гор, доступную только его слуху. Оба клинка: короткий, прямой с заострённым лезвием и изогнутый, длинный, описывали причудливые дуга над плечами и папахой. Мажит пел песню о дружбе двух джигитов Мовсура и Магомеда. О том, как Магомеду привиделась во сне прекрасная Жовар, что за морем жила. Как отправились друзья за любимой Магомеда. Как нашли её невестой другого. Как умыкнули они прекрасную Жовар прямо со свадьбы, пока гости танцевали лезгинку. Как посадил Магомед любимую на коня. Как пустились друзья в обратный путь, через море, через горы в родной аул.
– А потом твой Магомед ещё три раза за море плавал и привёз своей Жовар трёх подружек, чтоб не скучно было им пока муж в набегах прохлаждается, – рассмеялся Фёдор.
– Это работа Горды из аула Гордали, – заявил Мажит, тяжело дыша, – старый клинок, хороший.
– Будет твоим, коли не шутишь. Вот княжну вызволим, разыщу я свою Митрофанию, тогда и поглядим, – задумчиво молвил Фёдор, а про себя подумал:
«Прав был Алексей Петрович. Непростой человек Мажит, сын муллы из аула Акка».
* * *
Странности начались на третий день пути. Утром того дня прямо из лесу к ним вышел огромный мохнатый пёс, рваноухий и бесхвостый. Он пристроился к хвосту коняги Мажита и неотлучно следовал за ним. Сонный одр от страха стал чаще переставлять копыта.
Ночевали в тополиной роще у чахлого костерка, который пламенем не горел, а лишь тлел угольями потихоньку. Спали, как обычно, по очереди. Новый их товарищ, которого Фёдор решил называть Ушаном, не спал вовсе. Во всё время дежурства казака пёс лежал рядом, не смыкая глаз. Алые отблески угольев плескались в его ореховых глазах. Мажит сменил Фёдора под утро. Фыркали, неловко переступая стреноженными ногами кони. Мажит хворостиной ворошил догорающие угольки костерка, подвывая один из напевов своего народа. В груди Фёдора, как неприятная щекотка, шевелилась назойливая тягота – чутьё разведчика. Он принудил себя лежать неподвижно, ожидая исхода. И он дождался. В предрассветных сумерках мелькнула быстрая тень. Фёдор замер, стараясь ровно и медленно дышать, прикрыл глаза. Чуть слышно хрустнула веточка. Утихло заунывное гудение Мажита, именуемое песней. Страшно, гулко забилось сердце в груди казака. Чудилось ему будто тонкое лицо синеокой красавицы склонилось к нему. Увидел он печальную улыбку в ареоле огненных волос. Аймани. Фёдор проснулся. Прямо перед его носом топтались новые, не успевшие истрепаться в походе, чувяки Мажита.
– Вставай, Педар-ага. Соколика седлай – мне он не даётся.
– Кто-то был тут ночью... – вздохнул Фёдор, поднимаясь.
– То сон к тебе приходил. Полнолуние вызывает беспокойство в душе и... – Мажит указал рукой на небо: – Гляди! Горбатые облака спускаются с гор. Будет дождь. В лесу ночевать холодно, сыро. У нас на пути Хан-Кале, заночуем там, а?
– Бывал я в Хан-Кале, грамотей. В кандалах оттуда ушёл. Ночуем в лесу.
* * *
В следующую ночь Фёдор, сославшись на нездоровье, попросил Мажита нести караул подольше. Странное явление повторилось. Ни Ушан, ни Соколик, ни медлительный одр Мажита, именуемый Буркой, снова не проявили признаков беспокойства. То же произошло и на следующую ночь, и впоследствии происходило снова и снова. Сомнение давило казака. Кто приходит в ночи к их костру? Лесной ли это дух является на зов выученика медресе, или это видения утомлённого дорогой тела, беспокойный сон? Ах, если б это происходило только ночью. Бывало, и во время дневного перехода Фёдор видел тонкий, быстрый силуэт в чёрной, мужской одежде, огненную косу, обвивающую длинную шею. Тогда казак просил Мажита пропеть одну из его протяжных песен, подзывал Ушана, разговаривал с ним, стараясь забыться. Но ничего не помогало.
* * *
Они весь день взбирались по бездорожью на вершину невысокой пологой горы. Шли лугами, петляя меж групп коренастых, раскидистых тополей, словно не было в этом краю проезжих троп, пригодных для путешествий верхом. Вечером остановились на вершине холма. Под ними в пелене густого тумана тонула долина Хан-Кале. Моросил противный дождичек.
– Холодно, Педар-ага. Спустимся в долину, а? Заночуем под крышей, купим горячих лепёшек и козьего молока. Который день по лесам таскаемся, как волки дикие.
– Волки едят мясо, – заметил Фёдор.
– Мясо! Хочу мяса! Хоть маленький кусочек баранинки. – Мажит сложил ладони, показывая Фёдору какой маленький, совсем маленький кусочек, он хотел бы получить на ужин.
– Позавчера ели куропатку...
– Ушан-собака украл мою долю! Вспомни, Педар-ага! Там, – Мажит указал грязным пальцем в озеро белёсого тумана у них под ногами, – там Хан-Кале, кров, свежий хлеб, молоко, сыр, песни у кабатчика послушать.
– ...дыба и эшафот. Вот скажи-ка мне, Мажит-ага, во времена твоего деда и прадеда люди вашего рода пытали пленников? Вздёргивали их на дыбу, морили голодом?
– Нет, Педар-ага. Не поступали так мои предки. Джигит колол врага кинжалом, или сёк саблей, или пулей попадал ему в грудь. Что такое дыба? Где ты видел в наших аулах эшафот?
– В Хан-Кале, Мажит, видел. Видать, дурному обучились твои сородичи, пока ты в медресе прохлаждался...
– Есть хочу...
– Ступай-ка ты в Хан-Кале, Мажит. Поешь тамошних лепёшек, молока попей, песни послушай. А мы с Соколиком ночку тут переждём. Утром возвертайся и расскажи мне, вкусно ли понил-поел, сладко ли поспал. Как живы-здоровы люди в Хан-Кале. Особливо меня интересуют Аббас-страшилище и Абдаллах – его хозяин. Живы ли ещё, собаки. Сделаешь?
Мажит молчал.
– Отвечай, грамотей, – ласково настаивал Фёдор. – Или подлое замыслил?
– Обидно мне, Педар-ага, что правдивые слова и честная дружба вызывают у тебя подозрения в злом умысле. Я лишь хочу дать отдых коням, баню посетить. Уже целую неделю умываюсь лишь холодной водой. Что сказал бы старый Исламбек, если б узнал, что от сына муллы воняет как от старого ишака?
– От молодого ... – задумчиво ответил Фёдор. Он прикидывал и раздумывал: расстояние от вершины холма до окраины Хан-Кале – пару часов ходу небыстрым шагом старого одра и его говорливого всадника. Туман, конечно, помеха, но помеха для обоих противников. Да и звуки в нём слышнее, приближение врага можно услышать издали.
– Не оскорбляй меня, Педар-ага, – тарахтел своё Мажит. – Я тебя не оскорбляю, и ты меня не оскорбляй. Ты – хороший человек, добрый, отзывчивый, храбрый. Но часто пренебрегаешь еженедельными омовениями. Между тем Аллах велит нам...
Фёдор размышлял. Припасы еды иссякали. Оставалась одна лишь зачерствевшая лепёшка, испечённая старой служанкой-осетинкой ещё в Грозной крепости. Сыр весь вышел. Они могли бы прокормиться охотой, запаса соли хватит дойти до Коби и вернуться в Грозную. Но как прожить без хлеба?
– Ступай в Хан-Кале один, Мажит-ага. Переночуй, поешь лепёшек, баню... посети и возвращайся. Я буду ждать тут, неподалёку.
Мажит изумлённо воззрился на него из-под нависших шерстин бараньей шапки.
– Педар-ага...
– Ступай. Аллах велит слушать старших без прекословий, – приказал Фёдор. – Жду тебя назад завтра к вечеру чистым, с припасом харчей в дорогу. В начале лета мы с товарищами в Хан-Кале знатную кутерьму устроили. Там каждая собака меня знает и ненавидит, не скроисси.
Мажит ушёл в туман, ведя Бурку в поводу. Ушан, немного повременив, потрусил следом. И его понурую спину поглотила белая пелена.
Фёдор решился закурить.
– Вот теперь-то, Соколик, мы доподлинно узнаем, почём цена дружбы Мажита-аги.
Он сидел на влажном валуне, вслушиваясь в темнеющую тишину. Странно тихо было вокруг: ни свиста, ни шороха. Влажный воздух сгустился и застыл, словно студень. Ещё до наступления темноты туман поднялся выше и накрыл вершину холма, на котором ждали своего часа конь и его всадник.
Временами усталость уводила его в забытьё. Но и тогда он не переставал слышать. Вот чьи-то лёгкие копытца осторожно ступают ниже по склону. Вот порхнула крыльями птаха. А вот и голодный хищник заскулил – завыл где-то далеко, под сенью тумана. Фёдор открыл глаза. Наступившая ночь сделала невидимым Соколика, но верный друг тут, рядом. Дышит ровно, если чуть двинется – то едва слышно, как звякают стремена. Значит, хищник далеко, в иную сторону направлена алчная погоня голодной стаи. Зачем рыщут в темноте? Какую добычу преследуют волки? Фёдор прикасался пальцами к покрытому холодной росой прикладу ружья. Волчок тоже не спал той ночью. Влажно белело в темноте его лезвие под правым боком разведчика.
Так в дремотной сырости, в неуютном покое, щедро разбавленном тревогой, встретили они новый день. Туман немного рассеялся лишь к полудню, приоткрыв ненадолго лабиринт улочек между беспорядочно разбросанными постройками Хан-Кале. Фёдор смотрел во все глаза, но, как ни старался, не смог рассмотреть ни дымка над плоскими крышами, ни силуэта козы или собаки. И людей не было видно на улицах ненавистного селения. Ни движения, ни звука не приметил, пока Хан-Кале снова не накрало влажное одеяло тумана. Ожидая наступления новой ночи, они честно, пополам разделили с Соколиком последний хлеб.
– Завтра пойдём туда, братишка, – сказал разведчик своему коню. – Не помирать же нам с тобой с голоду на этом склоне над адской бездной.
Ночью, стараясь отогнать навязчивую дремоту, призывал он волшебный образ Аймани. Мечтал ещё хоть раз глянуть в синие её глаза. Но она не приходила, не являлась на зов. Тогда пытался он припомнить крутой берег Терека, заросли ивняка над ним. Пыльную колею по-над рекой. Хату отца, чисто выметенный двор, руки матери в сероватом налёте муки, мнущие тесто. Так и дожил Фёдор до утра того страшного дня.
* * *
Они вошли в Хан-Кале со стороны выгона, оттуда, где окраинный луг был разгорожен жердинами на загоны. Крались, Фёдор с обнажённым Волчком в одной руке и заряженным пистолетом в другой, Соколик следом за ним, пригибая шею и настороженно прядая ушами. В одном из загонов Фёдор приметил окровавленные останки нескольких овец.
– Вот за кем охотились хищники в ночи, – говорил всадник своему коню. – Видно, беда пришла в Хан-Кале. Проклятие осуществилося, раз не смогли пастухи защитить свои отары от ночных воров.
Наконец он отважился сесть на Соколика верхом.
Всё стало понятно уже у первого в ряду прочих, наверное, самого ветхого в Хан-Кале, домишки. Фёдор обнаружил сразу за воротами забытый, не прибранный труп ребёнка. Это была девочка лет пяти, смуглявая, с длинной косичкой. Она лежала уже завёрнутая в саван. Что-то помешало близким ребёнка довершить похоронный ритуал. Может быть, они где-то поблизости? Ослабели, спрятались? Внезапная болезнь унесла их?
– Не бойся, братишка, потерпи, – уговаривал его Фёдор. – Нам надо узнать, что случилось. А вдруг Мажита-грамотея уже пора выручать, а? Вдруг да потоп чистюля в банной шайке? Не шути, не балуй, дружок. Скоро, скоро мы уйдём отсюдова...
Окраинные дома все до одного были пусты. Даже ветерок не шевелил створы раскрытых воротин. Даже блудливый кот не шмыгнул в простенок. Только раз заметил казак пару облезлых, полуживых куриц, жавшихся к стене оставленного жителями дома. Хан-Кале обезлюдел. Только невыносимый смрад обитал на его улицах.
Отвратительный смрад валил с ног, лишая способности размышлять и двигаться. Соколик храпел, норовил, не подчиняясь узде, рвануться прочь из Хан-Кале, на выгон. Фёдор, едва удерживая обезумевшего коня, блуждал по знакомым переулкам в поисках людей. Ориентировался по запаху. Трупы начали попадаться ближе к центру поселения. Его близкий знакомец Аббас упокоился с глиняной бутылью в руках, словно смерть настигла его в момент утоления последнего приступа жажды. Он был бос. Баранья шапка упала с бритой головы.
На лице, до глаз заросшем густой чёрной с проседью бородой, застыл невыразимый ужас. Аббас – отважный и жестокий, выносливый и хитрый, гнил без упокоения на пороге собственного дома. Проведя большую часть жизни в седле, в кровавых набегах и жестоких стычках с противником, не ведая сомнений и угрызений совести, он жил рядом со смертью, был готов встретить её в любую минуту. Что могло так напугать его? Какой ужас настиг лучшего из воинов Хан-Кале в последнюю минуту его беспокойной жизни? Над головой мёртвого Аббаса, на выкрашенных лазурной краской досках двери Фёдор с изумлением увидел начертанные углём письмена – арабскую вязь. Всего две строчки изящно выписанных умелой рукой символов. Слёзы отчаяния хлынули из глаз казака.
– Ах ты, грамотей! Где же ты? О чём хотел предупредить? – бормотал Фёдор.
Он спешился и, ведя коня в поводу, один за другим принялся обходить обезлюдевшие дворы Хан-Кале. Он звал Мажита по имени, заглядывая в каждый угол, в каждую щель между рядами неровной каменной кладки. Лишь чёрная чума отзывалась ему заунывным воем пустого ветра в остывших очагах.
В пустом переулке ему встретилась девочка лет тринадцати. Худая и оборванная, с растрепавшимися косичками, она в горячечном безумии металась между домишками. Её душил мучительный кашель. Время от времени, обессилев, она опускалась на землю, чтобы оросить камни родного селения кровавой рвотой. В прорехах её ветхих одежд Фёдор увидел чёрные гноящиеся язвы бубонной чумы. Завидев живого человека, она замерла на месте, обхватив себя за плечи тонкими ручками. Мучительный, неудержимый озноб сотрясал её тельце. Девочка остановила на Фёдоре взгляд, затуманенный близостью смерти.
– Хоть немного воды, добрый человек, – тихо попросила она на языке нахчи. – Во имя Аллаха, немного воды... Так хочется пить.
Сердце подскочило в груди казака, забилось испуганной птахой. Волчок выпал из ослабевшей руки и с жалобным звоном пал на утоптанную землю, под ноги казака.