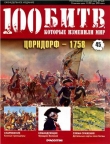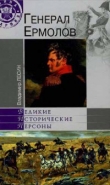Текст книги "Генерал Ермолов"
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
ЧАСТЬ 2
«...Удостой меня, чтобы я возбуждал
надежду, где мучает отчаяние...»
Слова молитвы
– Худо и хлопотно подлинно русському человеку по энтим лесам таскаться. И небо синё, и воздух, аж дух занимаецца, а всё одно погань поганая... тьфу. Эвто вам, казакам, туть раздолье верхами скакать да шашкой махать. Тьфу, разбойное племя! – бубнил солдат.
От тяжкой работы взмокла рубаха на спине его и под мышками, но узловатые, мозолистые руки потомственного крестьянина крепко сжимали топор. Неотрывно смотрел Фёдор на эти руки, похожие на причудливо изогнутые сучья самшитового дерева, отполированные умелыми руками денщика их войскового атамана, Филимоном Октябриновичем. Солдат поднял загорелое до черноты лицо и уставился на Фёдора ореховым, мутноватым взглядом.
– Чего смотришь, разбойник? Хучь бы спешился, хучь бы помог чем. Ишь сидить, барин-боярин.
– Не транди, лапотник, – лениво ответил Фёдор. – Я покой твоего труда охраняю. Высоко сижу – далеко гляжу.
– Не-е-е-ет, – не унимался солдат. – Не подлинно русськие вы, казаки. Помесь вы с басурманами, потому как с ихними бабами брачуетесь. И конь-то у тебя басурманской породы. Ишь нога-то у него тонка-а-а-а, длинна-а-а-а, морда злая, ишь, ишь, того гляди цапанеть.
Соколик недобро косил глазом на говорливого воина русской армии. Вторую неделю славное воинство валило лес за Сунжей. Трещали и валились под русскими топорами вековые ели и лиственницы кавказских предгорий. Трудовые коняги и волы таскали тела павших деревьев в строящуюся Грозную крепость.
А Фёдор заскучал при штабе командующего. Устал он от блеска Самойлова и Бебутова, от невнятного ворчания и вечной озабоченности Кирилла Максимовича. Командующий занят круглосуточно. Оставляя четыре-пять часов на сон, Ермолов остальное время посвящал писанию важных бумаг, чтению донесений и бесконечным переговорам со старшинами и князьями окрестных аулов. Ежедневно лично пешим ходом инспектировал строительство, беседовал с разведчиками и офицерами, осматривал пороховые склады и конюшни. Если для дела требовался толмач, Фёдор присутствовал неизменно. Если требовалась помощь по хозяйственной части, Фёдор носил воду, чистил лошадей и задавал им корм. И так устал казак от штабной службы, так захотелось ему на волю погулять, что спать худо стал. Бессонными ночами зачем-то стала являться рыжеволосая Аймани. Она приходила к нему, садилась рядом, молча смотрела, источая аромат свежей хвои. Молитва не помогала отогнать наваждение. Тогда-то и упросил Фёдор командиров отпустить его в леса погулять с командой, охраняющей лесорубов.
И вот они с Соколиком здесь, под сенью соснового бора, слушают, как над ними заскорузлый лапотник изгаляется.
– Пойду-ка я, дядя, гляну, не засел ли где в кустах лезгинец кровавый иль черкашин не подкрался ли. Неровен час, пока ты треплешься, подползёт с тылу и тебя, дурака болтливого, твоим же топором и цапанёт.
И Фёдор тронул Соколика.
Лучи полуденного солнца, пробивая кроны лиственного леса, тонули в густом подлеске. Сочная зелень, перечёркнутая тёмными штрихами стволов, источала тишину, нарушаемую лишь шелестом мелких камушков в дорожной колее. Тополя, клёны и липы бросали густые тени под копыта коней. Дорога вилась между деревьями. Изгиб за изгибом, поворот за поворотом она двигалась в гору, убегая выше, туда, где кончается лес, в луга. Иногда из ветвей, оглушительно хлопая крыльями, выпархивала лесная пичуга. Бывало, мелькнёт в подлеске чёрная шкура кабанчика и беззвучно растворится в зелёном мареве свежей листвы.
Фёдор петлял между кустами терновника и ежевики, стараясь двигаться вдоль дороги, не упуская обоза из вида.
* * *
Вдоль дороги на примятом подлеске лежали вековые стволы, готовые к отправке в Грозную крепость. За ними, на опушке, подпирали низкое вечернее небо громады живых ещё деревьев. По лесу ползали сумерки, но работа не прекращалась. Из чащи доносился весёлый стук топоров, перемежаемый криками солдат, шумом падающих деревьев и окриками дозорных казаков. Соколик аккуратно ступал по усеянной сломанными ветками дороге. Фёдор направлялся к окраине делянки, туда, где узкая колея терялась в девственной чащобе. Среди зарослей ежевики и терновника попадались им одинокие деревья. Ущербные, словно одинокие старцы, с которых враг сорвал одежду и выставил обнажёнными на посмеяние, они простирали к сереющему небу голые сучья. Привыкшие жить в лесу, среди своих собратьев, и случайно избежавшие гибели, они возвышались тут и там, словно надгробия на могилах павших сородичей.
– Ох, тоскливо мне, Соколик, ой чует сердце – недоброму быть, – бормотал всадник. А конь его между тем всё прибавлял шагу, стараясь поскорее разлучить хозяина с настигшей того тревогой.
За поворотом дороги казак и его конь нагнали раздрызганную повозку, запряжённую престарелым лохматым мерином неопределённой масти. Повозкой правил сутулый человек в пыльной сутане и низкой широкополой шляпе отца-иезуита. Его гладко выбритое, костистое, украшенное не по-русски горбатым носом лицо, несло печать крайней усталости и глубокой задумчивости.
– Здорово, падре, – усмехнулся казак, придерживая Соколика. – Куда ж это вы отправились на ночь-то глядя?
Иезуит возвёл на Фёдора прозрачные, полные потусторонней печали глаза.
– Долг проповедника зовёт меня в бескрайние дебри. К пастве своей держу путь, казак.
Он выговаривал русские слова удивительно чисто, голос его звучал тихо, словно говоривший был сильно утомлён. Узловатые, натруженные ладони служителя чуждой веры крепко держали поводья, понуждая лядащего мерина двигаться вперёд, туда, где дорожная колея вбегала в тёмную чащобу.
– Опасно в лесу, падре. Вчерась только вечером в штабе толковали о разбойничьих шайках, что сбираются в округе. Совокупно хотят на редут напасть, собаки. Командующий удвоил дозоры. Нынче аж три пушки с собой в лес притащили...
– Называй меня отцом Энрике, казак. А что ж, ваш командующий собирается по деревьям лесным из пушек палить? – Иезуит улыбнулся. И почудилась Фёдору в улыбке этой, на первый взгляд печальной, ирония или даже ехидство.
– Командующий без тебя знает, куда и как следует палить, падре...
– Отец Энрике, сын мой…
– Я смотрю, ты из миссии сюда прибыл, от самого Моздока тащишься на эдакой кляче? – Соколик, чувствуя злость казака, фыркал, тряс гривой и косил недобро на лохматого мерина и его возницу.
– Я привык к путешествиям, казак. И к неприятию твоими сородичами веры моей тоже привык...
– А насчёт пушек, напрасно усмехаешься. Дикий лесной народ одного лишь вида их страшится. Разбегаются в панике, подлые псы, едва лишь канонир ядро в пушечное дуло закатит. А чураемся мы али нет веры твоей – не о том речь. Заночевал бы с нами. За орудийными лафетами, в лагере – оно безопасней. Ты – божий человек, хоть и иноверец. На расправу мы тебя не выдадим. Обороним, не сомневайся.
– Я – священник. Меня не тронет ни дикий зверь, ни безрассудный человек. Святая Дева Мария охранит меня.
– Мы на войне, отец Энрике. А на войне не только молитва жизнь сохраняет. Шашка с нагайкой тож очень уместны бывают. Такоже и пушки.
– Шашка и нагайка – орудия воина. Моё оружие слово Божие и личный пример праведной жизни, казак.
Фёдор остановил Соколика на краю делянки. Иезуит отец Энрике даже не обернулся. Лишь осенил пространство перед собой крестным знамением, слепив предосудительным манером указательный и средний пальцы.
– Скажи хоть, куда путь держишь. Где искать, коли братия твоя справляться станет? – обратился Фёдор к его пыльной спине.
– К Хан-Кале путь держу, – был ответ. – Там проповедь слова Божия изолью в заблудшие души.
– От дурень сутаноносный, – сплюнул казак.
* * *
Фёдор не слышал ни стука топоров, ни переклички дозорных. На окрестные обрывистые холмы упал вечер. Птицы умолкли, лишь сверчки пели в невысоком подлеске, да слышался отдалённый вой волков, да глухо топотали по колее копыта Соколика. Наступала ночь. Настороженный взгляд разведчика шарил в зарослях переломанного терновника, пытаясь приметить малейшее движение. Но всё было спокойно. Даже лёгкий ветерок не шевельнул листа, даже беличий хвост не промелькнул ни разу среди густых ветвей.
– Тихо-то как стало, – сказал всадник своему коню. – Пора и нам, братишка, вечерять-ночевать, пора до своих идти...
Казак уже видел перед собой кривой ствол одинокой лиственницы, чудом избежавшей сегодня участи своих сестёр солдатского топора. До того места, где капитан Ревунов, начальствующий над командой лесорубов, наметил расположиться лагерем на сегодняшнюю ночь, оставалось совсем немного. Пуля ударила в щербатый ствол, выбив из него острые щепы. Соколик прыгнул вперёд, Фёдор успел выхватить Митрофанию из ножен, успел прижаться щекой к гриве Соколика.
Они неслись не разбирая дороги к тому месту, где должен был находиться лагерь. Треск выстрелов становился всё чаще и громче. В лесу разгорался бой. Соколик дрогнул на скаку, заслышав пушечный залп. Иногда конь выпрыгивал с дороги, пытаясь пуститься наутёк, спасти своего всадника от возможной гибели. Но твёрдая рука казака возвращала его на прежний путь, в лагерь, к товарищам, вступившим в схватку с противником.
* * *
Они прятались в густых зарослях. Опытный глаз разведчика безошибочно различал в хаосе заварухи врагов. Ружьё, изготовленное мастером Дуски из аула Дарго, разило без промаха. Так продолжалось до тех пор, пока в лядуннице не иссякли заряды.
– Ты жди, Соколик, жди тут, пока не позову, – прошептал Фёдор, крепче сжимая рукоять Митрофании.
* * *
По поляне беспорядочно метались сполохи огня, люди, лошади и их причудливо исковерканные тени. Неумолчный звон, гул, ржание, крики ярости, вопли боли, предсмертные стоны заполняли пространство, навязчиво лезли в уши, оглушали. Клинок Митрофании оставлял в ночном воздухе серебристые росчерки. Шашка разила скоро и расчётливо. Чутьё лесного разведчика, что сродни звериному чутью, помогало отличить своих от чужих. Едва распознаваемые повадки, дыхание, звук шагов – всё подсказывало верные решения. Фёдор видел изрубленные, лишённые голов и конечностей тела своих товарищей и противников. Видел кровь, фонтанами плещущую от открытых ран. Видел искажённые мукой и неутолимой злобой лица. Отделив безмятежное сознание от убийственно-проворного тела, все силы души Фёдор направил на то, чтобы, уничтожив врага, непременно выжить самому.
Конец стычке положил орудийный залп. Истекающий кровью канонир ухитрился закатить в пушечный ствол ядро и поджечь фитиль. Яркая вспышка и грохот выстрела привели в чувство опьяневших от кровопролития бойцов. Фёдор тоже остановился. Дышалось трудно, глаза застилал кровавый пот. Казак всматривался в подсвеченную пожарищем темноту, пытаясь приметить выживших противников, готовясь к новой схватке.
Арканная петля выскочила из темноты внезапно, как ядовитая тварь выскакивает из подземной норы, и вцепляется в свою жертву, чтобы утащить её в смертельный плен. Митрофания, выскользнув из руки, упала в ночь. Потухли огни пожарища. Фёдора поглотило вязкое марево беспамятства.
* * *
– Ишь, башка-то его уже не кровоточит. Глянь, глянь-ко, батюшка. Ишь, яблоки глазов под веками шевёлются. Скоро очнётся, родимец. Ишь, как казака ухондакали. Собаки... – последнее слово надтреснутый тенорок произнёс едва слышно, почти шёпотом.
Фёдор разлепил чугунные веки. Ему до смерти не хотелось видеть обладателя надтреснутого тенорка. Казак надеялся увидеть над собой низкое синее небо с барашками редких облачков, услышать перестук камушков в Тереке, тихое дыхание верного Соколика. Всё грезилось очутиться на родине. Пусть в голове стоит неумолчный гул, пусть стонет от ран уставшее тело, пусть всё будет так – лишь бы дома, на родимом берегу.
– Глянь, глянь, глаза открыл, смотрить, бедолага...
Фёдор и вправду открыл глаза. Но вместо синевы небес увидел он над собой обрешётку дерновой кровли, да веснушчатое, курносое лицо.
– Здорово, мордва... – губы едва шевелились, язык присох к гортани. Фёдору мучительно хотелось пить.
– Чегой обзываисси? Я – русський, сам ты мордва.
Фёдор почувствовал на губах прикосновение шершавого края глиняной посудины, сделал первый сладостно-мучительный глоток, за ним второй и третий. В глазах казака прояснилось, словно светлее стало.
Через щели дощатой двери, запиравшей их темницу, пробивался дневной свет. Глина, покрывавшая ветхий плетень, местами обвалилась, пропуская в темницу полосы полуденного света. Пол хижины устилала старая солома. Троих узников сковывали по рукам и ногам короткие цепи, концы которых надёжно крепились к толстой лесине, подпиравшей потолок в центре хижины. Цепь не позволяла добраться ни до стены, ни, тем более, до двери. К тому же там, за неплотно пригнанными досками, различалась фигура дозорного в лохматой папахе.
Утолив жажду, Фёдор первым делом опробовал прочность крепления цепей.
– Ишь, оклёмываецца, казак-то. От разбойное семя! Ни жив ни мёртв, башка пробита, а туда же!
– Заткнись, мордва. Не стану я смотреть, как тебя, словно барана, нанизывают на вертел и медленно жарят. Сбегу ранее этого.
– Меня звать Кузьмою, – обиженно заметил солдат. – И не мордва я. Я подлинно русський христианин.
– Довольно балаболить, Кузьма. Утекать надо отсюда, пока с живых шкуру не содрали.
Тут только Фёдор как следует рассмотрел собеседника. Это был всё тот же солдатик, с которым они перемолвились... Когда? Когда состоялся тот разговор? Сколько времени они провели в плену? Неужто более суток провёл он в беспамятстве? Дело случилось ночью, а сейчас ясный день. Выходит так, что половина дня прошла или полтора? Фёдор осматривался по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь предмет, пригодный для использования в качестве оружия, и ничего не находил. Наконец взгляд его остановился на третьем пленнике.
Этот третий расположился тут же, рядом. Он сидел, подперев спиной лесину и распрямив ноги, прикрытые пыльной сутаной. Его Фёдор сразу признал – отец-иезуит Энрике, попал как кур в ощип, дурень.
– А ведь я тебя предупреждал, падре, – усмехнулся казак. – Выходит прав был, а? Как в воду глядел. И какого ж рожна ты по доброй воле сюды попёрся? Выходит так, что мы в Хан-Кале? Если так, то до Грозной недалеко бежать...
– Я здесь затем, чтобы призвать местных уроженцев к коренному внутреннему перерождению. Помочь им уничтожить в себе их природное миросозерцание и на его место вкоренить новые воззрения и настроения мистического аскетизма...
– Дурак, – бросил Фёдор, обращаясь не столько к иезуиту, сколько к солдатику Кузьме.
– Дык его ж тоже оглоушили, как и тебя, казачок... вот и бредить, бедолага.
Непослушными пальцами Фёдор ощупывал и потряхивал неподатливую лесину. Но та не поддавалась, надёжно держала её каменистая земля. Глубоко сидело в ней основание ствола мёртвой сосны. Голова казака кружилась, в глазах сновали белые светлячки. Фёдор попытался было подняться на ноги, но короткая цепь, соединявшая ручные кандалы с ножными не позволяла распрямиться во весь рост.
– А тебя, Кузьма, не оглоушили? Язык поди бодро чешет всякую чушь. – Фёдор постепенно приходил в себя и начинал злиться.
– Эй ты, папаха, – рявкнул он в сторону дощатой двери. – По нужде желаю иттить. По большой и малой! Выпущай, иначе прямо тут опорожнюсь! Отворяй дверь, сучий потрох, и веди меня до ветру!
Фёдор шарил в пересушенной соломе, стараясь отыскать какой-нибудь предмет тяжелее яблока, но ничего не нашёл, кроме полупустого щербатого кувшина, из которого Кузьма подал ему напиться.
– Не пролей воду, казак, – буркнул солдат, угадывая намерения Фёдора. – Могет ещо долго ни питья, ни еды не получим. Сиди тихо!
Но тихо посидеть им не пришлось. Дощатая дверь отворилась, и в темницу зашёл их тюремщик – совсем юный пацанёнок в лохматой белой папахе и белой же черкеске, отделанной золотым галуном. Узорчатые ножны бились о его жёлтый козловый сапог. В руках паренёк держал простое кремнёвое ружьё турецкой работы.
– Что кричишь, гяур? Счас придёт Аббас и отведёт тебя на выпас. А пока сиди тихо, не то нагайкой по спине получишь. – Голос паренька то и дело срывался на фальцет. На вид парню было не более тринадцати лет. Розовый румянец пылал на смуглых щеках его, гладких и нежных, как у девушки, но чёрные глаза из-под сросшихся бровей горели опасным огнём неукротимого воинственного духа.
Ветхое, сплетённое из веток, обмазанное глиной и крытое дёрном узилище являло собой овеществлённую насмешку над каменными казематами крепостей. Фёдор видел их во время походов в Кахетию и Грузию. Довелось посетить казаку каменные мешки подземелий, заглядывать в крошечные оконца, забранные толстыми прутьями решёток, вдыхать зловонный дух заживо гниющих узников. Бывал он и в плену у горцев. Было дело: однажды зимой неделю просидел вот так же, прикованный цепью к стволу векового дуба под ледяным дождём и снегом. И ничего – сбежал, в конце концов. Повезло ему тогда – наткнулся на казачью разведку в зимнем лесу.
«Сбегу и сейчас, – упрямо мыслил Фёдор. – Как нить дать – сбегу».
* * *
Еда и питьё узников были скудны. Только хлеб и вода, но есть и не хотелось. День и ночь следил Фёдор воспалёнными от бессонницы глазами, как одна или другая тень в лохматой папахе с ружьём наизготовку, или оба разом бродили вокруг их узилища. Аббас – страшилище и Насрулло – неоперившийся птенец оказались опытными тюремщиками. По ночам казак слушал их тихие беседы: Аллах гневается – охоты нет, добычи нет, конь захромал – заболел, пока не погиб, убьём и съедим. Фёдор понял, что население Хан-Калы бедствует, голодает. Но их, пленников, берегут пуще зеницы ока, кормят, несмотря ни на что – значит, надеются получить выкуп.
«Бежать... Бежать», – упрямая мысль лишала покоя. Фёдор почти не спал и не испытывал голода. Он не давал покоя товарищам по заточению и тюремщикам, постоянно требуя к себе внимания. За это бывал бит нещадно сердитым Аббасом. Абрек бил казака до крови, но вполсилы. Из этого Фёдор тоже сделал некоторые выводы – не забивает до изнеможения, бережёт, на выкуп надеется. Бесшабашно скандаля, вынося унизительные побои, казак добился кое-каких преимуществ. Их обоих, и его, и Кузьму, стали водить гулять. До ветру. Правда, кандалы при этом не снимали, так и таскались они по Хан-Кале согнутыми в три погибели.
Отец Энрике денно и нощно молился. Он часами простаивал на коленях, прижимаясь лбом к шершавому стволу мёртвой сосны. Молитвенно складывал ладони и, уперев помутившийся от усталости и страха взор в прелую солому, шептал и шептал он на латыни. Его невнятное бормотание стало привычным сопровождением дружеских перебранок, спонтанно возникавших между Фёдором и Кузьмой-лапотником.
– Энто он по-латыни бормочет. Бога своего латинского на помощь зовёть и Богородицу ихнюю тож.
– Христос и Богородица у всех народов одне, дурень. Читал ли ты Евангелие? Там ясно написано: дело было в земле иерусалимской.
– Да что было-то, ирод?
– И Ирод тоже там, и дева Мария, и Иисус, и апостолы его. Дубина ты, ой, дубина!
– Не-е-е, я латинского боженьку на картине видел. Не такой он, как наш, а эдакий. И Мария ихняя баба как баба. А наша-то... Я, Федя, уподобился Казанскую Богоматерь лицезреть. И до сих пор помню чудный лик её...
Теологические споры казака и крестьянина исторгали из аскетической груди отца Энрике тяжкие стоны. Проповедник на прогулки не ходил и почти совсем ничего не пил и не ел. Добрый Кузьма волновался о нём, всё подсовывал под нос посудину с водой.
– Ну хучь попей, божий человек, если уж еду душа не принимает. Ну хучь глоток! Иначе кровя в жилах загустеет и остановицца. Так и до смерти не доживёшь!..
* * *
– Аббас, а Аббас, ты сам-то местного народу или пришлый? – Фёдор плёлся по крутым уличкам Хан-Кале, перешагивая овечий помёт босыми ногами. Кто и когда снял с него отличные, новые почти, яловые сапоги, казак не припоминал. Теперь ноги его были обуты лишь в проржавевшие чугунные кандалы. Медленная прогулка по уличкам горного селения была на руку разведчику. Исподтишка он внимательно смотрел по сторонам. Неустанно крутились в уме его приключения прошедших лет, когда сбегал он из плена, босой и безоружный, как сейчас.
Аббас-удалец время от времени втыкал рукоять нагайки казаку между лопаток, приговаривая:
– Шагай, гяур. Пока идёшь – ты жив. А вот придёт Абдаллах – и ты мёртв. Ешь, пей, испражняйся, пока жив, потому что придёт Абдаллах – и ты мёртв.
– Что ж за зверюга твой Абдаллах? – посмеивался Фёдор. – И откуда это он придёт? А чё так пусто-то у вас в ауле, а? Ни баб, ни детворы не видать. Все от Абдаллаха попрятались?
– Зря смеёшься, гяур. Абдаллах в набег ушёл. Уже гонец прискакал, что назад воинство идёт. С добычей. Праздник у нас будет. Богатая добыча у Абдаллаха, да и за вас троих выкуп не малый получим.
– А если не получите? – Фёдор обернулся, глянул в глаза конвоира. Аббас – воин немалого роста, на голову выше Фёдора, богатырского сложения, в сероватой побитой пулями бекеше, надетой поверх кольчуги. Лицо его до самых глаз покрывала невероятно чёрная, кучерявая борода.
– Тогда все мертвы, казак.
* * *
Воинство вернулось из набега следующей ночью, под утро. Гортанные вопли всадников, топот конских копыт, грохот повозок заполнили площадь в центре аула – место, где располагалась мечеть, эшафот и обмазанная глиной темница.
– Салам, Аббас!
– Салам, Абдаллах!
Фёдору ничего не видел через прореху в стене. Костерок дозорных горел в стороне. Фигуры абреков терялись на фоне тёмной горы. Слова заглушал топот, грохот и конское ржание. Фёдор напрягал все силы, чтобы разобрать смысл чужой речи.
– Всё трое на месте? Живы?
– Да...
– И священник, тоже жив?
– Жив пока...
– Цица – торгаш приедет – всех ему сдадим.
– И этих?
– Нет, Аббас. Этих Аллах уже призвал. Им – завтра срок.
– А сейчас?
– Сейчас их – на цепь. Завтра пир. Потом дело. Цица приедет. Смотри, как следует!
* * *
Их завали Бакар, Исмаил и Магомай. Все были молоды, голубоглазы, как волчата из одного помёта. Бакара положили в углу хижины. Тюремщики не стали надевать на него кандалы. Бедный Бакар не смог бы сбежать из плена, даже если б захотел. Он потерял обе ступни. Они были отсечены ниже колена. Кровь уже не текла. Кто-то замотал кровоточащие обрубки тряпьём. Юное бледное лицо Бакара могло бы показаться мёртвым, если бы не бисеринки пота, покрывавшие щёки и лоб.
Исмаил, самый молодой из троих, плакал. Слёзы непрерывным потоком текли по его испачканным кровью щекам. Он был красив свежей девической красотой. Против обычаев этих мест, юноша не сбрил волос на голове. Шелковистые тёмные, опалённые огнём локоны, волнами рассыпались по его спине. Украшенная серебряным шитьём чуха, порезанная и прожжённая, была надета прямо на голое тело. На узорчатом наборном поясе болтались пустые серебряные ножны, украшенные изящным чернением.
– Бакар, мой бедный Бакар... – бормотал Исмаил, отирая рукавом холодный пот со лба брата.
«Княжеские сыновья?» – подумал Фёдор.
Магомая, старшего из троих, привели в темницу скованным. Кандальная цепь, соединявшая ручные кольца с ножными, не давала воину распрямиться. Он шёл короткими шажками, вдвое согнувшись, словно придавленный к земле непомерной ношей. К чугунному обручу, сжимавшему его шею, короткой цепью крепилось пушечное ядро. Магомай старался придерживать его иссечёнными и исцарапанными ладонями. Но, даже в таком печальном положении, фигура Магомая источала мощь и величие. Могучие мускулы бугрились на плечах и спине его. Во взоре ещё не потух азарт боевой схватки. Следом шагал внимательный Насрулло. Дуло его замечательного ружья турецкой работы упиралось Магомаю в поясницу.
– Не приковывай меня к столбу, – пророкотал Магомай. – Не убегу, мальчишек не оставлю одних вам на растерзание.
– Абдаллах тебе не верит, Абдаллах тебя боится, – отвечал Насрулло. Тюремщик прикрепил свободный конец кандальной цепи к одному из колец на столбе, запер тяжёлый замок.
– Живи до вечера, шакалий вожак, а потом...
– Не скули, щенок. Скажи Абдаллаху: порву и его, и всю его свору, – прорычал Магомай.
Едва лишь дощатая дверь затворилась, он улёгся на солому рядом со столбом. Оттолкнув Кузьму ногой, как собачонку, Магомай мгновенно заснул. Он прижимал ядро к груди, как прижимает к себе молодая мать новорождённого первенца. Фёдор и Кузьма застыли, растерянно глядя на спящего пленника.
– Дайте воды, – попросил Исмаил. – Хоть немного воды.
Фёдор протянул ему полупустой кувшин.
– Твой брат не проживёт и дня. Так что ты уж пей сам, парень, – проговорил казак.
– Нам надо жить. Нас не убьют. Отец заплатит выкуп и заберёт нас, – так приговаривал Исмаил, протирая влажной ладонью неподвижное лицо Бакара.
– Нас не убьют... – снова и снова повторял он.
* * *
В ту ночь Фёдор не сомкнул глаз. Шум за плетёной стеной не утих и на рассвете. Когда развиднелось, казаку удалось рассмотреть причину ночного стука и грохота. За одну лишь ночь трудолюбивые руки установили на пустом до этого эшафоте дыбу и плаху.
– Господи, помилуй! – прошептал Кузьма. Солдат сидел на соломе рядом с Фёдором, плечом к плечу и так же, как казак, всматривался в рассветную серь.
– Не дай нам, господи, видеть это, отведи!
Ближе к полудню в дверь просунулась лохматая папаха Насрулло. Тюремщик поставил на пол рядом с дверью щербатый кувшин. Рядом положил лепёшку завёрнутую в листья подорожника – одну на всех.
– До ветру веди, – рявкнул Фёдор.
– Не ешь ничего, а на улицу всё просишься, – ехидно ответил мальчишка. – Видно, много в казацком теле дерьма накапливается за жизнь...
– Ты веди, веди, не рассуждай! Иначе я прямо тута... Эй, Аббас! Веди меня, а то пацанчик твой боится.
* * *
Над крышами курились дымы. Фёдор смотрел, как их сероватые струйки уходят в безоблачное небо. В ауле готовились к празднику. По немноголюдным обычно улицам туда и сюда сновали женщины. Заслышав бряцание кандалов, узрев суровый лик Аббаса, они все без исключения устремляли взгляд в землю. Даже старуха, нечаянно встреченная ими в узком переулке между глинобитными стенами сараюшек, опустила голову, поспешно убирая под тёмный платок белые космы.
Они вышли на край аула, на выпас. Сюда Аббас поочерёдно водил пленников на прогулку. В тот день здесь тоже царило оживление. По полю носились всадники на лихих скакунах. Загорелые лица, перечёркнутые блеском хищных улыбок, звон конской сбруи, свист нагаек, гортанные вопли, мелькание и блеск клинков разрушили умиротворённый покой горной долины.
– Джигитуют? Не навоевались разве? – усмехнулся Фёдор.
– Настоящий абрек всегда на коне, всегда в бою. Кони наши неутомимы, как и наши воины. Война – наше дело, битва – наша жизнь... – вещал Аббас. По временам его речи становились совсем бессвязными, превращаясь в гортанный вой. Всадники в папахах кружили по выпасу, то свешиваясь всем телом с седла, то становясь на него ногами. Многие могли пролезть под брюхом у лошади, не умеряя быстроты её бега. Фёдор смотрел, как джигитуют исконные враги его народа словно сквозь пелену тумана. Вековая ненависть мутила его разум.
«Соколик, где ты, дружочек?» – думал казак. Грудь его снова сдавила забытая было тоска. Та самая тоска, что неделю назад выгнала его из штаба Ермолова в дозор, на поиски приключений.
«Избежал ли ты стаи ночных хищников, братишка? Сыт ли? Кто напоит тебя, кто расчешет твою гриву? А может, жадный падальщик уже снимает мясо с твоих мёртвых костей?» – подлые мысли Фёдора нарушила увесистая затрещина.
– Испражняйся, гяур, поторопись. Мне ещё твоего товарища выводить надо.
– Ой, ой! Что же ты заставляешь меня делать, Аббас-ага?! Тут славное воинство к празднику готовится и тут же я буду дела житейские творить? К свадьбе, поди, готовятся? С добычей пришли самое время на брачный пир...
– Свадьба – хороший праздник, радостный, – буркнул Аббас. – Но больший праздник – убийство кровного врага. Славный Абдаллах помимо богатой добычи привёл в аул сыновей Абубакара, кровника. Завтра, когда солнце выйдет из-за горы, предадим их в руки Аллаха.
* * *
Обратно шли долго. Фёдору страсть как не хотелось возвращаться в темницу. Он тащился по пыльным улицам селения, стараясь заглушить кандальным бряцанием заунывные понукания Аббаса.
– Переставляй ноги, гяур. Живее, живее... вспомни о товарищах. Они ждут своей очереди. Мучитель ты. Злой, поганый мучитель братьев своих...
На улицах было по-прежнему многолюдно. Из открытых дверей домов слышался оживлённый говор. Казак украдкой посматривал по сторонам, запоминая и примечая.
Они шли мимо крошечного домишки, примостившегося на обочине поросшей жиденькой травкой площади. Фёдор глянул украдкой в распахнутую дощатую дверь. Белые стены, покрытая пёстрым ковром скамья, окованный железом сундук. Над ним на стене развешаны хозяйская нагайка, ружьё и пара пистолетов. Стройная тень высокой женщины мелькнула в дверном проёме. Быстрая походка, прямая осанка. Фёдор замер, словно в невидимую преграду упёрся.
– Ты бы снял хоть с ног обручи, Аббас-ага. Тяжело мне. Ослабел, не убегу. Посмотри, какой я худой стал. Еле ноги волочу...
– Иди же, гяур! Нет у вашего народа совести. Всех ненавидите – даже своих братьев! Злой ты, как дикий шакал!
И Аббас вполсилы ударил казака прикладом ружья между лопаток. Фёдор кулём повалился в дорожную пыль. Прижимаясь щекой к земной тверди, кряхтя и причитая, он неотрывно смотрел в пустой дверной проем неказистого домишки: не появится ли снова быстрый силуэт женщины чужого рода. Аббас пытался поднять его, поставить на ноги. Он хватал Фёдора за ворот рубахи, пытался подцепить под мышки. Он пинал пленника, бил по голове и спине прикладом ружья. Тщетно. Фёдор, словно придорожная трава, пустил корни в каменистую почву этих мест.
Наконец она появилась снова. Встала в дверном проёме лицом к улице. Только на этот раз коса её не была обвита вокруг шеи, а покоилась на левой стороне груди. Огненно-рыжие волосы переплетались с атласной лентой цветов небесной лазури. Она смотрела прямо на Фёдора Туроверова, но так, словно тот обратился в камень, в кусок скалы, брошенный на дорогу беспечной рукой неизвестного силача.
– Аймани... – прошептал Фёдор еле слышно. – Ты ли это?
– Вставай, гяур, хитрый шакал! Вставай, собака!
Фёдор услышал, как щёлкнул ружейный затвор.
Пуля ударила в пыль рядом с головой, в лицо брызнули мелкие камешки. На шум выстрела прибежали жёлтые козловые сапоги, следом за ними чёрные яловые и, наконец, остроносые чувяки поверх вязаных из козьей шерсти онучей. Били недолго. Сцепив зубы, Фёдор всё смотрел в проем дощатой двери туда, где недвижимо стояла она. Порой казаку приходилось прятать лицо за ладонями, спасая его от ударов. Он сплёвывал кровавую слюну, смешанную с горьковатой пылью. Временами женский силуэт исчезал в мутной пелене болезненного беспамятства. Но он знал, что он всё ещё стоит там и смотрит на него, скорчившегося в окровавленной пыли, под ногами у торжествующих победителей.