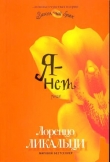Текст книги "Башня вавилонская"
Автор книги: Татьяна Апраксина
Соавторы: Анна Оуэн
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Телефон мягко дернулся в руке, как теплым носом к ладони притронулись. Номер был пустой – значит, не свои.
«Когда и где?»– спросил экран. «У вас, – ответил Алваро. – как побыстрее.»
Учения полковника Морана пришлись удивительно кстати. Уже в начале пути Алваро догадался, что делает группа на той стороне. Использует «коридор», построенный как учебный. Его – в свитере, с рюкзаком, очень чужого здесь, – принимали за студента-первокурсника, участвующего в ежегодной игре. Разноязычные советы, люди, лица, попутки.
– Что-то вы рано в этом году начали.
– В одном свитере, Господи, вон – возьми куртку.
– Вот еще деньги с вас брать…
Потом где-то кто-то отвернулся, или, напротив, сменил другого у пульта – или вовремя сработала глушилка, или случилась еще мелкая пакость, и машина с продуктами въехала беспрепятственно, провозя внутрь водителя с совершенно лишним пассажиром, и водитель хихикал в пышные усы, а Алваро старательно делал напряженное и невинное лицо. Была уже полночь.
На заднем дворе одной из, кажется, столовых, он помог водителю открепить платформу с продуктами, поблагодарил – а потом еще минут сорок распределял вместе с дежурными ящики по погрузчикам. А на третьем или четвертом его прихватили за плечо и сказали: «Ты что тут еще, смена закончилась, пошли.» И он пошел.
Верный телефон молчал. Ему не составляло труда молчать – он лежал в рюкзаке, разобранный на три части.
Ничего, дома быстро выяснят, куда он делся – и поймут, почему к нему нельзя дозвониться.
На темной аллее с двумя рядами аккуратных фонарей было изумительно тихо и пусто, Алваро не сразу понял, что дело в полном отсутствии птиц и мошек. Торчали незнакомые очень странные деревья, словно выдуманные для телесных наказаний. Вот ты какая, настоящая живая ель. Домашняя металлическая – рождественская, в лампочках, теплая – как-то приятнее.
Было слишком влажно и сыро, хотя куртка из грубой ткани с пропиткой не пропускала ветер не хуже гипотетического парашюта.
– А что молча? – спросил он тихо. – Это тоже какое-то правило?
Спутник – Алваро подумал, что тот ровесник или даже младше, во Флоренции ровесников было много, почти все после службы в ССО, солидные и самостоятельные, – взглянул искоса, словно быстро, на ходу ткнул датчиком. – Внутри мы проверяли, – кивнул он куда-то вперед. – Здесь…
Алваро вздохнул, опустил глаза к отсыревшей, поблескивающей дорожке и стал представлять, что он многоопытен, коварен и солиден.
Шагов через десять почувствовал, что у него начинает получаться.
* * *
Полковник Моран не любил здешних православных. Меньше он любил только иудеев, причем по той же причине. Возьмите народ, в котором нет жестких сословных и кастовых барьеров, и дайте ему Библию на чужом языке, которым больше никто ни для чего не пользуется. Не разговаривает. Не пишет научные труды. Не поет вне храма. Не сочиняет рифмованных непристойностей. Не рисует на стенах. Чего ни хватишься – ничего не делает, а только беседует с Богом. Почему? Потому что, когда отдельно – это удобно и красиво. Добавьте к этому века всеобщей дву, а потом и триязычной грамотности, распространяющейся опять же через религиозные школы. И что вы получите? Намертво аналитическую текстоцентричную культуру, всеядную, всевпитывающую, сухую, рациональную, привыкшую манипулировать огромными массивами, общаться и мыслить цитатами, с удовольствием разбирать любой подвернувшийся блок на детали и собирать из них новое – и использовать все, от рваной веревочки до погнутого гвоздя, в прямом смысле и в метафорическом. Для работы, для жизни, для игры. Особенно для игры. Все в мире произошли от обезьян. Эти – от дельфинов. Моран как-то освоил этот язык, этот способ мышления, но говорить на нем в неслужебной обстановке было для него пыткой.
Полковник Моран шел по вечернему кампусу к прекрасной женщине, и думал о том, что она католичка, спасибо Сообществу, и оно на что-нибудь да бывает полезно. На своем месте. «Я построю им часовню, – покатал он на языке заготовку для будущей остроты. – Этим и ограничимся. У нас светское учебное заведение, светское. Ох уж эти христиане…»
Дальше следовало сказать, что не тащит же он из Индии разнообразные храмовые культы; хотя шутка была далеко за гранью приличия и даже шутки ради не стоило бы поминать саму возможность воцарения проклятых многобожников, тем более – здесь.
Конечно, дела религиозные тут ни при чем. Ревность – совсем другое дело. Они просто вынести не могут, что кто-то имеет свои взгляды, свои методы, свое представление о верном. Это уже католическое. Никто так усердно не боролся с любым проявлением оригинальной мысли, разности в толкованиях одних и тех же слово их пророка…
Смешнее всего, что этот оплот нетерпимости прятался за ширмой Радужного Клуба; впрочем, и антиглобализм в Клубе напоминал разнообразие форменной одежды в пределах одного рода войск. Хочешь, парадный, хочешь, повседневный, перчатки по погоде.
Группа студентов, шедшая навстречу, вежливо переместилась на соседнюю дорожку. Полковник кивнул им – он не каждого тут помнил по именам, но вот в лицо знакомы были все. Должно быть команда грузчиков с вечернего дежурства в южной столовой. Вообще-то студентам до службы обеспечения дела нет и не должно быть, но карантин есть карантин, а учения есть учения. А раз на территории остались только те, кто тут живет – то грузить, мыть и готовить – тоже им. Военное положение.
В окне впереди горел свет – и полковник забыл о студентах, иезуитах, положении и грядущей своей победе, а помнил только о том, что там, за стеной, за надежно отсекающим осенний холод стеклом, ждут Цветы.
Уже в холле гостиницы он заметил парочку с общевойскового факультета, этих проректор знал не только по в лицо и по именам, но и по личным делам, жалобам, характеристикам – наизусть, как все ошибки, весь брак, неизбежно случавшийся в работе. Несложно было догадаться, зачем они здесь, хотя они моментально сделали вид, что имеют какое-то отношение к уборке холла.
– Нарушение распорядка, – улыбнулся полковник Моран. – Доложите своему куратору.
Завтра нужно будет посчитать, сколько таких нарушений за каждым уже набралось. Никаких больше мягких форм, никакого факультета управления. Хватит, наигрались – и поскольку про господина да Монтефельтро можно забыть, и пока что, и, будем надеяться, навсегда, – играть в дипломатию больше уже не придется.
Перед дверью он провел тыльной стороной ладони по глазам, стряхивая и забывая на время всю эту пыль, ерунду, мелочь.
Цветы смотрят на него, наклонив голову. Незачем спрашивать, чего эти двое от нее хотели.
– Чтобы все осталось как есть.
Они пили здесь чай. Запах все еще стоит в воздухе.
– Как есть?
Впрочем, если подумать, неудивительно. Щербина все же – уникум. Единичный случай полного брака. Если внутри детали – раковина, никакая внешняя обработка ничего уже не исправит. Остальных все же удалось научить тому, что такое ответственность и солидарность, и почему они, в конечном счете, всем нужны и выгодны. Даже самых неудачных – удалось. Можно слегка гордиться. И радоваться тому, что любая мало-мальски непредвзятая комиссия, любая инспекция обнаружит это и только это. Но радоваться хотелось другому.
– Вы стойко отражали натиск моих врагов, – сказал Моран.
Ему, конечно, сообщили обо всех визитах и беседах, встречах и «случайных» разговорах. О Смирнове с его букетом – пришлось идти самому с пустыми руками, потому что нельзя себе позволить смотреться хуже или сопоставимо, что ж, он придет запросто, без церемоний, после долгого тяжелого дня. Два декана, два проректора, студсовет россыпью, члены студенческого научного общества россыпью – не все, конечно, относились к категории врагов, часть просто удачно заполняла промежутки и оттесняла других. Цветы нужно было охранять от всех глупостей, мелких гадостей и беспокойства, которые могли причинить эти… комары. Он не догадался. Моран опасался, что Цветы решат, что он ограничивает их свободу, что он боится, что он слаб, и не сообразил, какая бессмысленно-изматывающая волна обрушится на инспектора…
– Врагов? – удивляются Цветы. – Насколько я понимаю, здесь у вас нет врагов.
– Вы мне льстите. Во всяком случае, я пришел узнать, не нуждаетесь ли вы в чем-то – в том числе, и в информации. Со вчерашнего дня наше положение несколько изменилось.
– Да, – говорят Цветы, и слегка сердятся. – Вы же лишили меня доступа к необходимой информации. Я понимаю, что у вас учения, и таковы правила – но я же не собираюсь играть со студентами! Вы делаете заявления в прессу, идет какая-то реакция – наверняка сейчас мой рабочий факс забит запросами от родителей и опекунов, а я ничего не могу сделать. Господин полковник, могу ли я вас попросить…
Полковнику очень хотелось наклониться и поцеловать женщине руку. Еще больше ему хотелось погладить эти темные лепестки, завернуть ее в себя, сказать «все будет прекрасно». После всего того шабаша, что на нее сегодня обрушился, после всего этого бреда, который успели развести в прессе – а ведь просочилось что-то неизбежно… она смотрит на него и делает вид, будто ничего не случилось, будто самой большой ее заботой является напрочь забитый рабочий факс…
– Может быть, вы хотите кофе или вина? – спросили Цветы.
– Кофе, если вас не затруднит, – со всей возможной признательностью ответил полковник.
Он не собирался работать ночью, да и вообще часов после десяти обычно уже плохо соображал, ранние сумерки нагоняли тоску и отбивали фантазию, а впереди была еще целая зима, здешняя зима, с ее заходами солнца к четырем часам, но в самом предложении было что-то более домашнее и интимное, чем в предложенном бокале вина. Хорошо пить вино с прекрасной женщиной, но вот это – округлые движения, легкие шаги Цветов, хруст меленки для пряностей, запах корицы и ванили, плещущиеся рукава, улыбка, хрупкая как яичная скорлупа желтоватая чашечка в ладони…
Очень трудно будет уйти отсюда – как из собственного дома, из щедро натопленной светлой комнаты в пустую промозглую ночь.
– Замечательно… – сказал он, и это правда было замечательно.
– Меня когда-то тренер научил, – улыбнулись Цветы, – Еще в прошлой жизни. Я тогда пила кофе редко – и хотелось, чтобы он был… запоминающимся.
– А теперь?
– А теперь он стал немножко рутиной. Но это всегда происходит, когда делаешь что-то только для себя. У вас здесь все очень уютно устроено, как я поняла – это была ваша идея.
– Моя. Поначалу было много споров. – вспоминать приятно. – Ведь на работе, в большом мире, сложно устроить себе идеальные условия. Особенно в нашей области. Во многих случаях просто нельзя. И вообще все боялись институционализации. И даже отчасти не зря, многое пришлось менять, подгонять. Но сама линия оказалась правильной – сначала нужно положить фундамент. Человек, освоивший специальность – он может потом работать где угодно. И не испытывать особых сложностей, об этом позаботятся профессиональные навыки. Но вот приобретать эти навыки легче, когда вся нагрузка – на тело, на органы чувств, на разум – осмысленна и целенаправленна. Когда в системе нет шума, в том числе и бытового.
Он говорил это не в первый и не в десятый раз, объяснял примерно одинаковым образом, но его редко слушали внимательно. Настолько внимательно, что понимаешь – сказанные тобой слова имеют значение, все до единого. Люди не умеют так слушать, а вот Цветы умели. Если за это надо сказать спасибо Сообществу, значит, спасибо… но другие не умели. Цветы – это Цветы.
Он говорил о начале, и сам удивлялся – как давно это было, почти двадцать лет назад: ему тогда, после Кубы, настоятельно посоветовали уйти на преподавательскую работу – и как раз в городе, где он родился, открылась подходящая вакансия.
– Я и сам когда-то учился здесь, здесь было черт знает что, простите, но именно черти что на базе военной академии. Половина факультетов военная, все вперемешку, никому не было дела. Потом стало можно что-то менять.
Потом, когда Совет заинтересовался, кому доверяет оружие. Когда сочетание наплевательства с безнаказанностью выплеснулись на Кубе. Он до сих пор помнил поименно всю свою роту сопляков, это очень стимулировало отвоевывать каждое изменение, каждую поправку.
– Карибский кризис. Мне всегда казалось, что это не название, а эвфемизм.
– Эвфемизм… Вы точны и милосердны. Это были все наши ошибки, взятые вместе. Мы влезли со своей миротворческой операцией в локальный кризис власти, вот тут слово «кризис» будет уместным, без нас они разобрались бы за месяц-два, и превратили его в гражданскую войну. В самый худший вариант гражданской войны, в войну, которую ни одна сторона не может выиграть быстро… Общество пошло по швам – и думать не стоило пытаться скрепить его силой, а уж тем более извне. А мы ничего, ничего, ничего не знали. Мы не знали, кто стреляет в нас – и почему. Мы не знали, в кого стреляем мы и в кого должны стрелять. Мы не понимали, почему от нашего вмешательства становится только хуже. Мы теряли людей, люди теряли контроль над собой… но это все же личные чувства, а тысячи местных жителей, погибших потому, что над их головами воевали, что не было ни света, ни воды, ни снабжения, ни врачей – это статистика, от которой трудно отмахнуться. Мы тогда все ругали Совет, руководство операции, всех… голов полетело много. Но руководство тоже действовало во мраке – и даже не подозревало об этом.
Цветы смотрят сочувственно, кивают. Шелково блестящие черные лепестки с гранатовым отливом упруго неподвижны, плотно прилегают друг к другу. Вокруг них струится теплый, зеленоватый, слегка терпкий аромат. Кофе почему-то не помогает проснуться. Наверное, здесь слишком тепло, но не просить же открыть окно, ни в коем случае нельзя. Цветы могут простудиться.
– Я обратила внимание, что в воспитательной работе очень большое значение придается этическим аспектам, – говорят Цветы. – Это, как я понимаю, ваше новшество. Обычно акцент делается на дисциплине, формальных мерах.
– Боюсь, что мои коллеги и я в этом вопросе скорее солидарны с предками наших китайских друзей. Невозможно усторожить сторожей. Сколько уровней безопасности ни пристрой, какие выгоды не повесь пряником, каким страшным ни сделай кнут – но нельзя уберечься ни от ошибок, ни от злонамеренности, ни от равнодушия и некомпетентности, которое в нашем деле равны злонамеренности. Система может запроверять себя настолько, что перестанет работать, разложиться от безнаказанности, впасть в оба греха одновременно. Я это видел и вы наверняка это видели. – Редкий случай, усмехнулся про себя полковник: проповедуешь обращенному. – Что остается? Сделать сторожа честным – изнутри, насколько это возможно. Пусть он сторожит себя сам.
– Я вас до сих пор не спрашивала, – мягко шелестят Цветы, – как вообще получилась вся эта история с жалобой…
Полковнику Морану нравятся переходы мыслей, понятные, закономерные связи между тем, что Цветы слушают, и тем, что Они говорят. Очень правильный разговор, очень точный.
– Она не возникла бы, если бы я доверился своему опыту, – разводит руками Моран. – Я потратил довольно много времени на то, чтобы ввести в рамки этого студента… не удивляйтесь, да, я проректор – но всегда стараюсь лично участвовать в подобных ситуациях, у нас индивидуальный подход. Затея представлялась мне безнадежной, а потом на факультете сменился декан, и она подошла к делу более решительно: студент оказывает разлагающее воздействие на сокурсников. Но тут вмешался господин да Монтефельтро, который, настоятельно попросил меня потерпеть, а студента перевести на факультет управления. Именно туда. Он, цитируя его дословно, сказал «ну а потом хлопот у вас больше не будет». Как видите…
– Я боюсь, – печально качают головой Цветы, – что в тот момент было очень трудно предвидеть весь спектр последствий. Даже господину да Монтефельтро.
Нужно быть справедливым…
– Да, я думаю, что именно здесь он не вводил меня в заблуждение. Трудно было предвидеть, что Щербина со всеми его характерными недостатками переживет войну с вашим Клубом, а потом и конфликт с Советом. Господин да Монтефельтро был со мной нечестен в другом.
– В чем же? – Цветы осторожно забирают из рук чашечку. Прикосновение рукава, прикосновение пальцев, опять шаги по комнате, босиком… обязательно нужно подарить ножные браслеты с нежно позвякивающими бусинами, тогда все будет правильно.
– В том, какую организацию он здесь представлял на самом деле. И какие цели преследовал. Простите меня, но я до последнего времени считал господина да Монтефельтро товарищем по оружию, подчиненным, перед которым я был виноват тем, что не смог его защитить от вещей, с которыми солдаты сталкиваться не должны, мы только что говорили об этом, и коллегой, которому я был многим обязан. Я не знал, что для господина да Монтефельтро я и университет – овца, которую откармливают, чтобы зарезать.
Цветы оборачиваются, держа поднос на ладони.
– Господин да Монтефельтро мог представлять только самого себя. – Немножко другой голос, немножко другой взгляд. – Что до организаций, можно сказать, что ее представляю здесь я.
Ее все-таки очень хорошо учили. Голос, посадка головы, даже тень легла иначе, ровнее. Другой бы обманулся. А третий, не обманувшись, не принял бы всерьез. И тоже ошибся. Женщина, защищающая свой дом, свою семью – как ее ни называй – может быть страшным противником, даже если мало что умеет. Цветы умеют. До чего же она хороша и желанна именно сейчас…
– У меня тоже есть дом, – говорит полковник.
Она поднимает руку к виску – ей пошли бы и браслеты, много сталкивающихся, перепутанных тонких серебряных браслетов, – осторожно прижимает подушечки, словно пытается поймать бьющийся под кожей сосуд. Кажется, не первый такой жест за вечер, просто раньше они были совсем украдкой.
– Я вас понимаю, – говорят Цветы. – Совершенно нельзя допустить какого-то незаконного вмешательства.
Что я делаю, думает полковник, что я делаю. Я же хотел оградить ее от всех этих кровососов, дать ей отдохнуть. И сам бью по больному, отнимаю силы… она же и правда все понимает. И мне ли не знать, что такое настоящая лояльность?
– Теперь я догадываюсь, почему все герои мифов возвращались в реальный мир позже, чем следовало бы. Они теряли представление о времени. Но я не герой мифа и позволить себе этого не могу. Огромное спасибо за кофе. Я надеюсь как-нибудь еще раз злоупотребить вашим гостеприимством.
Он не может прочитать облегчения. Но догадывается, что оно есть. А вот напряжение, тяжелое, дымное, там за спиной, он чувствует, несмотря на то, что Цветы продолжают улыбаться и, провожая его, кажется, не касаются ступнями ковра.
– Не беспокойтесь, – говорит полковник, – все, что могло случиться, уже случилось. Больше ничего не будет. Сила не на моей стороне, но за нами нет злоупотреблений, а вот у меня в запасе очень много интересных сведений, в том числе и о Сообществе. Мы слишком крепко держим друг друга за горло, чтобы кто-то рискнул дернуться. Так оно и останется. Все будет хорошо.
Она зябко поводит плечами – в холле и правда прохладно, не она, они, Цветы, поправляется он в уме, Цветам холодно, Цветы вышли провожать его босиком, очень хочется поднять ее на руки, но пока еще нельзя. Какое вдруг у нее грустное лицо, безнадежное, словно она не верит в его возвращение, или просто тени так ложатся?
– Вы немного ошиблись… у вас нет и не может быть сведений, порочащих Сообщество Иисуса. Это такая простая вещь, вы могли бы и догадаться. Не бывает компромата на Сатану. – Цветы улыбаются спокойно и пусто. – Единственный возможный компромат на Сатану – это что он самозванец. Что он не настоящий. Что он – слаб. Самые черные дела, самые жуткие интриги – это то, чего от него ждут. Не простят только некомпетентности. Вот если бы вы ударили сразу всем, чем есть, и застали нас врасплох, да, тут у вас все получилось бы. Что это за дьявол, который не может уследить за каким-то проректором? Нам бы перестали верить. Но вышло иначе, и в глазах мира мы по-прежнему Князь Тьмы. По праву ума и силы. Берегите себя, полковник.
* * *
– Побереги себя, полковник, – невозможно было удержаться от хулиганства, невозможно же.
Анаит громко хлопнула дверью перед носом Морана, развернулась и на полном ходу влетела в темную спальню. Если хочется и хохотать, и выть одновременно – это истерика, она, она, непобедимая!..
Но невозможно же. Идиот, солдафон, кабан несчастный. Кажется, готов был волочь ее в спальню.
Аляповатая ваза с хвостатыми грифонами местной разновидности полетела в стену…
…и в темноте беззвучно исчезла.
– Кто здесь?! – не удержалась от сакраментального вопроса Анаит, но в полный голос кричать не стала. Услышит спутник, быть беде. А хотели бы убить, уже убили бы…
Вот была бы сцена – Моран во всей красе вносит на руках бесчувственный трофей, и тут… спасительное бэнг-бэнг.
– Добрый вечер, – сказал совершенно незнакомый голос. Щелкнул переключатель ночника. В кресле у кровати покачивается… вместе с креслом покачивается, и лелеет неразбитую вазу господин Шварц, хорошая франконская фамилия, редкая, спасибо, что не Мюллер. Декан факультета спецопераций. Пьеро здесь сегодня уже был, теперь Арлекин пожаловал.
– Я пришел сюда под покровом ночи, чтобы предложить вам рискнуть репутацией.
Лысину Шварц волосами не закрывал и не припудривал, а потому даже свет ночника заставлял ее отбрасывать блики.
– Прекрасный сэр, если вы продолжите, как начали, – заключила Анаит, – я в вас сейчас влюблюсь.
* * *
Она ожидала вызова к руководству, хотя не знала, не могла точно просчитать, будет ли это признаком провала, или наоборот – благоволения. Она могла получить повышение после сегодняшней работы, но этим занимался бы начальник отдела, вероятность процентов 70. Могла услышать об этом от мистера Грина лично, значит, все хорошо, где-то за пределами аквариума, за пределами башен Совета все сошлось, срослось, связалось. Могла и вылететь вон из комитета, по какой-нибудь несущественной или по ядовитой несмываемой причине. Не угадаешь. Первое дело такого рода может оказаться и последним, но Анна уже поняла: вот эти часы полной неопределенности будут всегда, и в первый, и в сотый раз. В сотый страшнее, большим рискуешь.
Мистер Грин вызвал ее в половине восьмого, перед самым концом смены – а с шести, с его прихода ей показалось, что вокруг образовался полупроницаемый информационный «стакан». Поток сведений становится тише, напор слабее. Впрочем, все нужное для выполнения задания – сводки по ночным официальным выступлениям, – есть. Детская работа, в общем и целом. Но чтобы не заснуть прямо на месте, годится и такая.
И вот она сидит в кресле. В удобном кожаном кресле, из которого не встать рывком – слишком глубокое, слишком низкое, а мистер Грин пристроился на краешке стола, перекосившись в трех направлениях, а за окном начинается рассвет, сверху черным-черно, по горизонту алая полоса, Старый город перламутрово светится ночной подсветкой. Жемчужина на бархате, бархат в витрине, витрина в магазине «Route de la Soie», магазин на площади Менял.
– Аня, – говорит мистер Грин, – вы послушайте меня, пожалуйста, до конца. Я вам дам возможность сказать все, что хотите, и так долго, как хотите. Но сначала вы послушайте меня. Во-первых, с вами совершенно ничего не случится. Я хотел посмотреть, что вы сделаете, я не стал вам мешать и предупреждать вас, я отвечаю за эту утечку, по крайней мере, наравне с вами, а на самом деле больше – потому что я ваш начальник. Так что бояться вам нечего. Но есть еще и «во-вторых» и оно звучит так: это никуда не годится. Вы работали с данными расследования. Вы решили, что было бы неплохо осторожно познакомить с этими данными Ученый совет Новгородского филиала, чтобы они поняли: бомба взорвалась благодаря глупости Морана и реакции частных лиц, а Совет и Антикризисный комитет Совета никого не хотят сносить с лица земли и по-прежнему открыты для компромисса. То есть, я не думаю, что вы это так формулировали, скорее, это звучало как-нибудь так «ИванПетрович и Дядюшка должны это знать, чтобы они могли удержать остальных»… Идея хорошая, богатая. Аня, вы мне можете объяснить, почему вы не пришли с этой идеей ко мне? Вы взрослый человек, вы видели, что за карты вам сдали. Если вы доверяете мне – вам следовало попросить разрешения на утечку. Если не доверяете… то тем более должны были понимать, что вас по этому сценарию могли подставить и распять. И не только вас – но и все руководство филиала. Как бы они смогли доказать, что вы – не внедренный агент? Факт передачи информации налицо…
«Ой», думает Аня.
Ой – это значит:
– мысль первая: нас слушают, нас пишут; что-то очень сильно сорвалось и пошло не туда, но им сейчас невыгоден еще один скандал вокруг университета, поэтому сейчас все будут спускать на тормозах – мне нотацию, напоказ, для ушей, а потом меня куда-нибудь тихонько задвинут, но потом, не сейчас – все это ход;
– мысль вторая: а может быть, у мистера Грина что-то сорвалось таким образом, что ему надо сейчас сделать такой вот манифест о сотрудниках, показать на моем примере, что за кого-то где-то там он будет отвечать сам, как старший, а я здесь только в качестве затычки;
– мысль третья: а если все это действительно провокация, которая может быть использована против филиала? Только не в лоб, как звонок Морана, а более изящно и действенно?
– мысль четвертая: здесь может быть еще какой-то сценарий, но если мне дали подсказку, как отвечать и по какому плану действовать, то я ее в упор не вижу, и это очень плохо, потому что заминок быть не должно, а все время, отпущенное на естественную паузу «собраться с мыслями», кажется, почти утекло.
Мистер Грин поднимает руки.
– Подождите, Аня. Не нужно гадать. Вы слушайте. Я не даю вам установку и не предлагаю вычислить правильный ответ. Я с вами разговариваю. Люди разговаривают друг с другом. Если задача контакта – вынудить другого совершить нужное действие, значит человек там только один. А второй – инструмент или животное. Даже рабам, Аня, отдают приказы прямо. Ах да, я пропустил один пункт. Инструмент, животное или враг. А вы – человек и мой сотрудник.
Она хлопает глазами, поправляет манжету блузки, с ужасом обнаруживая посеревшую кромку, набирает воздуха в грудь… и ничего не говорит. Дура дурой. Ощущение, что все это какая-то довольно хитрая деталь некой большой операции, не исчезает. Торчит, как новая пломба в зубе, все время прикасаешься языком и не можешь про нее забыть.
От затылка по лицу, по шее ползут мурашки. Кофе, стимуляторы, стимуляторы, успокоительное, четыре таблетки анальгетика, еще кофе… два или три. Сутки очень интенсивной, очень ответственной работы. И за полчаса до конца – такая задачка.
«Тьфу!» – думает она.
Тьфу означает:
– безоговорочную капитуляцию перед иезуитским коварством;
– готовность смиренно принять любую судьбу, вплоть до пожизненного заключения;
– желание немедленно воссоединиться с кроватью и подушкой, а там хоть трава не расти;
– намерение наказать изверга его же оружием.
– Но вы же этого от меня и хотели, – говорит Анна.
– Если вам нужна правда, нет, я этого от вас не хотел. Я поставил вас на расследование, потому что знал, что вы справитесь. Задача вам по силам – и вы хорошо мотивированы. Еще я думал, что вам стоит посмотреть близко на то, что происходит – и успокоиться. Я не возражал и против утечки – успокоиться нужно было не только вам. Но я бы предпочел, чтобы вы со мной ее обсудили. Вот так. Но это – не главное. Главное совсем другое. Вы не должны были этого делать, даже если бы я этого хотел. Вы человек. И я человек. Люди разговаривают, принимают решения и делят ответственность.
Кажется, понятно. Это был личный тест мистера Грина. И нигде не грохнуло, ничего страшного не вышло, судя по текущей беседе, но… тест, видимо, провален. Первый раз перед рассветом, когда она аккуратным приложением к сообщению по личному мобильному переслала кое-какие материалы ИванПетровичу и еще одному человеку. Сами по себе они не были особо секретными. Половина – официальные материалы Совета, которые пойдут в ежемесячный сборник, вторая половина – внутренняя переписка. Тут дело, преимущественно, в порядках и последовательностях. Кто дал запрос, кто, как скоро, как ответил. И второй раз сейчас, на объяснениях.
Потом ее перестает волновать тест и собственное преступление. Вот оно, вот оно… какой там хвост, подумаешь, хвост – у каждого кота. Вот оно, Сообщество, и его там высокое положение, вот оно!..
До нее доходит весь масштаб инакости, чуждого менталитета, стоящего за претензиями мистера Грина. Накрывает лавиной. Выворачивает наизнанку. Этого… не может быть. Не может быть сложной скрытой структуры, построенной на вербализации намерений и прозрачности коммуникаций!
Но раз люди разговаривают… сами напросились.
– Наша работа – понимать, что нужно. И делать. Ваша работа – знать, что следует сделать. Вы ничего не говорили, я ничего не слышала, а все, что необходимо, случилось само собой. Вы ценнее меня. Сможете меня прикрыть – хорошо. Но вы в любом случае не пострадаете. Если я буду думать о себе и все будут думать так же, дело встанет.
Мистер Грин закладывает руки за голову. Смотреть на него в этой позе – как в самолете лететь, уши закладывает, вестибулярный аппарат чуть не матом протестует.
– Запомните, Аня, гнев – смертный грех. И реализация его никогда ни к чему хорошему не приводит. Это я не о вас, а о тех, кто растил из вас… честолюбивую жертву по найму. Я их даже отчасти понимаю – у нас лет триста назад возникла похожая проблема. Если дело летит в тартарары, потому что все заняты тем, чтобы прикрыть себя от последствий, есть большое искушение пойти от обратного. Внушить людям, что смысл их существования – быть вещью вышестоящего. Хорошей, полезной вещью. Трупом в руках начальника. Вы сами можете догадаться, какими были последствия этой замечательной идеи.
– Я не вещь, – говорит она возмущенно. – И не жертва по найму! – Хотя и честолюбивая, что есть, то есть, но это мы опустим. – Я сама выбираю, кому и где… Но если уж я играю, то я играю. До конца. Если бы вы не хотели, чтобы я это сделала, вы бы меня не поставили и не сдали мне все карты, как сами сказали. Нужно спрашивать? Хорошо. Я была уверена, что из этого могут произойти неприятности, и вообще так… ну, не принято, но если вам нужно именно так. Вот вы и говорите тогда, словами, что вам надо и как.
– Не мне. Вообще нужно именно так. И конечно, я буду говорить словами – я вам потому сразу и сказал, что отвечаю за происшедшее больше вашего. Кстати, Аня… – интересно, ему говорил кто-нибудь, что у него пластика как у насекомого? – То, что вы вчера сделали, делать можно. Совершенно нельзя, но можно. Если необходимо именно это – и если вы так решили. И это можно, и не такое можно, вы уж поверьте, я делал. Но не автоматически, не потому что это носится в воздухе. И уж точно не потому, что от вас этого захотел кто-то другой.