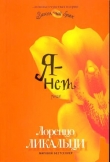Текст книги "Башня вавилонская"
Автор книги: Татьяна Апраксина
Соавторы: Анна Оуэн
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Задерживать его никто не собирается.
– Не получилось. – грустно говорит Левинсон, возвращаясь. – Не клюнул. Он, представляете, даже жучка здесь не оставил. Даже не попробовал. Значит, и в самом деле не хочет. И разонравился я ему. Вы не беспокойтесь, он не пропадет. Он крепко держится, на самом деле. Ну ладно. Госпожа инспектор, что у нас еще на повестке?
На повестке – ничего. Можно было бы еще побеседовать с Лехтинен, если бы она согласилась, но Анаит все-таки не следователь, никогда не пыталась им быть, и в эту-то авантюру полезла только из желания довести дело до конца, расставить точки над i. Из нестерпимого любопытства, если на то пошло. Как хозяин квартиры, который помер бы, не разобравшись.
Очень хочется что-нибудь придумать. Важный непроясненный вопрос, интригу, приключение, натертую ногу. Потому что снаружи еще холоднее, чем вчера, а здесь натоплено и светло, и вот хозяин стоит против света, может быть, намекая, что пора и честь знать…
– Кстати, о повестке… Анаит, вы ведь из Крыма? Вы должны любить печеную картошку. В глине?
– Мне ее в детстве есть не давали. – улыбается инспектор, – Страшное слово «углеводы». Так что очень люблю. Но ем редко… а где вы взяли глину?
Почему-то картинки в сознание лезли тоже из «черного» кино – человек ночью копает кому-то могилу в промерзшей глинистой почве, а потом, засыпав яму, собирает в пакет немного глины – для картошки.
– К сожалению, источник совершенно прозаический. В клубе взял. В гончарной мастерской. Потому что фольга – это не то.
– А где мы ее будем печь?
– На кухне. Если не пойдем на берег.
– А мы не пойдем, потому что там холодно!
– Значит, мы туда не пойдем.
– Ни-ког-да!
– Глина кончится.
– Я – воспитанница иезуитов. Вы – специалист по секретным операциям. Что-нибудь придумаем.
– Хорошо. – легко соглашается Левинсон. – Что-нибудь придумаем.
* * *
– Ты перестань мне петь, что ты импровизатор! – руки госпожи ФицДжеральд порхают над клавиатурой, глаза смотрят вообще непонятно куда, наэлектризованные волосы шевелятся, тоже, видно, печатать рвутся. – Ты мне перестань петь. Что я, твоих импровизаций не видела? Не наглоталась их по горло и выше? Ты свои импровизации иногда по году готовишь. И никогда на пустом месте не крутишь. Но ты нас втемную уже погонял, спасибо.
Клац-клац-клац – текст закрыт и отправлен, новый вылез на его место, кажется, сам.
– В этот раз, – как она отличает очередной яблочный шарик от манипулятора? Съест же рано или поздно, – я хочу все знать заранее.
А то она меня в очередной раз будет в свежий труп носом тыкать, как будто от этого трупа кому-то стало жарко или холодно. Плохой был человек, и помер плохо; а что все в очередной раз оказалось не так – чему удивляться. Карусель. Лабиринт с масками. И кружит, и кружит. Супруг ее достопочтенный, оказывается, чистую правду говорил – то есть, вообще ничего в виду не имел. Кроме конца света. Который ему увиделся. Но не там, не в университете, и не в Совете, а где?
Теперь вот неожиданно изволь, уже убедившись, что сильно промахнулся, выдумать речь, ответы на вопросы, позицию и стратегию. Причем такую, чтобы госпожа ФицДжеральд ею удовлетворилась. Прямо сейчас. А пшено от проса вам отделить не надо?
– Мы чего хотим? – думает вслух Деметрио, вымеряя кабинет шагами. – Мы хотели, чтобы к нам не лезли. Пока мы сами на ноги не встанем. Хотели, значит…
Рыжая бестия с остервенением скребет ногтями по клавиатуре.
– А сейчас чего?!
– А сейчас не знаю, как мы, а я хочу кусок пирога. – заключает Деметрио. – Потому что от вас же нельзя отгородиться. Всегда что-то случается. Вот спрашивается – где мы, а где какой-то сумасшедший проректор в Новгороде? А из-за него все вверх дном, причем не только у нас, но и у того же Прието. Если б не Моран, разве его ребятишки стали бы так с убийством торопиться? Они бы туда к каждому заседанию правительства приезжали, на тот перекресток – и высидели бы меня как миленькие, не в первый раз, так в третий… В общем, не вижу я других вариантов. Нам нужно туда, за стол. Чтобы хоть какая-то видимость была. А то как в плохом кино – из тумана на берег вылезает древнее чудовище. И так в каждой серии.
Джастина сама сейчас похожа на чудовище.
– Слушай, ты, депутат… а тебя когда-нибудь с пристрастием допрашивали?
– А что?
– Да вот понимаешь, ты мне только что похерил половину работы, – очень спокойно отвечает рыжая. – И я думаю… а если тебя взять щипцами за что-нибудь нежное, может, ты все-таки определишься окончательно? Или тебя уколоть чем-нибудь? Или еще как-то? Ты сам-то уверен, что ты и завтра будешь хотеть того же?
– Нет. – копирует ее интонацию Деметрио. – Не допрашивали. Меня, понимаешь, чужие ловить-ловили – да не поймали. А свои обычно грозились только. Ну в полиции били пару раз, но это не считается. И я не уверен… вдруг я на ваш Совет посмотрю внимательно – и захочется мне от такого зрелища куда-нибудь, где вас еще нет?
– На тот свет.
– Не выход.
Рыжая отодвигает клавиатуру, отодвигает манипулятор, опускает голову на скрещенные руки и воет, все громче и громче. Если бы Деметрио не знал ее, в общей сложности, страшно сосчитать, сколько лет – испугался бы. Женщина, тоненькая такая, руки у нее… как фарфоровые. Довел. Но он знает – и уже почти год лично – и потому опасается за себя. Она вот этими руками…
Джастина поднимает голову. Лицо белое, доброе-доброе.
– Сядь, – говорит. – И внемли. Я этот Совет знаю наследственно. У меня в нем вся семья так или иначе, кто не удрал вовремя. Там всякой твари по паре. Дураков полно, карьеристов, психов. Шизофреников всяких и параноиков. И каждый – интриган, и каждый в своей подкомиссии по рационализации валидизации царь и бог. Но вот кого там нет, не выживает – тех, кто не умеет думать на пять, на десять ходов вперед. Только не так, как ты привык – в поле с оружием. Или в телевизоре вашем. А с циркуляром и меморандумом наперевес. И эти бумажные тигры от тебя косточек не оставят, если ты, террорист чертов, не начнешь думать головой.
Сесть… отчего же не сесть?
– Они меня сейчас растерзают в любом случае. Я подставился. Описал возможное будущее как настоящее и полез защищать детишек от страшного Совета. Оскорбил их на годы вперед, а доказать, что прав – не смогу. Не произошло ведь? Значит, они правы, а я нет.
– Пораженец проклятый… Нет. Все не так. – Женщина жмурится, как будто у нее от духоты голова кругом идет. – Ты привлек внимание к очень большой проблеме. Ты показал Совету, как на него смотрят миллионы людей. Взбаламутил болото. Не случилось? Потому что ты назвал дракона по имени. Теперь они вынуждены оправдываться и объясняться. Вызвать тебя на слушания – это форма оправданий. Так что у тебя позиция – да у Франческо такой не было… народный заступник, защитник детей и голос того простого человека, ради которого существует сам Совет.
«Заступник, кто бы самого заступил. – весело думает Деметрио. – И ведь дальше будет только хуже. Только хуже, а лучше не станет никогда. Работы слишком много»
– Это… само собой. Думать циркулярами я еще не научился, но вот свои пять ходов я вижу. С тех пор, как меня вызвали на ковер, у меня почта гудит, не умолкая. Телефон я просто выключил, а секретариат не может – и они охрипли все. И в основном это не журналисты. Это соседи по континенту. Они хотят, чтобы я их представлял – поперек корпоративных структур и структур МСУ. Выступал от их имени. Поддерживал. Просто упомянул вслух. И про половину я даже не знаю, кто они такие, а я, уж поверь мне, слежу за рекламой.
– Ага, – кивает рыжая. – И если ты это профукаешь, они не успеют до тебя добраться. Я успею раньше. А они, конечно, хотят, отчего же им не хотеть, но разобраться в этом салате мы не успеем, и за год не успеем, так?
– Так.
– Значит, и не будем. Пусть держатся за тобой. И они будут, если я хоть что-то понимаю в здешних играх. Пока ты стоишь на ногах, они будут идти за тобой, как утята. И корпорации – за мной.
А ведь если бы я пришел и попросил о том же самом, что бы со мной сделали… ничего бы страшного не сделали, но от ударов о лобовое стекло машины идеально круглых синяков на весь глаз не бывает. Их практически ни от чего не бывает, идеально круглых, только от госпожи Джастины ФицДжеральд. И объясняй потом.
– Тогда давай поменяемся. Я читаю твой рапорт, а ты мой.
* * *
Мир был плоским. Даже не плоским. Он почти и не был. Плохо распечатанная книжная иллюстрация. Черно белая, угловатая, дырявая, на примерно четверти точек вместо квадратика – черного или белого – пропечатался код, обозначающий цвет… туда даже смотреть не хотелось, зацепишься взглядом и провалишься в дыру, начиная с глаза – а там, по ту сторону, ничего нет, вообще ничего, даже пустоты. Даже падать некуда. Только лежать слоем толщиной в молекулу и – если повезет упасть на спину – видеть над собой латинские буквы и нули. Интересно, чем видеть? Чем-то. Вот чем сейчас.
Самый противный, самый гнусный период – набор информации. Ты тянешь ее и тянешь – и кажется, что никогда ничто уже не станет плотным, что ты не вернешься в вещный мир, не найдешь дороги. В прошлый раз вернулась. И в позапрошлый. И в… Не помогает. Потому что сейчас прошлого нет. И позапрошлого.
Сейчас женщина стреляет. Очень хочет выстрелить, вот и стреляет. И поет. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka herran laissa vaeltavat.
Другая женщина, которая смотрит; которая несколько часов назад спокойно дремала рядом с тем, кто сзади, кто за спиной. Его слишком много за спиной, слишком мало в поле зрения. Женщине не страшно, а должно бы. У нее там, позади, старый механизм, зацепивший за руку и потащивший в переплетения колес, валов, шкивов, потащивший всех вокруг. Старый, надежный, скрежещущий, смертельный механизм.
У нее впереди – старое, многолетней выдержки безумие кубинского урожая. Старое вино, старые мехи – и через щели под давлением бьет, брызжет, разъедая не столько окружающее, сколько остатки собственных границ.
Статисты вдалеке. Невидимые статисты вблизи. И неожиданностью, пулей со смещенным центром – первая женщина. Проскользнула, кувыркнулась на невидимом листе – и ударила в другую мишень.
– Ничему не верю, – говорит Кейс. – И у него что, патроны холостые?
– Разве что вареные, – откликается информатор. С той стороны. Из внешней реальности, в которой он – любимый муж, стена между тобой и миром и много чего еще… но сейчас только голос, сообщающий необходимое. – Ты же знаешь, они по тяжести отличаются. Моран бы заметил, как только взял оружие. Если он сам не хотел, чтобы его убили.
А он не хотел. Он сам уже не знал, чего хотел – красный туман, уже чернеющий по краям – но умереть… может быть, как Самсон, обрушив здание на головы врагам.
Доктор Кейс Камински сдвигает бытие назад, на пару часов; женщина спит, неглубоко и чутко, это слышно в дыхании, а механизм… вот он сидит, прикрыв глаза, но по напряженным губам хорошо понятно: работают внутри шестерни и зубчатые колеса; вот он договаривается с невысоким корейцем об имитации присутствия госпожи инспектора в ее апартаментах.
Назад. Гость покачивается в кресле. «Надо было мне настоять… Я же просил парня у Морана, но куда там – что за наказание такое, перевод на элитный факультет, да у нас тут все распустятся, кто кого перещеголяет в нарушениях. Да мне не очень-то и нужно было, я думал, что он все-таки слишком трепло. Ну а потом уже оказалось, тут спецзаказ»
– Чей спецзаказ? – спрашивает женщина внутри.
– Да Монтефельтро или самого Сфорца… И они его еще дорабатывали напильником. То, что я видел во время войны и позже, это не то, что мы выпустили. Но теперь, конечно, видно, для чего он им был нужен такой… Хотя он все равно трепло и пижон.
– У вас еще много таких заказов?
– У меня, – широко усмехается механизм, – вообще нет. У других могут быть, я не доискивался, мне все равно. Это совсем не так плохо, уж вы-то должны понимать, королева. – Отсылка за отсылкой, то ли и правда знает и любит текст, то ли намекает на его историю… и роль в истории. – Индивидуальная подготовка.
– Без ведома.
– Так эффективнее. Но не всегда и вслепую. Не судите обо всем по одному.
– Не врет, – говорит Кейс. – Думает так. Обо всем.
– А те, кто не по заказу? – это уже не о Максиме. Это о тех, кто вписался в схему.
– Здесь все – заказ. Один большой заказ, от Совета. На то, что вы видели, королева. Я не очень-то счастлив нашими критериями, из-за них мне приходится творить чудеса и превращать кучеров и лакеев обратно в крыс… потому что с крысами работать можно, а вот из лакея получится разве что особо обученный лакей. Но Совет сказал, и мы делали.
– Точнее… Комитет безопасности? – голос женщины.
Если бы этот вопрос задавала Кейс, она бы щурилась как перед выстрелом. Камера не щурится, она просто автоматически корректирует кадр, когда инспектор приподнимается, на локте, наверное.
Человек-механизм радуется. Не напоказ, внутри себя. И говорит правду:
– Именно. Еще точнее, заместитель председателя.
Так, отсюда можно вернуться. Вот так звучит, вот так пахнет его правда. Полынь, да не сладкий эстрагон, а горькое былье, чернобыльник. Серые от пыли придорожные сорняки.
Вот входит Моран, быстро и от бешенства неровно, вот он оглядывается слепыми глазами, путаясь в бликах и кровавой пелене, вот он находит осквернителей – и механизм уже позади, за женщиной. Мгновенно, моментально; а Моран идет вперед, и идет, и не сразу поднимает руку с оружием, и не сразу палец сгибается наполовину, до первого щелчка. Дыры, дыры, дыры – в каждую пройдет слон, влезет рота автоматчиков.
И вот теперь механизм лжет. Лжет все время. Телом, голосом, его мало, его плохо видно, но он лжет. Ненавидит – да. Но отдельно. Желает смерти – да. Но отдельно. Контролирует ситуацию. Отдельно. Симпатизирует женщине и готов прикрыть ее, если нужно – и собой… но тоже отдельно. А между всеми этими секциями – пробелы и зазоры. Нет связей, они не видны. А те, что можно бы простроить – это муляжи, имитации, ловушки для аналитика. Правда, нарезанная ломтиками.
– Ты прав. Ты прав, а Анольери нет. Тут все нарочно.
– Да, – говорит Максим. – Ну сволочь… я, я сначала подумал, что это такой кривой экспромт! А я ведь его знаю. Господи, храни Антонио и все субличности его! Нет, ну я просто обязан показать Анольери. Честь мундира. Он мне Черную Смерть в пример ставит, а? Мне? Я ему разжую, я ему на блюдечко.
Так супруг выражается только наедине с ней, и только если 90 % процессора заняты другими вещами. Концентрированные смыслы тезисов. Вполне достаточно и удобно в рабочем режиме.
Земля уходит из-под ног, просто проседает и сворачивается там, внизу, как фарш в гигантской мясорубке, спиралями.
У этой постановки господина Шварца должен быть зритель с билетом в нужный ряд, который может оценить всю красоту замысла и наградить автора аплодисментами. Например, мистер Грин. Или Максим. Или оба. Или Господь?
Мясорубка.
– Ты никуда не полезешь.
– Ты думаешь?
Это не возражение, это запрос. Информации недостаточно и нужно еще. Тут не страшно, тут есть. Такое плотное, что можно зайти с изнанки, посмотреть, как устроено.
– Большинство – не увидит настоящих ошибок. Меньшинство увидит ошибки и объяснит их спешкой, непрофессионализмом. Личными чувствами. Кто увидит план? Кто увидит его… быстро? Что сделает, когда увидит? Что там – на том конце вопроса?
– Снизошел. Признал. Комплимент… – теплое, уравновешивающее прикосновение. Заворачивает в себя, словно в кокон. – Почему ты его боишься?
– Он внутри… железный. Механический. Рычаги, шестеренки. Немного масла. Запах горячий. И удовольствие, что все правильно крутится – и наконец-то не вхолостую.
Он не сумасшедший – и это очень плохо.
– Я это вижу, значит, у меня нет выбора. Грина мы уже задолбали…
– У тебя есть выбор. Ты можешь подождать. Я хочу поговорить с инспектором. Я хочу поговорить со студентами. А ты хочешь поговорить с этим, как его… имя я правильно не выговорю, Левинсоном. Пусть твой Шварц думает о нас плохо. Мы слепы и глухи. Мы вообще всю ночь занимались любовью и нам было не до него.
– Самое лучшее алиби, – отзывается муж, – это правда.
* * *
Она говорит «Спасибо», не выпуская руки, и улыбается уже не наружу, а внутрь, в сон – и кому-то туда же, перед веками, негромко говорит: «Я глупая женщина, я поверю – а вот Джон?», и сразу, мгновенно, спит. И все так же переплетены пальцы, и узкая ладонь полностью помещается в его ладони, сложенной лодочкой.
Нужно осторожно отнять руку, встать и идти, оставив укрытую пледом, уютно спящую женщину за спиной. Сейчас. Через пять минут. Ничего не изменится за эти пять минут: то, что обрушилось, уже обрушилось, а завалы разбирают постепенно, медленно, плавно. Уж точно не трясущимися от страха руками.
Так что можно еще немного посидеть, посмотреть на очень красивую женщину, которая, конечно же, ничему не поверила. Но она еще и добра. Любопытна, но добра. Она не стала спрашивать у Шварца, зачем он опять лгал и зачем он ударил меня при свидетеле, так сказать, методом исключения: если не Моран и не Саша, значит, это был ты… она не стала спрашивать у меня. Она просто предупредила. Подарила несколько часов, как бы случайно, как бы от усталости. Боже, какой все-таки дурак этот Шварц.
Еще – она не спросила Шварца, почему он так откровенно подставлял ее под бой. «Никто бы ей не дал выстрелить, конечно» – и ложь, и чушь. Никто не собирался мешать Cаше, а Морану тем более. Студентов этих надо будет вывернуть наизнанку, конечно. Анаит притворилась, что все проглотила – и слишком успешно, обманула даже его. Шварц мог и поверить. Нет, едва ли мог. Удовлетворился иллюзией взаимного согласия. Отдал ценного заложника и совершенно недвусмысленно заявил: «Не лезь дальше». Направо пойдешь – коня потеряешь.
Потеряю… Левинсон посмотрел на часы – и осторожно-осторожно вытащил руку. Женщина не проснулась. За что спасибо той мине – он научился действовать и двигаться по-настоящему медленно. Правильно медленно. До того – не получалось.
За несколько часов тоже можно много успеть, если не торопиться. Если заварить крепкого чаю, подышать паром – пока тебе кажется, что ты все еще сидишь там, с ней. Принять душ. Надеть корсет… такой день, что без этого никак. И к тому времени, когда пальцы, не глядя, набирают узор по клавишам комма, все слова, все последовательности, все планы уже образовали кристаллическую решетку – чтобы в ближайшие несколько дней небо не упало ни по какой причине. Во всяком случае, на этот клочок земли.
– Иван Петрович, – говорит Левинсон, – у меня для вас дурные новости. С сегодняшнего дня вы – представитель преподавательского состава в студенческом совете.
– О Господи! – восклицает Смирнов. – Да вы с ума сошли. Как я могу представлять вас, господа офицеры? Это абсурдно.
Это факт. Но со вчерашнего вечера обстоятельства изволили несколько перемениться.
– Господа офицеры вышли в тираж. Первый проректор – в морге. Второй проректор – в больнице под успокаивающим. Заместители… – тут объяснять не нужно, и Моран, и Саша на своей территории соперников не терпели. Их замы – не преемники, а секретари с пышным титулом. – Дежурным на этот месяц был Шварц. Из Ангуса Ли представитель и посредник никакой. Он сам это знает и откажется.
– А вы?
На все люди готовы…
– А я еще не знаю, удастся ли мне договориться с Антикризисным комитетом. Если не удастся, вряд ли я смогу отстаивать интересы филиала. А вот у вас, Иван Петрович, в тылу ничего такого нет.
– Дьердь, ну кого сейчас может волновать та старая история? А я ведь не политик. Я не смогу.
Та старая история. Для Смирнова это «та старая история». Интересно, а в прессе об этом ничего не было? Книги не выходили? А то, может быть, я пропустил…
– Иван Петрович, та старая история – до сих пор прекрасный повод. Срока давности у таких дел нет. А политик из вас не хуже нашего.
– Я понятия не имею, что нужно делать. Я вообще ничего не понимаю в ваших играх с Советом и прессой. Не хотелось бы предполагать, что вы из меня хотите сделать козла отпущения, но, простите, Дьердь, трудно подумать что-то иное! – Ну вот, как всегда. Истерика гражданская профессорская. – Почему по итогам ваших ночных командных игр я должен разгребать то, в чем я не могу концов найти?!
– Если честно, потому что вы уже наладили контакт с инспектором… между прочим, хорошо было сделано, с этим номером вы в наших ночных командных играх много очков бы набрали. И потому что концы искать не надо. Пусть этим следствие занимается. Просто по результатам ночи единственным легитимным органом у нас остался студсовет. Но в организационных вопросах они наломают дров просто по неопытности. А вы на них собаку съели. Кстати… вы, надеюсь, со Шварцем не разговаривали – про старую историю?
– Нет, зачем? – удивляется Смирнов. – Мне когда-то да Монтефельтро рассказал. Он все-таки… странный человек, правда?
– Незачем, а сейчас – особенно. – Будем надеяться, что Шварц уже убыл с территории и в ближайшее время со Смирновым не встретится. – Кстати, может быть вам стоит как раз позвонить да Монтефельтро, он, со всеми своими странностями, все-таки нас курирует пока.
– Он же самоустранился, – опять недоверчиво хмыкает Смирнов. – Вы же видели? И потом я с ним не в таких близких отношения, как вы можете подумать. Нет, нет, ничего подобного. Это все была всецело его инициатива и понимаете же – не из дружеских чувств. – Вот так слушаешь Смирнова со всеми его прыжками на ровном месте, подозрительностью и истериками, и стыдно делается. До чего мы человека довели. – И только не хватало, чтоб он теперь заподозрил, что я его… шантажирую.
«Если для того, чтобы он взялся исполнять свои обязанности, его нужно шантажировать – то ваш прямой долг, Иван Петрович…» Увы, этой шутки Смирнов не поймет.
– Он не заподозрит. Шантажировать его нечем, через несколько часов эта история попадет в отчеты. А дадут ей ход или нет, зависит уже не от нас с вами.
– Х-хорошо, я с ним свяжусь, конечно… – с редкостным энтузиазмом обещает Смирнов. Значит, нужно будет его проверять, потому что в тихом саботаже он мастер. Забыл, не успел, было занято, линия оборвалась… учитывая, что выпускники его любят, и последнего можно ожидать. Зоопарк какой-то. – Скажите, кстати, Дьердь, а почему это наш студсовет на вопрос «как вы додумались?» строит такие хитрые рожи и молчит как на занятиях по допросам?
– Потому что это не они додумались. В числе прочих ночных событий к нам просочился Васкес – тот самый – и принес им в клюве весь пакет идей. Так что отчасти они блюдут конспирацию, а отчасти им просто неловко.
Вот видите, Иван Петрович. Их поддерживают, им помогают. И вам помогут.
А про то, что он уже говорит со студсоветом, Смирнов умолчал не по коварству, а потому что искренне уверен: я узнаю о каждом его шаге заранее. Господа офицеры изобретательны, злонамеренны и всевидящи.
– Оооох, – громко вздыхает Смирнов, потом ругается на своем восточно-славянском, как будто кто-то еще не выучил основные понятия. – Кого мы растим, спрашивается? Там громче всех радуется этой их жалобе знаете кто? Нет, не Копты. Альгуэра, морановский любимчик. И какое там неловко? Блядь малолетняя.
Что есть, то есть. И вчера он тоже впереди всех… Интересно только, в чем дело.
– Иван Петрович, я вам тут отправлю кое-какие материалы к статье о состоянии специализированного образования, которую я потихоньку пишу. Посмотрите на досуге. Мне будут интересны ваши замечания.
* * *
Камеру студсовет так и не нашел. Хуже того, помещение театра, где ночью заседали с Васкесом, студенты назначили своим новым штабом. Символично: после переворота победившие обычно занимают дворцы побежденных, а не свои явочные квартиры. Что ж, пусть. Меньше возни. Но надо будет их потом огорошить.
Когда Левинсон перещелкнул в очередной раз на камеру в театре, он так удивился, что даже не сразу взял гарнитуру. В штабе бурлил скандал. Действующие лица: Смирнов, Альгуэра нехорошего поведения и Эти Копты. Сам по себе состав, не располагающий к бурным выяснениям отношений. Альгуэра наушник, а Копты сначала поплачут в одну подушку на двоих, а потом втихаря напакостят, но на открытый конфликт не пойдут никогда.
Нельзя сказать, что они шумели или кричали. Они скорее тюкали, как два аиста, клювами, наперебой. Террановец, красный и надутый – без пяти минут отек Квинке, это что надо делать с пятикурсником, чтобы он пришел в подобный вид? – стоит рядом, держится за спинку стула. Аисты клюют человечину.
Только головы ходят, как у нефтедобывающих установок.
– Мы думали…
– Иван Петрович…
– Мы думали, что вы хороший человек.
– Что вы защищаете, кого можете.
– Что у вас совесть есть.
– А вы…
– Как вы вообще могли?
– Вы же знаете, что с ними…
– Что с нами…
– Делали.
– Вы же от этого своих защищали.
– Как же вы можете?
– Если бы к вам женщину привели…
– Жертву изнасилования…
– Многократного.
– И она бы радовалась, что ее больше не будут…
– Не обидят…
– Пусть это и был ее муж.
– Вы бы ей тоже про верность говорили?
Так. Понятно, ясно и очевидно. Совесть наша Смирнов воспринял молчание как знак одобрения и первым делом взялся за моральный облик студента Альгуэры. И прочел ему нотацию – надо думать, публичную, при всем студсовете, он у нас кретин или негодяй, интересно уже? или все-таки саботажник? – о верности. Потому что совесть наша истеричная Смирнов суждения выносит в первую долю секунды, быстрее чем японский боец рубит мечом. А объясняет он потом – под девизом факультета «все вслух, все понятно», – эти свои уже вынесенные и непоколебимые высокоморальные суждения.
И вот тут на него наступили Эти Копты. Крестьяне с колотушками на нашего рыцаря в сияющей броне. Остальные жмутся по углам, наблюдают. Сказать, что удивлены – сильно преуменьшить, просто небо за последнюю неделю падало на землю слишком часто. И исчерпало запасы удивления.
– Скажи, Альберто…
– Чем тебе угрожали…
– …и как заставили?
Альгуэра молчит, надувается еще сильнее. Он говорить-то может, интересно? Гигантский хомяк-убийца. Смотрит в пол.
– Скажи, пожалуйста Ивану Петровичу.
– Не надо, – вскидывает руки Смирнов. – Я… я понимаю…
Альберто поднимает голову и ясно, звонко, только где-то в шлейфе сиплая стиснутость, выговаривает:
– На первом курсе я украл деньги у преподавателя. – Васкесовская безмятежность во взгляде и голосе.
– Давайте, Иван Петрович…
– …скажите ему, что он вор и его надо было отчислить.
– Скажете?
Черт его знает, умеет ли Смирнов читать пластику. На его месте Левинсон уже обдумывал бы, как будет обороняться. Потому что одно неверное слово – и девочка сорвется в атаку. А у нее по всем боевым дисциплинам «отлично». По остальным тоже. А у Смирнова за спиной стол и четыре стула – и он неизбежно в них запутается.
– Прости, – совершенно спокойно говорит Смирнов, – ты это зачем сделал?
– Лежали.
Это, как ни странно, ответ. Многие студенты поначалу пробуют на зуб системы слежения, доказывают себе, что они сами с усами… но Альберто был дураком, что взял деньги. На первом курсе. И еще большим дураком потом, когда соглашался есть с руки вплоть до вчерашнего дня. Методы избавления от давления и шантажа проходят на четвертом.
– И вот так все? – спрашивает Смирнов, и поясняет, – Ко мне никогда не попадали те, кто…
Все-таки он не сказал «ходил в первых учениках». Полчаса назад – сказал бы.
– Мы не знаем…
– …никто не говорит.
– Наверное, есть настоящие.
– А как же.
– Он, – говорит Альгуэра, и уже без заемной безмятежности, – уже был труп. Сам… п-предатель! Иуда! Я! Я мог на него донести еще до всего! Мы с инспектором говорили! Я ничего не сказал, пока он сам… а тут – да, да! Я его хотел сам закопать и на могилу плюнуть, да! Хоть что-то! Да, я сволочь – а где вы были, такой святоша?
Здесь, в комнате, за пределами взглядов камер, четверо студентов с факультета управления. Никто не встал, не подал голоса. Молчат и слушают. Действительно, кого мы растим?..
– Черт его знает, где я был. – Смирнов опускается на стоящий сзади стул… не глядя, автоматически. Если бы стула не оказалось, он бы, наверное, так же, медленно, автоматически упал бы. Не замечая. – Наверное, хотел верить, что у большинства все-таки обоюдно и добровольно. По любви. Как бы вы сказали, Таиси. И что я, таким образом, за них не отвечаю. А отвечаю только за подранков, за тех, кто нуждается в моей помощи, а не в помощи… Господа Бога.
Это нужно прекращать. Это нужно прекращать немедленно, потому что они там перед всем студсоветом разговаривают. Смирнов, конечно, нашел убедительный повод никуда не звонить и ничего на себя не брать, но нам только вот именно сейчас вот этого прорыва в канализации не хватает. Да и с Альгуэры хватит уже, обменялись любезностями.
– Иван Петрович, вы куда пропали? Вас в канцелярии обыскались уже. – И правда обыскались, и пусть уходит под благовидным предлогом. «Позвонили».
А еще это нужно обязательно показать Анаит. И, может быть, она забудет сказочку Шварца.
* * *
Она просыпается так же легко, как засыпает – просто открывает глаза, морщит нос, тихо чихает. Смахивает пушинку с носа словно кошка с усов. Запускает пальцы в волосы, короткое движение – и слегка смятые лепестки расправляются. Тонкий шерстяной свитер и так выглядит безупречно. Саму Анаит надо оценивать как-то иначе. Кто будет рассматривать листья орхидеи, хорошо ли скроены, изящно ли сидят на стебле?
Она просто есть. Пока еще здесь. Находит взглядом – и улыбается.
– Скажите, а кто был пятый?
Рыбья холера!..
– Угадайте. Вам это несложно будет…
– Вот как… – изумленно качает изящной головкой, ничего больше не говорит. Никакая не орхидея, конечно, а хризантема. Осенний цветок.
– Тут еще кое-что случилось. Посмотрите?
Подходит босиком, встает позади и наклоняется – висок к виску. Картинки на экране сразу кажутся… не очень актуальными.
– Боже мой, – говорит она, когда Иван Петрович медленно закрывает за собой дверь, – Боже мой… простите меня, пожалуйста.
– Вас?
– Они все, все разговаривали со мной. Я, видимо, слишком сильно отражала, – грустно объясняет женщина. – А вести себя… это не проще, чем ходить. Представьте человека, который пытается научиться ходить перед зеркалом? Сразу, в один прием… даже если все мышцы в порядке. Он упадет. А зеркало, скорее всего, разобьется.
– Вести себя как? – он уже знает ответ.
– Как люди.
Нужно было предложить ей сесть рядом, впрочем, второй стул свободен, а она предпочла встать так. Теперь уже поздно, конечно. Как люди? Действительно, во всех четверых обнаружилось больше человеческого, чем раньше. В хорошем смысле этого слова. Потому что во всех остальных мы все люди. И эти скандалисты, и Моран, и Личфилд, и да Монтефельтро, и заговорщики времен карибского кризиса, и этот их последний террановский генерал – а вот… а вот сейчас проверим.