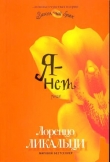Текст книги "Башня вавилонская"
Автор книги: Татьяна Апраксина
Соавторы: Анна Оуэн
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Это было… как когда-то на Майорке. Мерзкое промозглое утро, на пляже ветер, мелкий дождь пополам с песком идет почти параллельно берегу, ты пробуешь воду, просто потому что нечего делать, день уже испорчен, и обнаруживаешь, что она – молочно-мягкая и теплая, градусов на десять теплее воздуха. Можно плыть и плыть, и качаться, и плыть, а через четверть часа ты выныриваешь и видишь – облака разошлись и поперек залива лежит сияющая белая дорожка.
– Даже если так, – говорит женщина, – эта глупость может перерасти себя очень быстро.
– Поэтому мы трое сейчас ни в какую гору не пойдем, а очень быстро зароемся в листья.
Он командует, где повернуть. Где сделать на эстакаде спираль, заходя в хвост возможным преследователям. Один навигатор отключен, другой обезврежен:
– Впрысните в навигацию, – Дядюшка передает один из «брелков». Маленький пластиковый медвежонок с бочонком и надписью «Amo te».
Черт, думает Аня, это мой город, я живу здесь два года, а Дядюшка ориентируется, как слепой в собственной комнате, и никакая техника ему не нужна. Призрак советовской машины на втором навигаторе выписывает свои круги и петли, вполне осмысленные на вид, в другой части города, через две реки. Хорошая программа. «Ego te amo, лепа програма». Чтобы не слишком вибрировать, Аня вспоминает «я тебя люблю» на разных языках. Когда каждый выбирал себе ключ для концентрации, она выбрала этот длинный список.
Слова «хорошая» и «программа» она знает на десятке языков, но они рифмуются с te amo только на отдельных.
Машину нужно будет сменить. Черная агрессивная туша «Эстры» слишком заметна даже на улицах ко всему привыкшего Нового Города. У Ани есть чистые кредитки, у Дядюшки тоже должны быть. Хотя за свои она бы не поручилась: кто знает, как далеко копнули.
Как все это неожиданно, и как скверно она готова к подобному развитию событий.
– Мастер-класс, – улыбается интерфейс девочки Ани Дядюшке.
За воротами Тампль они ныряют в подземную парковку «Мистраля» – «два часа бесплатно при предъявлении чека», забираются на третий этаж и занимают место для инвалидов… на законном основании, Боже мой.
– Раз, два, три, четыре, пять. Вот наша машина.
Серенький каплевидный «лотос»-малолитражка, любимая модель молодых специалистов. Дверь открыта. Ключ в замке. На сидениях куртки и плащи, берет, головной платок. И, конечно же, чек. Кто-то купил двухлитровую упаковку вишневого мороженого. Может быть оно в багажнике… и не растаяло наверное.
– Камеры? – спрашивает женщина.
– «Мистраль» – мы не следим за своими клиентами», – объясняет Аня. – Они стирают записи камер через каждые три часа. Только я не знаю, когда.
– Через восемь минут. – отзывается Дядюшка. – Поехали.
Черный зверь остается на инвалидной стоянке, мотор включен. Если верить навигатору, то через четверть часа они подъедут к комплексу Совета со стороны города.
Серый «лотос» выезжает на улицу за две минуты до обнуления данных.
– Вы не знали, зачем вас вызвали в Лион? – спрашивает Аня.
Она готова поспорить на что угодно, что «лотос» появился в «Мистрале» сегодня. Разве что успел остыть.
– Я догадывался. Но я ведь мог и ошибаться.
Круги, еще круги. Стройки, стоянки, парковки. Женщина на заднем сиденье устало роняет голову Дядюшке на плечо. Красивый такой жест, как она сама, как вся она. Таких, наверное, не бывает в природе. Их должны как-то производить в особых лабораториях и долго-долго учить. Потому что у нее не только безупречные руки – длинные пальцы со слегка выступающими суставами, розовые ногти, узкие ладони, тонкие запястья, – но еще и безупречный маникюр, роскошное кольцо с мелкими кроваво-черными гранатами в серебре, гладкая, светящаяся изнутри кожа даже на костяшках… тридцать лет процедур изо дня в день, наверное. И вот так – каждая деталь. Каждая. Все безупречно сделано и содержится в безупречном состоянии.
– Сейчас мы доедем и поставим букет в воду, – тихо говорит Дядюшка.
– Не поставим, а положим.
Какой-то код, догадывается Аня.
– Значит, положим. – легко соглашается Дядюшка. – Нам с вами, Аня, придется поработать. Причем со дна и не тревожа ила. Подобно рыбе-мормирусу. Как я понимаю, вы стали маяком для некоторого количества молодых людей.
– Да. – а вы, дорогой Дьердь Иштванович, даже спасибо не сказали. И не поддержали потом. Студсовет проснулся, а вы нет.
– Не хотел вас компрометировать.
Ну ведь не менялось же у меня выражение!
– Так вот, с ними придется осторожно связаться. И попросить человек пять, тех, кто может это себе позволить, на несколько дней растаять в воздухе. Подумайте о кандидатах, пока доедем. Только, Аня, я имею в виду тех, кто на самом делеможет себе это позволить.
Она ест пиццу. Она ест подогретую дешевую рассылочную пиццу прямо из коробки, и если бы не так красиво откусывала, жевала, облизывала пальцы и брала следующий кусок, Аня бы сказала, что госпожа инспектор Гезалех пиццу прямо-таки жрет. Трескает. Хавает. Через себя перекидывает.
Женщина пролежала два часа подряд в ванной мотеля, восстала оттуда завернутой в банный халат, села в дешевое мотельное кресло и теперь ест остывшую пиццу прямо из картонной коробки руками – и если ее сейчас сфотографировать, то либо мотель, либо пиццерия прославятся на весь мир.
А у меня нет ничего, думает Аня. Ни умения вот так есть, ни маленького серого «лотоса» в правильном гараже нужного города. В нужное мне время.
Но ведь люди-то есть. Были и есть. И – как только что выяснилось – готовы отозваться, не спрашивая. Отбирать пришлось. Допустим, три четверти – это Дядюшка. Но четверть… плюс рабочая группа, которую никто не распускал. Это уже что-то. А она ресницами хлопала…
Телефон мотеля издает мягкую трель. Машинки самой Ани отключены и разобраны на части. В «лотосе» нашлось три чистых аппарата, один они задействовали. За это время в номер звонили только с сообщением, что приехала пицца. А мороженое все-таки растаяло.
– Возьмите.
Изображение Аня включает при первых звуках. «Люди разговаривают», звучит в наушнике.
Мистер Грин.
– Доброго всем дня, вы замечательно закапываетесь. Аня, поздравляю, внутренняя служба до сих пор считает, что вас нет в городе, и думает, не обвинить ли вас в похищении.
На нее смотрят, ее видят, ей улыбаются.
– Вылезайте, – говорит мистер Грин, – и будем чай пить.
* * *
Эта женщина ему пеняла «ты горишь»? Ее маршрут за последнюю пару суток он знает как свой. Рабочий день инспектора. Ночная перестрелка. Сутки работы рядом с господином Левинсоном. Перелет. Уход от погони – вымышленной или нет, силы расходует одинаково. Теперь – вот этот «светский раут», то ли передышка в работе, то ли встреча клуба заговорщиков.
Эта женщина берет его под руку:
– Джон, мне надо с тобой поговорить, – и, значит, речь пойдет о чем-то не очень приятном для него.
Очень устала. Боится не справиться. Но – жива и счастлива. Странный выбор, но вряд ли неудачный. Нужно будет потом присмотреться поближе. Их так мало, а таких, как они с Анаит, было мало всегда, а сейчас почти и не осталось. Семья внутри семьи.
– Что ты делаешь с этой девочкой, с Анной Рикерт?
Интересно, уже второй сигнал. Час назад Максим отозвал в сторону и сказал, что с Аней нехорошо. Очень нехорошо. Кризис и, скорее всего, – с желанием свернуть себе шею.
– Я ей, кажется, неудачно сделал выговор. После этого она попробовала вести себя самостоятельно, поторопилась – и совершила крупный промах.
– Расскажи мне, пожалуйста, все. Подробно.
Он говорит, детально и сжато, начиная с сонного явления в приемной, вплоть до просьбы узнать у Фелипе Трастамары его мотивацию и пределы допустимого. Что делал, как, почему. Внутренним языком: на чем ставил акценты, чего хотел добиться, какими механизмами. Наверное, так их обсуждали собственные создатели. Анаит по миллиметру склоняет голову, наконец, смотрит уже исподлобья.
– Джон, – говорит она. Пауза. – По всему, что увидела я, я решила, что у вас роман. – Пауза. – Взаимный.
Некоторое время он не может говорить. Только смеяться. И держаться за подоконник.
– Потрясающе, – наконец выдыхает он. – У нее – случай Максима, наверное. А у меня, получается, контрперенос? Я поймал, что ей нужно – и фактически провел импринтинг, сам того не заметив? Занял нишу? Надо же так заработаться. Господи Боже мой. Бедная девочка.
Анаит слегка массирует виски.
– Почти все мы так или иначе влюблялись в старших, – подумав, говорит она. – В преподавателей, тренеров, начальство, исповедников. Это естественно и даже полезно. Здесь меня смущает… то ли интенсивность, то ли степень самообмана. И еще это грозит скандалом, имей в виду.
Просматривается последовательность. Интересная. Опасная. Нужно будет проверить.
– Я с ней поговорю. И уже с учетом. И постараюсь что-нибудь придумать. И, может быть, еще попрошу у тебя совета. Спасибо, Анаит.
И благодарность тут скорее не за то, что сделано. А за то, что есть.
Он отходит к Деметрио с его новым знакомым, а, может, и с новым приятелем. Если так, то полезно обоим. Обмен опытом и преодоление предубеждений. Деметрио Лим и Фелипе Трастамара – две полные противоположности во всем. Такая дружба обогащает. Вместе они работали просто великолепно; главное – не вслушиваться в говорок, состоящий на 99 % из жаргона. Оставшийся процент – брань. Не вслушиваться потому, что начинаешь следить за этим площадным представлением и отвлекаешься.
Они хорошо работали. Гасили волну у себя дома. Переговоры, сообщения, просьбы, угрозы и союзы…
– Кто из вас в детстве мечтал быть пожарным? Могу выдать отличную рекомендацию.
– Спасибо. Уже прошло, – отвечает Деметрио, и вдруг выстреливает: – А вы в детстве котом быть не мечтали? А то хорошо получается.
Четвероногих из семейства кошачьих можно исключить. Остаются сутенеры. Три сцены в одну воронку за последние два часа. А Трастамара, кажется, изумлен только грубостью, но не предметом разговора. Это уже не сигнал тревоги, это пожар.
– Слушаю.
– А что тут слушать. Вы пользуетесь тем, что девчонка в вас души не чает – и подкладываете ее… может, вы ей ничего и не говорили, но я ж не поверю, что вы не видите, что она готова делать. И будет.
Он совершенно, стеклянно трезв – хотя и держит в руке бокал, но не пьет. Устал и зол до позволения себе вот это все сказать. Одуванчик. У которого многие интересы завязаны на меня. Хорошее мерило уровня тревоги.
Трастамара кладет Одуванчику руку на плечи – и поддерживает, и придерживает. Смотрит прямо в глаза.
– Простите моего друга, но у меня тоже сложилось в-впечатление, что в-вы используете сеньориту Ану не лучшим образом.
На этом случае последовательность восстановить легче.
– Она летела к вам как на крыльях? Так. Разговаривала с вами так, будто в мире никого нет? Так. А потом позвонил я? И дал задание. И вы для нее перестали существовать. Так? Выключились вместе с фоном?
– Да.
– Простите меня, пожалуйста. Это я с вами нехорошо обошелся. Я просто попросил Анну спросить у вас, чем вы руководствовались. Если ей не сложно. А дальше… вы присутствовали на обеих лекциях. Я ничего не заметил, потому что все это происходит только последние три дня.
– То есть… – Деметрио пытается что-то сказать, но это сейчас лишнее.
– Молодые люди, я очень не люблю разочаровывать, а тем более выдавать чужие секреты, но вчера весь день Анна примерно половину времени тратила на войну за камеру и разглядывание того, кого видела в этой камере. Как вы понимаете, Фелипе, это были не вы.
Пока Деметрио опять пытается что-то сказать, уже другое, Трастамара успевает первым:
– Вот и хорошо. Это совсем не входило в мои планы – и вообще мне казалось, что вы пытаетесь вбить клин в нашу коалицию.
– Вы хотите, чтобы я… – Одуванчик, у которого нет слов. Остановись, прекрасное мгновение.
– Хочу и объясню, но не вам, а самой Анне – в частной и более спокойной обстановке. Я еще раз прошу меня простить – мне раньше приходилось сталкиваться с попытками принести мне человеческие жертвы, но это выглядело совсем иначе и не развивалось так быстро. И спасибо, что не стали молчать.
Интересно, как через эти рифы проходил Сфорца? Спрашивать его сейчас бесполезно – не говоря уж о том, что его вообще о многом спрашивать бесполезно. «Мне просто показалось» и «Не знаю». Но вон он разместился вдоль одного из двух диванов, с омерзением разглядывает мир сквозь коньяк и с куда большим – следит взглядом за одним-единственным гостем. Только вокруг него, не с ним, а вокруг – и Максим с женой, и Анаит с господином Левинсоном, и Джастина с Антонио.
А где, кстати, Аня? Аня в кабинете, где ей совершенно нечего делать. Сигнализация обозначила пересечение границы, а девушка даже не подумала, что там может быть барьер. Хорошо, что он сейчас полупассивный.
Страшно даже представить, чего от нее можно ожидать. Сцены? Истерики?
Он осторожно повернул ручку, прикрыл глаза, переключаясь, заглянул.
Аня сидела за столом, положив голову на руки – и мирно спала. Маленькая настольная лампа-«свечка» нарисовала на столе круг, осветив блокнот и стило, часть ладони, щеку. А потом контуры поплыли, свеча, каким-то образом стала настоящей, восковой, прогоревшей до половины, девушка подняла голову, увидела, кто стоит в дверях – и он успел отбить, отвести в сторону летящее стило, и упустил момент, когда на него ринулась тень куда большая. Целясь в горло.
Он еще раз посмотрел на круг света, на стол, на спящую сотрудницу. Аккуратно закрыл дверь.
У больших машин не бывает галлюцинаций. У них бывают сбои эвристической системы. Как правило, дело ограничивается обонянием – опасная информация дурно пахнет. Но иногда аналитический блок конфискует зрение. Это не значит, что он ошибается или видит то, чего нет. Совсем наоборот.
Вернуться в гостиную. Найти Анаит. Отобрать у Антонио. Пересказать беседу с мальчиками и перевести на общепонятный язык видение.
– Я очень тебя прошу поговорить с ней. Подготовить к длительной командировке в Терранову.
– И чтобы отъезд прошел в рамках приличий.
– Да.
– Иду.
Потому что еще немного – и я уже перестану различать цвет стен, читает он в голосе.
– Я хотел бы, чтобы вы остались сегодня у меня.
– Спасибо.
Деметрио Лим стоял у стола и с большим интересом разглядывал пепельницу. Кажется, он предавался этому занятию уже минуты три.
– Поговорили?
– Нет, не поговорили. И вот что… – он тоже перешел на флоридский диалект. – Делай что хочешь, но когда ты уедешь, она должна поехать с тобой. Документы будут, приказ будет, работа будет. Здесь ей оставаться нельзя. Рядом со мной – плохо, без меня – еще хуже. Ей хуже. Ты хочешь и можешь. Сделаешь?
Одуванчик смотрит, стараясь скрыть подозрения. Гораздо хуже, что старается скрыть, чем сами попытки высмотреть подлинные намерения. Смотрит и не знает, что видит – просьбу или хорошо замаскированный план.
– Но я…
– Твою смерть она, если что, переживет. Вспомни, где и на что ее учили. И вообще, прости – но ты сам идиот. Фелипе ладно, попал под каток, но ты-то. С утра с ней все было в порядке. Она в перерыве скисла, когда ты даже не глянул в ее сторону, весь был занят другим делом…
– Я работал! – оскорбленный Одуванчик шипит, как вода на плите. – Я что… с Пеппи? Я кому кофе варил, я кому комплименты говорил, я кого провожал?.. Пеппи? Вот из-за этого все?! Я по делу!
Почему про мужскую логику сочиняют так мало анекдотов?
– Будешь сегодня провожать – объяснишь. Кофе тоже можно.
* * *
Рефлексы не сработали. Он не вполне понимает, почему – то ли бестактная особа слишком быстро двигалась, то ли была непоколебимо, заразно уверена в правоте и праве. Хорошо, что не сработали, сломал бы доктору руку.
– Вам не говорили, что воспитанные люди так не делают? – удивленно интересуется Левинсон.
– Заткнитесь, идиот, – с той же запредельной уверенностью приказывает эта… хамка, и Левинсон действительно затыкается. От удивления и любопытства, что же будет дальше.
Стандартный сигнал ударил по ушам дуплетом. Левинсон разговаривал с Максимом, поэтому не сразу потянулся за коммуникатором; только оглянулся – кому еще пришло сообщение. Шварцу.
В тот момент доктор Камински еще держала супруга под руку и смотрела куда-то через плечо; Левинсон сунул руку в карман, и тут она выхватила пластинку. Взгляд на экран – на Шварца.
Прочла.
– Позвольте я все-таки… – аккуратно взять аппарат.
Просьба сталкивается в воздухе с «Осторожно» Максима. Но больше ничего Щербина не делает – видит, что угрозы нет.
Повернуть к себе… пятнадцать минут назад, Елена Янда, проректора Лехтинен, в госпитале. Пистолет. Три ранения, все три смертельны. Следом попытка самоубийства. Запись в дневнике «Все пусто, ничего нет. Ничего нет.». Реанимация. Состояние критическое. Информация блокирована. Власти оповещены.
– Ничего тебе доверить нельзя. Ничего. Все как-нибудь да прогадишь. – это Шварц. Вслух.
Левинсонов сейчас два. Один… получил проникающее ранение в живот. Два раза. Второй в рабочем состоянии, держит ситуацию. Боль пройдет. Всегда проходит. А тумана уже нет. Чем хороша война, его там никогда нет. А сейчас у нас, оказывается, война. Совершенно точно – война. Спасибо Шварцу, он высказался очень вовремя. Один раз – случайность, два – совпадение, три – враждебные действия. А это ты, Вальтер, уже в четвертый раз.
Камински смотрит расширенными глазами на Шварца, зрачки пульсируют – черный глянец в черном бархате. Муж ее почти тем же остановившимся взглядом – на всю сцену; успел прочесть. Да Монтефельтро, ледяной клоун, щурится, поводя подбородком.
Хорошо, что они есть, рядом, «за». Грозовой разряд не убивает, а стекает в землю.
Вальтер оценивает диспозицию, презрительно хмыкает, пожимает плечами. Пытается изобразить, что четверо против одного. Я должен реагировать, напоминает себе Левинсон, как раньше, словно не проснулся. Как Шварцу привычно. То есть, искать взглядом Анаит – кстати, интересно, куда ее уволок Грин, – не найти, впасть в ступор. В крайнем случае попытаться дать ему по морде. Нет, это лишнее – значит, будем впадать. Тем более, что одному из двоих в единой шкуре очень хочется. Пусть впадает.
Шварц разворачивается, собирается уходить.
– Задержать его? – одними губами спрашивает Максим.
– Нет.
– Извините, – громко, будто вспомнив, говорит Шварц, – Мне нужно переварить новости. И лучше… не в этой компании. До завтра.
А это было на добивание. На случай, если первого удара не хватит.
– Наблюдение. – Это уже не словами, это движением глаз.
– Конечно.
Конечно, наблюдение. Даже тень результата – тоже результат. Убийства Вальтер ждать не мог. Он и правда выводил эту девочку на удар, но выводил на Морана. И иначе. И – вот эта злая радость?..
Теперь уже Максим и Антонио ищут взглядами Грина, а его тоже нет. Доктор Камински никого не ищет, таращится на пустое место, где только что стоял Шварц. Манеры наркоманки, ей-Богу.
– А что случилось? – спрашивает да Монтефельтро. Как это он вписался, не зная?
Левинсон сует ему под нос коммуникатор, который так и держал в руке. Ледяной клоун – так и кажется, двадцать лет подряд кажется, что глаза у него должны быть светло-голубые, – читает и сглатывает. Потом вытаскивает собственный коммуникатор и что-то очень быстро набирает без помощи стила, ногтями.
– Мы и сами могли бы, – слегка ревниво говорит Максим.
– Это моя вина.
– Вы еще подеритесь, – Камински выходит из своего транса.
– Я ее к себе хотел, – поясняет да Монтефельтро. – Нужно было сразу. Вчера нужно было. Я не знал, что есть обстоятельства. Должен был догадаться.
Теперь уже Щербина и Камински смотрят на него, будто впервые видят. Антонио им, наверное, ничего раньше не объяснял, особенно такого. С ним это и правда редко бывает. Раз года в три-четыре по большому празднику. Тут, правда, повод есть, особенный. Жили-были четыре мушкетера королевы.
И пятый – самый младший – мушкетер канцлера. А потом роман кончился, началась считалочка.
– Пять поросят пошли на парад.
Доктор Камински оборачивается… даже не так, там сразу на месте затылка – лицо, будто тело два раза вывернулось наизнанку.
– Вы тоже? – спрашивает она.
– И их осталось трое, – кивает Левинсон.
Другие трое – эти – смотрят на него, как на привидение. Разными взглядами, но как на потустороннее явление.
– Так, – говорит Максим, и это его «так» отдается эхом чего-то недавнего и уже забытого. – Вы сейчас, пожалуйста, сядьте, да… – кивает на диван рядом с тем, где разлегся Сфорца. – Я вам коньяка налью, хорошо. – Мальчишка, не спрашивает ведь, а распоряжается.
И раньше самого Левинсона почувствовал – что ведь… зацепило. Всерьез. По-настоящему.
Ехали. И заехали. Спинка дивана оказалась твердой, удобно. Воздух вернулся. В нише Камински с мужем насели на Антонио: режим понятен, сам Левинсон уже никуда не убежит, а клоун может, если дать ему опомниться. Подойти хочется – но нельзя. И нечем пока.
Сфорца смотрит на него, на бокал с коньяком, на него.
– Этот ваш… – спрашивает вдруг, – он всегда был как сегодня утром?
Утром была лекция с препаратами.
– Нет. Не всегда.
– А как сейчас? – этакая ломаная то ли синяя, то ли бирюзовая линия вдоль дивана напротив. Почему бирюзовая? Костюм серый, рубашка светлая в мелкую полоску. А вот почему-то.
– Тем более. Нет, был. Тогда, в музее. – Стоп… а что он, собственно, знает? Господин Сфорца, чудотворец и воспитатель малолетних сволочей. Насколько все это его касается – и почему вообще касается лично его?
– Я понимаю. А что случилось сейчас? Вы, кстати, пейте, чудесный коньяк. И рассказывайте, да? Только с начала.
Начало у нас было на Кубе, после Кубы. Хорошо, с начала так с начала.
Когда он говорит «нас было пятеро», Сфорца хватается за воротник.
* * *
Девочку Анечку, полутезку, полусоседку, критическую массу, просто так успокоить не удалось. Пришлось зацепить. На зависть. На ревность. Эти чувства она в себе знает, понимает. Может отозваться. Может удержать. Дальше – объяснять.
А потом… скажем, через четверть часа, когда косметика уже снова на месте, поймает ее господин Лим во всей красе весеннего гона и увлечет. У него получится.
Анаит нравится, как человек по кличке Амаргон смотрит на нее. С удовольствием. С восхищением. И без тени желания. Если не считать разве что осознания, что одному в этом мире – неправильно. Даже если вдвоем получится ненадолго.
– Идите, утешайте.
А я хочу сесть, вот здесь, на мягкий подлокотник длинного дивана рядом с Дьердем, нажать ему на плечо – сиди, мне и тут удобно, и правда же удобно, если боком вписаться в изгиб. Я хочу сесть и смотреть на эту компанию, занятую беседой. Выпить. Сначала холодной воды с газом, потом уже чего-нибудь покрепче.
Высокому стакану с ломтиком лимона, с пузырьками на кубиках льда просто радуешься, не думая, откуда он взялся; хотя взялся он, конечно же, от Максима. Мысли он, как уже известно, не читает, зато совершенно замечательно читает реакции. На чем ему и спасибо.
Холодное стекло. Горячий лоб. Ощущение вывернутой на голову… нет, не помойки, но хирургического бачка, куда сбрасывают окровавленные салфетки и прочие биоматериалы.
В зале кого-то не хватает, это приятно саднящая пустота как на месте удаленного зуба.
Шварца и да Монтефельтро, ну, второй не тянет на больной зуб, только на отколовшийся краешек эмали.
«Потом расскажу», показывает Дьердь. С ним тоже случился кто-то, пока меня не было. Но с ним – не только к худшему. В его личный счет, в длину списка на фюзеляже, Анаит поверила сразу, когда узнала. Теперь даже не верила – видела. Написан был этот счет на лице, в голосе, в движениях. Кто-то случился и все стало проще.
– Но вы же понимаете, что все это – паллиатив. Все договоры, весь нажим. Благодарности Совета не хватит и на месяц.
– И снова-здорово, да? Молодой человек, я вставать не собираюсь, так и понимайте.
Юный Трастамара потерял нового напарника, прибрел сюда – и ищет места, где бы ему приземлиться, а единственный полусвободный диван занят Сфорца во всю длину.
– Простите, я вовсе не…
– Так что садитесь как есть. Это удобно, я проверял.
– Если я сяду, нас останется только снять для светской хроники.
– Погодите, это надо жену сюда же, а то мелко выходит.
– Не надейся, я не встану. – Жена сидит рядом с Джоном, смеется. – И вообще мы и втроем не перекроем Одуванчика на мосту. Садитесь, юноша, вы не маяк и не светоч добродетели.
Фелипе приземляется куда-то на дальний край, между коленками и туфлями. Слегка розовеет. Открывает резко и суховато очерченный рот:
– А давайте покажем в-всем пример. В-возьмем и скажем правду.
– То есть?
В центре внимания Фелипе смущается окончательно.
– Скажем в-вслух, что нас не надо защищать, что мы не маленькие и нас не обижают. Мы просто работаем и ссоримся по ходу. Тоже… проблема. Что старое окончательно умерло и бояться нечего.
– А старое нам поверит? – интересуется госпожа Сфорца. Наполовину в шутку, а наполовину уже всерьез.
– А старое еще полтора года назад вслух согласилось с тем, что оно старое и нужны реформы. А это все – так… рабочие трения, границы юрисдикции. Просто раньше это все на люди редко выносилось, решалось в пределах комитетов, за столом переговоров, а теперь времена другие. Мы привыкаем не прятаться – пусть и люди привыкают не пугаться.
– А хорошо, – тянет Сфорца, – только…
– Не просто хорошо. – это Джон. – А очень хорошо. И своевременно.
– Видите, как полезно в нем сидеть, – усмехается Джастина. – Главное, мгновенно помогает. Мгновенно.
Анаит очень хочется проверить, так ли это. Как раз есть свободное место. Но резко, наотмашь падает знание: вечер кончился. Пора расходиться до утра. Концепция выработана. Знакомства состоялись. Связи установлены. Гильотинный нож, тропический закат как гром через моря… а избыток поэтизма – это предельная степень усталости.
«Что вы пришли передо мной красоваться? Добить хотите? Я знаю, что я чучело! Идите, блистайте!..»
Девочка, хотелось сказать ей, деточка – да раскрой же ты глаза, да посмотри: я не спала две ночи, я на ногах не стою от усталости, а мне уже сорок четыре, и это заметно, как ни старайся. Неужели не видно? Не жалко?
С недосягаемых высот несчастья Ани чужих проблем не было видно, конечно – и тем более не могло быть жалко хоть кого-то. Даже себя.
Похожих на себя жалеют звери. Люди умеют жалеть и непохожих. Анечке предстояло заново эволюционировать от рыбы.
На руках теперь темные пятна чужой туши. На брюках и свитере тоже, но на черном не разглядеть. Девочка Анечка много плакала после того, как ее наконец прорвало.
О том, что не может, не успевает, а от нее хотят, хотят и хотят… а она не видит, не слышит, не справляется, как вот только что – все же могла, учили, ничего такого, а она… и все смотрят, на нее. Вот на нее же. Она же видела. Щербина, сволочь, обходит… как помойное ведро. По дуге. И морщится еще, предатель. А этот… этот… он ее продает, как корову на базаре. Кому еще подсунуть? Она же видела – он о ней говорил с этими двумя. Наверняка же опять… Хотелось бы знать, как они делить будут, или не будут для укрепления взаимопонимания?
Оплеухи иногда помогают; особенно, если даются не терапевтически, а искренне.
В образовавшуюся паузу можно вбить вопрос «Так вечная любовь и недостижимый идеал, или сутенер? Или не или, а потому что?». Аня все-таки умненькая девочка; более того – уже приученная к самоанализу. Просто все это снесло в кризисе, но навыки остались. Дальше было мокро, но уже не так грязно.
Какой Одуванчик, да кто он такой, полный ноль, она сама его сделала из ничего вот только что. Какой у него может быть интерес, кроме политики? Если она ни с чем не справляется…
Далее по кругу минус Джон. Далее по кругу минус Максим. Пока не останется большое мокрое чистое место «я совсем запуталась!».
Вот это мокрое место уже можно поднимать из руин, выкручивать до полусухого, показывать, как оно на самом деле. Чтобы обратно медленно пошло – ой, это не гибель, не впадение в ничтожество, не изначальное пребывание в нем же, не, не, не… это просто дыра в оболочке, куда уходит слишком много сил и себя, и рабочий стресс, опять же потребовавший слишком много, и чувство, которое страшно опознавать… и весь тот лишний груз, который навалили раньше. И можно жить, а не тонуть в сочиненных ожиданиях на глазах вымышленных судей.
Инспекция, часть третья. Ретроспективное исследование выпускников. Переходящее в проспективное само по себе. Не забыть еще раз поговорить с Максимом, с его работодателем, с Джоном, с Камински. Завтра, потому что сегодня уже говорить не о чем, а совершенно параллельные стены вроде бы стоят шалашиком, но не встречаются, потому что бесконечность взяла отпуск, так что сверху, в потолке, остается пустая черная дыра, которая высасывает кислород и свет. Присвистывает сложенными трубочкой губами и высасывает. До темноты и духоты.
Но не до конца. Потому что ее подхватывают, греют, несут, окружают, закрывают от неба. И соскальзывает она не вверх – в беспамятство, а вниз, в сон.
* * *
Мистер иезуит смотрит как строгий брат невесты. Как сорок тысяч строгих любящих братьев единственной невесты на похитителя сестры.
– Все в порядке, – сказал Левинсон. – Ей просто нужно выспаться.
– Вам тоже, – сказал Максим. Интересно, а температуру он на взгляд определять не умеет? Уставился как медицинский робот.
Несколько часов назад это было весьма кстати. Когда Анаит вдруг стала валиться назад, совершенно беззвучно и расслабленно, парень успел первым. Подхватил. Вот на чем они со Смирновым сошлись. Гиперсенситивы. Говорят, раньше таких отбирали в орден доминиканцев. Биологический детектор лжи, неплохо.
Как вот он только раньше с этой гиперсенситивностью над всеми издевался? Или, так сказать, благодаря, а не вопреки? Да, и зачем же он молчал-то?
– Я просто не засну, – сознается Левинсон.
Медицинский робот кивает. Он сидит на полу, рядом – жена, положив голову ему на колени. Не спит, смотрит снизу вверх. Сфорца и Грин заняли два дивана. А мы займем кресло.
Здесь уютно, хотя обстановку, кажется, придумывал не хозяин, а дизайнер. С идеями. Венецианский классицизм смешать с «ниппон-тек». А вежливый хозяин потом посмотрел на то, что получилось, вежливо поблагодарил творческого человека, расплатился… и переставил все так, чтоб можно было жить, не спотыкаясь и не впадая в ступор от сочетания красно-золотых кресел на грифоньих лапах со столами из прозрачного стекла и черных кубов с подсветкой под вазами века так XV – и вышло хорошо.
Хотя фантазии все это, а в апартаментах обстановка казенная.
– Что случилось с Аней? – не со Шварца же начинать. А девочка выжала Анаит досуха, до неспособности говорить.
– Она, – со вздохом объясняет Грин, – была более или менее готова убить меня, скорее создав фатальную ситуацию, чем непосредственно, потому что я – недостижимый идеал, паршивый сводник, торгующий ее телом и душой, вечный судия, навсегда определивший ей цену… и даже мое «да» означает, что рано или поздно я скажу «нет» и сброшу ее в бездну – как она там у вас, без стыда или без следа, Максим?