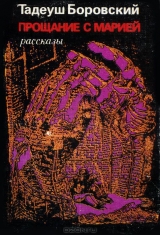
Текст книги "Прощание с Марией"
Автор книги: Тадеуш Боровский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Встречи
Перевод Г. Языковой
Я шел ночью, пятым в шеренге. В самом центре фиолетового неба дрожало коричневое пламя – жгли людей. Я шагал в этой мягкой ночной тьме, широко раскрыв глаза, и хотя из моего проколотого штыком бедра текла кровь, обдавая все тело теплом, при каждом движении переходившим в боль, а сзади в мерном и частом топоте мужских ног слышались частые испуганные шажки женщин (среди них шла девушка, которая прежде была моей), все же из всего увиденного мною той ночью я могу повторить лишь то, на что смотрел во все глаза.
Я видел в ту ночь, как полуголый, дымящийся от пота человек, вывалившись на гравий лагерной платформы из телячьего вагона, где уже не оставалось воздуха, захлебнулся хлынувшей на него ночной прохладой, шатаясь пошел навстречу другому человеку, судорожно обхватил его рукой и повторял, как в бреду: «Брат мой, брат…»
А еще один человек (его, борясь за воздух, едва не задушили в вагоне, возле щели), лежа в сарае на груде еще не остывших тел, вдруг изо всех сил пнул ногой склонившегося над ним уголовника, который стаскивал с его ноги вообще-то ненужный покойнику новенький хромовый офицерский сапог.
Много дней подряд я видел потом, как, обхватив кирку, лом и при разгрузке вагонов, плачут мужчины. Как они тащат рельсы, мешки с цементом, бетонные столбы для ограды, с каким усердием выравнивают землю, нежно оглаживают лопатой стенки рвов, строят бараки, сторожевые вышки и крематории. Как их пожирают чесотка, флегмона, голод и тиф. Впрочем, я видел и людей, которые коллекционировали бриллианты, часы и золото, тщательно закапывая их в землю. Видел я и таких, которые из снобизма старались убить как можно больше других людей, овладеть максимальным числом женщин.
Мне приходилось видеть, как женщины носят балки, возят телеги и тачки, строят запруды. Видел я и таких, которые отдавались за кусок хлеба. И таких, которые за шелковые рубашки, золото и снятые с покойников драгоценности сами могли купить себе любовника. Видел я там и мою девушку – теперь она была лысая и вся в нарывах, но эта история касается меня одного.
Все те, кого из-за чесотки, флегмоны, тифа или чрезмерной худобы отправляли в газовые камеры, перед отправкой в крематорий, просили грузивших их санитаров, чтобы они смотрели и старались запомнить. А потом рассказали правду о человеке тем, кто ее не знает.
Сейчас я гляжу из обвитого плющом окна на сожженный до края неба дом и дальше – на остатки старинных ворот с уцелевшей амфорой на колонне, на банальную и благоухающую липу, на другой берег мерцающей реки, где развалины, подступая к линии горизонта, сливаются с небом.
И, когда я здесь, в чужой комнате, в окружении чужих книг, пишу о том, что видел небо, мужчин и женщин, меня не оставляет мысль, что себя я видеть не мог. Один молодой поэт, некий символист-реалист, заметил с сарказмом, что у меня лагерный комплекс.
Через минуту я положу перо и, тоскуя по увиденным мною тогда людям, начну раздумывать, кого сегодня навестить – человека в новеньких сапогах, которого едва не придушили в вагоне, он теперь инженер на местной электростанции, или же хозяина весьма бойкого кафе, шептавшего мне тогда: «Брат мой, брат…»
Других навещают те, кто, роясь в смешанной со сгнившими костями и пеплом земле, усердно ищут спрятанное там золото.
Воспоминания
Перевод О. Смирновой
От автора
Мой молодой читатель, я сам хорошо знаю, что эти мои школьные рассказы далеки от совершенства. И вовсе не удивлюсь, если они тебе не понравятся. Но прежде чем ты положишь эту книжечку на полку, я хотел бы объяснить тебе, зачем я ее написал.
Осенью прошлого года один старый учитель гимназии уговорил меня прочитать кипу школьных сочинений, которые он собирался передать в воеводский отдел просвещения в качестве документа. Темой этих сочинений было: «Как я учился во время оккупации». Я забрал всю кипу сочинений домой и до позднего вечера внимательно, листок за листком, читал их.
Из текста этих листочков, мой читатель, а также из того, что сам я помнил, и сложились мои короткие рассказы об учениках и преподавателях школы в период оккупации. Ты, я знаю, вероятно, предпочел бы, чтобы тебе еще раз рассказали о доблестных партизанах или о героической гибели детей – участников Варшавского восстания, или о чем-либо ином, столь же прекрасном и кровавом, но поверь, я не сумею, да и не смею писать об этом.
Видишь ли, мой молодой читатель, я от всего сердца ненавижу то время, в котором мы жили, потому что вместо пера оно сунуло нам в руки пистолет и гранату, и вместо того, чтобы учить нас жить, повелело умирать. В самом деле, плох тот век, который посылает детей вместо школ на баррикады. И может быть, не надо восхвалять того, что было горестной необходимостью.
Я написал свои рассказы, чтобы школьные сочинения, которые мой старый учитель должен был отослать в отдел просвещения, не погибли навсегда в каком-нибудь пыльном шкафу. Я был бы очень рад, мой читатель, если бы ты поверил, что я и в самом деле почти не изменил фактов, изложенных в этих сочинениях, и если б разглядел в моих коротких рассказах нечто большее, чем свод незначительных событий.
Дорога через лес
За окном темная беззвездная ночь. В кругу ослепительного света лампы разбросаны белые листочки, старательно исписанные детским почерком. Я склоняюсь над ними и вытаскиваю рассказ, простой, несколько мелодраматичный, но в нем нет ни слова лжи.
Дело происходило в маленьком городишке в Великой Польше осенью тридцать девятого года. Я проверил по карте: нет там поблизости ни важной реки, ни исторического озера. Городок, подобный всем прочим польским городам и городишкам, ибо во всех больших и малых городах Польши осенью тридцать девятого года были расквартированы немецкие гарнизоны.
В городке, о котором пойдет речь, перед белым оштукатуренным зданием начальной школы неподвижно стоял, расставив ноги, немецкий солдат в блестящей каске, в черном, плотно прилегающем мундире, воротничок которого украшало серебристое изображение черепа. Половину школы занимали молодые немецкие телеграфисты. В другом крыле здания учились немецкие дети: несколько местных, остальные – сыновья приезжих чиновников и переселенных в городок на постоянное жительство партийных чинов и гестаповцев.
Ни чумазый Сташек, сын угольщика из дома за колбасной, ни его товарищ, автор сочинения, которым я пользуюсь, не могли спокойно пройти мимо школы. Сперва они «с ненавистью смотрели часовому в глаза», потом бросали взгляд на открытые окна своего 5 «в» класса, полного ребячьего гомона. Оба они не имели права входить в свою школу. Давний приятель Сташека, Вальтер Ешонек, мать которого раньше была хозяйкой прачечной, а теперь, с приходом немцев, стала управляющей нескольких магазинов, ходил в школу, поскольку отец его объявил себя фольксдойчем. «Тогда мы подрались с Вальтером, а проходя мимо этой немецкой школы, плевались с отвращением, потихоньку, конечно».
«Мы все ненавидели эту школу, – пишет далее приятель Сташека, – и боялись ее как тюрьмы. Немцы хотели загнать нас туда, но мы, кто мог, сперва притворялись больными, а после поляков и так выселяли. В классе, где учились поляки, было очень холодно, потому что при любой погоде нельзя было закрывать окна. А потом, чтобы разогреться, у нас была суровая муштра, с оплеухами для разнообразия и палочными ударами, а девочкам за непослушание учитель отрезал косы. Про Польшу нас учили только одно, что поляки народ второго сорта. Той осенью у нас была своя польская школа в деревне за городком, так как в городе было нельзя. Дорога к той школе шла через лес».
Эта польская, изгнанная из городка школа помещалась в обычной деревенской избе. В ней не было ни одного польского учителя, ни одного специалиста. Все они, согласно предписанию, были заняты физическим трудом. Уроки давала бывшая служанка супругов Розенбергов, которым отец Сташека обычно возил на зиму уголь. В начале сентября Розенберги успели с последним эвакуационным поездом выехать в Варшаву, а служанка, которая со вступлением немцев в Познань подружилась с солдатами, с легкостью получила место учительницы в польской школе близ маленького городка. Это было для нее, – как мы бы теперь сказали, – большим продвижением, потому что после бегства Розенбергов, закрывших квартиру на ключ, она ходила рыть оборонительные рвы, где, правда, хорошо кормили и можно было найти угол для ночлега.
«Полностью исключить польский элемент из школ невозможно, поскольку пока что нельзя обойтись без польской рабочей силы», – писал Грейсер, немецкий наместник в Великой Польше, в циркуляре для подведомственных ему школьных властей. «Для воспитания же польской рабочей силы, – писал он далее, – достаточно любой служанки и работницы». Чтобы видимость соблюсти.
Но обо всем этом чумазый мальчишка не знает. Учительница часто рассказывает им, как плохо ей было у Розенбергов и как хорошо у мельника, немца, по фамилии Вейсмюллер, где она служила пару лет тому назад. Сташек всегда думал об этом, проходя мимо разбитых, пустых домов на окраине городка, в которых раньше жили евреи. В окнах еще летают перья из подушек, а кое-где стоят даже засохшие цветы в горшках. Всех евреев немцы вывезли на машинах, одни говорили, что на смерть, другие – что только на работы. «Интересно, – думал Сташек, – Розенберги в Варшаве тоже работают на железной дороге, как те евреи, которые каждый день спозаранку в колоннах идут на работу?»
«Учительница много рассказывала нам о жизни, но мы ничего в этом не понимали. Иногда она вместе с нами читала сказки и рассказы и тогда было очень приятно».
Но самым приятным была дорога в школу. Ведь дома все было упаковано, чтобы в любой момент быть готовыми выехать в губернаторство, в Варшаву, на сборы давалось десять минут, из мебели ничего брать нельзя, только то, что в руках унесешь.
А тут – свобода. Идешь по улице, смотришь на солдат, на дома. Ветер метет вдоль улицы. Под ногами шелестят сухие листья. Сташек, чумазый сын угольщика, любит по ним бродить. Идешь, как по сену. Только что не пахнут.
За городком песчаная размокшая дорога вилась между холмов, а потом шла лесом. Сташек боялся леса. Когда он слышал над собой шум дубов, он начинал громко петь. Он не любил один ходить через лес.
Однако сегодня мальчик был в лесу не один. Едва он вышел из городка, держа за пазухой несколько страничек, вырванных из старинной книжки о Мелюзине, которую они читали с учительницей, как его обогнала машина с жандармами. Засигналила, обдала его грязью. Жандармы в машине добродушно смеялись, когда он нагнулся соскрести грязь со штанов. Они развалясь сидели на лавках. Их красные упитанные физиономии блестели как надраенные. Ветер принес редкие капли дождя.
Сташек шел по колее, обходя лужи. «Кто-то сегодня пойдет к хозяину Брауну копать картофель?» – думал он. Немец, хозяин, приходил в избу, где шли уроки, и выбирал нескольких самых крепких детей из тех, кто постарше. Они должны были вместе с батраком идти в поле копать картофель или работать в конюшне. Девчат забирала хозяйка для уборки по дому или заставляла их стирать. Юзьку, мать которой имела свою лавку, а теперь, когда лавку у нее отобрали и передали немцу, работала рассыльной на почте, хозяйка так полюбила, что давала нянчить своего отпрыска. Юзька должна была сидеть при нем целый день и ни разу не слышала, как в классе читали Мелюзину. Сташек был раз на картошке, но около полудня сбежал. Мать тогда наплакалась над ним. Хозяин после высматривал его в школе. Несколько дней Сташек в школу не ходил, а потом хозяин то ли забыл о нем, то ли разыскивать ему не захотелось. Может, потому, что в общем-то, он был человек порядочный. Другие хозяева не только брали детей на работы, но еще и били их.
Еще одна машина с жандармами проехала мимо. Остановилась на опушке. Солдаты соскочили с машины, развернулись цепью и исчезли в лесу.
У Сташека забилось сердце. Идти или не идти в школу? Сегодня учительница обещала рассказать о Сибилле, которая предвещала конец войны. Сташек решил идти. Неожиданно в лесу раздался выстрел. С треском сломалась ветка. Послышался топот чьих-то ног. В лесу перекликались жандармы. Стихло. Только шумели деревья вверху.
Сташек побежал по дороге через лес. Он боялся леса. Теперь уже не шума деревьев, а выстрелов. Потому что знал. Какой польский ребенок тогда не знал этого! Жандармы охотились за евреями. Видно, снова кто-то бежал из лагеря за городом. «Лишь бы не поймали, лишь бы не поймали, лишь бы не поймали», – ритмично, как заклинание, твердил мальчик.
Лесная дорога сворачивала в густые кусты.
И именно в тот момент, когда мальчик вышел к повороту, через кусты продрался человек. Он был грязный и оборванный. На его штанах были широкие красные полосы. Сташек испугался его бледного заросшего лица и огромных, горящих, как у волка, глаз и пронзительно вскрикнул. Человек умоляюще сложил руки и посмотрел на мальчика, как загнанный зверь. Сташек рукой показал на деревья по другую сторону дороги.
– Там жандармы, там жандармы, – заикаясь, пробормотал он.
Оборванец, еврей, которого преследовали, не говоря ни слова, повернул и снова забрался в кусты.
Тут же из-за деревьев выскочил запыхавшийся жандарм с винтовкой в руках. И остановился перед мальчиком.
– Bist du Jude?[147]147
Ты еврей? (нем.)
[Закрыть] – спросил он и, видя, как у мальчика ширятся от ужаса глаза, рассмеялся, довольный.
– Еврея не видел? Он убежал из лагеря. Он бежал этой дорогой. Так?
– Я не видел, – в замешательстве ответил Сташек по-польски. – Никого не видел, – повторил он по-немецки.
– Ach so, du bist Pole[148]148
Ах так, ты поляк? (нем.)
[Закрыть], – сквозь зубы процедил жандарм и подошел к мальчику поближе. – Ты никого не видел? А это чьи следы? А кто кричал? – И неожиданно ударил мальчика прикладом по лицу. Мальчик упал. Одной рукой он придерживал странички из книги, чтобы они не выпали и не загрязнились, так, по крайней мере, пишет его товарищ. Жандарм пнул лежащего ребенка сапогом, несколько раз ударил его прикладом и побежал в лес, оставив мальчика на обочине дороги в луже крови.
«Когда мы с учительницей возвращались из школы, мы нашли Сташека лежащего без сознания у дороги. У него были выбиты передние зубы. Мы думали, он ослеп, так распухли у него глаза. Учительница взяла его на руки и принесла домой, в город. На следующий день у нас не было урока, потому что учительница все еще сидела около него. Сташек поправился, но соседи, немцы, дознались, что он ходил в польскую школу, что не хотел работать у хозяина-немца и еще что жандарм избил его. Всю их семью выселили в генерал-губернаторство. Я получал от него письма. Сперва он учился там в начальной школе, а потом поступил в подпольную гимназию. Состоял в харцерских „Серых шеренгах“, которые среди прочего привозили нам на западные земли школьные учебники. Он погиб в Варшавском восстании при обороне Старого Мяста; в тот день в этом секторе вместе с ним погибло триста варшавских детей, харцеров из „Серых шеренг“.»
А когда на третий день после избиения Сташека жандармом дети пришли лесной дорогой в школу, учительница уже не рассказывала им о добрых Вейсмюллерах и плохих Розенбергах, у которых прожила столько лет. Зато она рассказала о том, как закончилась предыдущая война, как в Познани дети разоружали взрослых немцев, забирали у них штыки и винтовки и пели, что Польша будет жить.
И неожиданно умолкла. Посмотрела на лица внимательно слушающих ее детей, подняла глаза к окну, за которым чернел лес.
– Я хотела бы вас научить… Я хотела бы так научить вас… Но я не умею, – проговорила она тихо.
И протянула к ним руки, натруженные, потрескавшиеся руки, огрубевшие от тяжелой работы.
«А когда пришел хозяин, – рассказывает далее безымянный товарищ Сташека, – и хотел взять детей для работы в усадьбе, учительница ему не позволила. Сказала, что это польская школа. Что дети должны учиться и не могут заниматься физическим трудом. Что хозяин должен быть человеком, а не только немцем».
Вечером ее арестовали и после короткого бурного допроса доставили в форт, в тюрьму и заперли в подвале, набитом молчаливыми, как камни, людьми. Она протиснулась в угол и уселась, уткнувшись подбородком в колени. Есть не давали ни в тот день, ни на следующий. Ночью их погрузили в машину и вывезли в лес. Там им было приказано взять лопаты и копать ров. Учительница работала спокойно и умело, выбрасывая глину на край ямы полными лопатами. Потом лопаты у них отобрали и приказали лечь ничком на дно ямы. Потом их расстреляли, ров засыпали, а землю старательно и крепко утрамбовали. Ordnung muss sein.
Затравленные зверята
Несколько страничек, вырванных из книги, листок из тетради со сделанным уроком, – все это лежит на донышке плетеной корзинки, наполненной овощами. Двери на втором этаже не заперты. Она снимает башмаки внизу и тихонько, на цыпочках, чтобы не привлечь внимания соседей и не запачкать носков, взбегает по каменным ступенькам на второй этаж. В комнате, заставленной орехового дерева окованным бронзой комодом, старым мещанским массивным, покрытым скатертью столом, на котором стоят фотографии, раковины и цветы, уже сидит, подобрав под себя ноги, другой ребенок и, отведя рукой занавеску, с любопытством поглядывает на улицу. Внизу на мостовой и тротуаре обычное, каждодневное движение. Волоча за собой шлейф черного дыма, движутся колонны военных машин, обгоняют, сигналя, огромные мебельные фургоны, запряженные четверкой или шестеркой лошадей и марширующие военные отряды. Город является крупным железнодорожным узлом. Через него беспрерывно идут большие воинские эшелоны.
Девочка опускает занавеску, она закрывает окно, и в комнате становится немного темнее. Девочка с корзинкой надевает на ноги ботинки и из-под пучков лука вытаскивает разрозненные, помятые и слегка запачканные странички. Они разговаривают шепотом, держа странички на коленях.
– Ты выучила сегодня урок?
– Нет. Надо было помочь по дому. Мама в деревню торговать поехала и не вернулась.
– Это плохо, надо было выучить. Учительница будет сердиться.
Девочка кладет корзинку под стол и поджимает ноги.
– Знаешь десятую заповедь?
– Знаю.
– А четвертую?
– Чти отца своего…
– А пятую?
– Не убий. Эти немцы не знают заповедей, или просто плохие люди. Почему они убивают?
– Глупая ты, не знаешь почему. Потому что им так нравится.
– Мама не вернулась из деревни. Только бы немцы ее не убили.
– Рядом с нами недавно расстреляли евреев. Всю ночь ездили и кричали. Папа так испугался, что убежал в хлев.
Дверь тихонько скрипнула. На улице уже сумерки. В комнате почти совсем темно. На лице учительницы лежат глубокие тени и под глазами синие круги.
Она только что вернулась с работы при паровозах. Сняла в кухне пропитанный маслом комбинезон и умылась в тазу. Она еще не ужинала, на это будет время после полицейского часа. Заперла дверь на ключ и вошла в комнату. Эти две задиристые наивные девчонки – вся ее школа. Днем они посещают немецкую школу, а вечерами их давняя учительница из польской школы экзаменует своих учениц.
– Сколько главных грехов?
– Шесть, – отвечает девочка с корзинкой.
– Стыдись, – говорит ей та, чей отец прятался в хлеву, – главных грехов семь. Спесь, жадность, зависть…
– Скажите, пожалуйста, а какой грех самый большой, ну самый, самый большой?
– Думаю, дитя мое, что спесь.
– А немцы спесивые или жадные?
– Думаю, прежде всего, они завистливы, – отвечает мойщица паровозов.
– А когда мы кончим катехизис, что учить будем?
– Если вы будете учиться так же небрежно, как до сих пор, мы никогда не кончим катехизис.
– Но все-таки когда кончим?
– Мы будем учить польский язык, географию, арифметику. А теперь помолчите, я расскажу вам, почему нельзя убивать.
– А что учат мальчики с учителем, который живет на четвертом этаже?
– Даже если я и скажу, вы все равно не поймете.
– А учитель гимназии из Быдгоща придет?
– Ну, девочки мои, откуда мне знать?
– Простите, пожалуйста, но мой брат сказал, что этот учитель и вы… – говорит девочка с корзинкой. – Мой брат ходит в группу этого учителя.
– Ну, хватит, замолчи, – буркнула девочка с поджатыми под себя ногами.
– Молчу, молчу, – ответила другая.
В конце коридора на кухне хлопочет сестра учительницы, Марта. Она заперла дверь на ключ, тревожно поглядывает по временам в окно и прислушивается к шагам на лестнице. Когда уйдут эти две разболтавшиеся девчонки, придут другие, вежливые и строптивые, а потом сестра потащится на другой конец города на урок математики. Получала она полторы марки за час. Дети в своих сочинениях пишут, что на эти деньги ничего, кроме газет, нельзя было купить, потому что товары продавались только по карточкам. «Но деньги ничего не значили в сравнении с опасностью, – пишет девочка, мой молодой информатор. – Раз дело чуть не дошло до катастрофы».
Сестра учительницы, Марта, мыла на кухне посуду. В тазу бренчали фаянсовые тарелки. В кране шумела вода. Сквозь этот шум прорвался рокот мотора и стих. Марта выглянула в окно, опершись на подоконник мокрыми руками. У ворот, с визгом затормозив, остановилась машина. Из нее выскочили несколько штатских и кинулись к подъезду. Два солдата сошли с прицепа мотоцикла и стали у дверей. Марта выбежала из кухни, чтобы предупредить сестру и детей. Но на лестнице уже грохотали шаги, дверь сотряслась от ударов кулаком. Марта сняла цепочку и отомкнула замок. Руки ее дрожали, как при большой усталости. Они с шумом вошли в коридор, огляделись.
– Здесь живет учитель? – спросил один в плаще реглан. Шея у него была замотана шелковым в клетку шарфом. Волосы были цвета платины, а лицо розовое, как у ребенка.
– Здесь живет польский учитель?
– Нет, – возразила Марта, – здесь живем только мы с сестрой, она работает на железной дороге, моет паровозы.
– Яблонский, учитель гимназии? – вновь спросил блондин, заглядывая в листок. Правую руку он держал в кармане. Остальные стояли и смотрели на Марту.
– Тот поляк живет на четвертом этаже, – сказал дворник, высовываясь из-за спин гестаповцев.
Только теперь Марта увидела его. И, пораженная, застыла на месте. Там, на четвертом этаже, тоже шли уроки с группой гимназистов. Сегодня туда приехал и историк из быдгощской гимназии. У них, наверное, были новые книжки, присланные польскими школьными властями из Варшавы. Не зря же там ночевали хлопцы из «Серых шеренг».
– Ах так, на четвертом, прекрасно, – пробурчал тот, в плаще реглан и, повернувшись к двери, любезно добавил: – Прошу прощения. Herraus![149]149
Вперед! (нем.)
[Закрыть] – крикнул он своим.
Они вышли, стуча сапогами. Марта закрыла за ними дверь, заперла на ключ, заложила на цепочку. Оперлась о стенку и стиснула на груди руки. Должно быть, она была очень бледна.
Все это время они сидели не двигаясь, как мертвые. Лицо учительницы стало пепельно-серым. Она смотрела на девочек. Машинально мяла в руках страничку из катехизиса. Наконец она справилась с дрожью в руках, и, когда Марта открыла дверь, на лестнице прогрохотали тяжелые сапоги жандармов и послышались раздирающие душу всхлипывания мальчишек, она тихо сказала:
– Самая важная заповедь, девочки, пятая: не убий!
– Ах, Стефа, какой в этом смысл! – возмутилась Марта, – ведь это стоит столько крови. Ведь это настоящее безумие! И во всей стране такое происходит! Может быть, мы ради собственных иллюзий подвергаем детей опасности? Зачем все это? Зачем?
Учительница подняла на сестру свои усталые, обведенные темными кругами глаза. Встала из-за стола, отложила страничку, вырванную из катехизиса, и подошла к окну. Девочки встали с дивана и прижались к ней. Она крепко обняла их. По улице ехали военные машины и брели редкие прохожие. Блондин в клетчатом шарфе переходил на другую сторону улицы. Жандармы грузили в машину детей, учителя и хозяина квартиры. У учителя были связаны руки. Он был без шляпы, с развевающимися волосами. Его, наверное, били. Выглядел он моложе, чем обычно. Дети сидели в машине испуганные, сжавшись, как замерзшие куропатки.
– Как это зачем? – Обернулась учительница к сестре. – Не понимаешь? Чтобы мир был лучше, – добавила она, помолчав минуту.
Я просмотрел сотни сочинений и воспоминаний детей из этого города в поисках дальнейшей истории учительницы, чтобы узнать судьбу тех, кого увезли тогда в машине. Кто-то из уроженцев тех мест сказал мне, что учитель и его ученики пропали бесследно.
– Может, их расстреляли в гестапо, может, они умерли в лагере, может, их убили где-нибудь в дороге. Разве вы не знаете, что это было обычным делом? Кто там переписывал все фамилии? В конце концов, какая разница – шесть миллионов или семь…
В нескольких сочинениях говорилось об учительнице. Осенью ее арестовали и вывезли в лагерь в Равенсбрюк. За несколько дней до конца войны ее, как больную туберкулезом, переправили в Швецию. Чуть-чуть подлечившись, она вернулась домой. И разумеется, по-прежнему учительствует.








