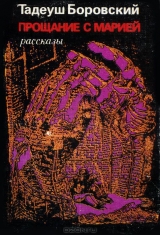
Текст книги "Прощание с Марией"
Автор книги: Тадеуш Боровский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
– Пошли, – нетерпеливо вскочила она, отодвигая мои руки. – Поедем со мной! Ах, поедем со мной! Я так боюсь Палестины!
Вдоль леса пролегала асфальтированная дорога, окаймленная тополями. По ней гуляли разгоряченные, пестро одетые пары.
– Видишь, Нина, – прервал я молчание уже на опушке леса и обнял ее за талию, – вот так живут немцы. И я бы хотел так жить, поняла? Без лагеря, без армии, без патриотизма, без дисциплины, жить нормально, не напоказ! Не есть суп из общего котла, не думать о Польше.
– И правильно, – подхватила Нина, – едем со мной на запад. Я совершенно свободна, поверь.
– А парень в Польше?
– Я его забуду.
– Но пока не забыла?
– Не было других, потому не забыла.
– Не было?
– Те люди, с которыми я еду из Польши, – минуту помолчав, с заметным усилием продолжила она, – это чужие. Я могу с ними расстаться. Поедем в Брюссель. У меня там сестра замужем за богатым бельгийцем. Я поступлю на медицинский.
Асфальт под ногами был раскален. Над головою плыли пышные кроны тополей, образуя свод, который вел до кирпичных стен и башен казарм, дальше зелень опоясывала их и, отливая золотом, как спелое яблоко, изгибалась мостом над черепичными кровлями пригородного селения, которые просвечивали сквозь голубоватую дымку, будто сквозь шелковую шаль.
– Останься со мной, Нина, – сказал я неожиданно для самого себя. – Я тут пока никто, но я пробьюсь. У меня есть друзья, они мне помогут, у меня книги, от которых мне трудно оторваться. Я их так собирал, понимаешь? Я боюсь рисковать, я слишком много видел смертей, чтобы дать себя убить. Пусть другие, а мне-то зачем? Я боюсь пространства, людей боюсь – ведь кто я такой? Какие у меня права? – Я умолк, мысленно подыскивая, какие права могли бы мне помочь. – Никаких! Понимаешь, никаких! – Я помолчал, вглядываясь в ее лицо, словно ища сочувствия. – Если мы отсюда уедем, никто нас не накормит. На каждом перекрестке нас могут схватить эти черные обезьяны в белых шлемах и сунуть в какой-нибудь лагерь, где мы умрем с голоду.
– Я не боюсь, – сухо сказала Нина.
– Никогда не иметь почвы под ногами! – Я запнулся, подбирая убедительную метафору. – Быть как дерево без корней! Засохнуть!
– Значит, ты возвращаешься в Польшу, – определила девушка и презрительно скривила рот, когда я попытался оправдываться. – Я тебе была нужна только на один день, как всем.
– Всем? – И я присвистнул сквозь зубы.
– Да, всем! – выкрикнула она. Споткнулась. Я поддержал ее за плечи. Она резко и враждебно вырвалась. – Всем, для кого я – еврейка! Видишь это? – она приподняла двумя пальцами талисман, похожий на свисток. Пальцы ее дрожали. – Ты, в отличие от других, до сих пор не спросил меня, что это. Это скрижали Моисеевы, заповеди на древнееврейском. Это должно объединять меня с евреями. Но я не еврейка и не полька. Из Польши меня выгнали. К евреям у меня отвращение. Я думала, что есть еще другие люди. Но ты не человек, ты только поляк. Возвращайся в Польшу! – с издевкой крикнула она. – Возвращайся в Польшу!
– Возвращайся в Польшу! – Я испугался голоса, как птицы, внезапно вырывающейся из-под ног. В высокой золотистой траве блестела коротко остриженная голова. Стефан поднялся с земли и поклонился девушке. – Возвращайся в Польшу, – повторил он. – Идем со мной. Я иду пешком.
– Пешком? Вот геройский парень! – притворно восхитился я. – А немка где? – Я подозрительно осмотрелся.
– Пошла в кусты. Ну, в общем, я проводил ее домой. – Он погладил рукой волосы. – Деваха что надо. Пойдешь со мной?
– Я, знаешь, пошел бы, да вот… – запнулся я в нерешительности. Суконный мундир обжигал тело. Стефан, прищурив глаза от солнца, глядел на меня из-под опущенных век с откровенным презрением. Он вертел в руках сухую веточку, она с треском сломалась.
– Все книжечки, книжечки! – горько усмехнулся он. – Ты это хотел мне сказать? И что в дороге будешь голодать? Что не знаешь, как все уладится? А я тебе скажу: юбка держит тебя, брат. Поймал юбку, поймал, да? – Зубы у него блеснули, как у собаки. Он приложил ладонь к подбитому глазу. – Что у тебя тут есть, кроме этой жидовки?
– Пошли в лагерь, – сказала Нина громким шепотом. – Вы же, вы же… – Она сжала кулаки. Подбородок ее судорожно дрожал. – Вы же – как эсэсовец!
Стефан слегка усмехнулся. Он на девушку не обращал внимания.
– Лагерь окружен американцами, – сказал он мне. – Я хотел зайти и взять одеяло. Не пустили. Завтра будут всех вывозить! Всех!
– Ты спятил? И Полковника, и Майора? И весь штаб? А ксендзы, а кухня?
– Иди в лагерь, сам увидишь, – сказал Стефан. – Жду тебя в Польше.
– Нет, они не вывезут, ты ошибаешься, сегодня же «Грюнвальд».
– «Грюнвальд»! – Стефан засмеялся, опять потрогал свой подбитый глаз. – Пошел ты со своим «Грюнвальдом»! – иронически проговорил он и, не прощаясь, скрылся в лесу. Потревоженные еловые ветви заколыхались за ним.
– Идем в лагерь, – сказала Нина. Она тяжело дышала, как выброшенная на берег рыба. – Ничего не поделаешь, идем. Может, нам удастся пройти внутрь.
– Наверняка удастся, – сказал я как-то слишком поспешно. Я взял ее под руку и повел по дороге. Она прильнула ко мне. Губы ее беззвучно шевелились, будто она сама с собой разговаривала. По асфальту непрерывным потоком катили велосипеды. Немцы пользовались жаркими летними послеобеденными часами. На перекрестке сидел человек из лагеря. Два красных чемодана он поставил в тень, чтобы не растаял лак. Сам он рылся в раскрытом рюкзаке. Красное кепи съехало на ухо. При каждом движении головы болталась черная кисточка.
От лагеря до самого леса двигалась, извиваясь в траве, вереница людей. Им были известны все щели и хуже охраняемые проходы, и они покидали лагерь, пока еще можно было.
Мы ускорили шаг. Кроны деревьев шумели, будто лес сопровождал нас. Возле засохших кустов стояло несколько танков и аккуратно, как в мануфактурной лавке, лежали рядами винтовки, пушечные снаряды и немецкие мины. Их охранял задремавший от жары американский солдат.
На дороге колонна грузовиков стояла, повернув узкие, как у голодных крыс, морды в сторону лагеря. Ждали утра. Между грузовиками крутились полуголые негры. Их тела блестели от густого коричневого пота, будто окропленные жидкой медью. Они что-то прокричали нам, когда мы обходили их стороной, чтобы, выйдя к казармам с тыла, пробраться в лагерь через разрушенные, заваленные щебнем ворота, классическое место для доставки баранов. У этой дыры никого не было. Зато возле угла, где от ограды падала на раскаленную землю полоска прохладной тени, под навесом из картона, положенного на несколько жердочек, сидел солдат и дремал. Шлем он положил на траву, винтовку поставил между коленями и дремал, уткнувшись подбородком в грудь. Возле другого угла стояли два солдата в расстегнутых сорочках, громко разговаривали и угощали друг друга сигаретами.
На самом виду, посреди лужайки, стояли мы перед воротами, как пара заблудившихся детей перед избушкой колдуньи.
– Подождем до темноты, – сказал я, охваченный смутной тревогой, – они могут нас не пустить. Вернемся в лес.
Она высвободила свою руку, прыснув коротким, презрительным хохотком.
– Ты так торопился на «Грюнвальд», что же теперь? Опять боишься? Спокойно, малыш, иди за мной.
И прежде чем я успел что-либо ответить, сделать какое-либо движение, девушка нетерпеливо поправила юбку, одернула на слишком пышном бюсте блузку и стремительно побежала к воротам. Добежав до кучи щебня, она начала на нее взбираться. От порыва ветра юбка ее туго облепила бедра и растрепались волосы. Идя против ветра, она рукой придержала волосы. На миг обернула ко мне иронически улыбающееся лицо. Крикнула что-то, но ветер развеял звуки ее голоса. Я побежал было к ней и вдруг остановился. Я поднял руку, подавая ей знак, но она как раз отвернулась, я хотел крикнуть, но почему-то не мог. Два солдата, угощавшие друг друга сигаретами, повернулись к воротам, и один из них, снимая с плеча винтовку, заорал, хохоча во все горло:
– Fraulein, Fraulein! Halt, halt! Come here![97]97
Барышня, барышня! Стой, стой! Иди сюда! (нем., англ.)
[Закрыть]
– Стой, стой! – визгливо крикнул второй.
Спавший у другого угла ограды солдат инстинктивно поднял голову и вскочил. Наклонясь, он схватил ружье, выскользнувшее на землю, приложил его к плечу, в одно мгновенье наклонил голову вправо и…
Девушка, как бы защищаясь, подняла руку к горлу, словно ей вдруг не хватило воздуха. Она сделала еще шаг на краю кучи, мягко сползла по ней, как бы поскользнувшись на кирпичах, и исчезла за гребнем насыпи, будто ее сбросили в яму. По ту сторону кучи, на территории лагеря, раздались голоса, они становились все громче, затем перешли в сплошной гул. Два солдата, которые, смеясь, окликали девушку, бросили недокуренные сигареты, притоптали их и взбежали на груду щебня. Заспанный солдат, тот, который стрелял, надел винтовку на плечо дулом вниз, поднял с земли шлем, отряхнул его, нахлобучил на голову и, беспечно посвистывая, тоже поспешил к воротам.
Я медленно поднялся на кучу щебня, перешел через нее на глазах у всех и опустился рядом с Ниной.
Падая, она оцарапала щеку о кирпичи. На скривившуюся, влажную, залитую свежей кровью губу села большая с синеватым отливом муха. Напуганная моей тенью, она, жужжа, улетела. Из-под губы мертвенно белели блестящие зубы. Выпуклые глаза помутнели, как застывший студень. Руки, судорожно сжатые в обороняющемся жесте, тяжело лежали на камнях. Последний признак жизни, теплая, с тошнотворным запахом кровь сочилась, расплывалась пятном по блузке, обтягивавшей слишком пышную грудь, и подсыхала ржавой каемкой по краям пятна. Маленький талисман, похожий на свисток, съехал в сторону, покачался на цепочке туда-сюда и повис неподвижно. Я вынул из-под ее головы острый, неудобный кусок кирпича, осторожно откинул волосы, уложил голову на мягкую известковую пыль и, поднявшись с корточек, старательно отряхнул брюки. Вверху, надо мной, стало темно от плотного кольца людей, сосредоточенно, молча глядящих на труп. Действуя локтями, я с трудом пробился сквозь неохотно раздвигавшуюся толпу. Меня все же пропустили и еще плотнее сгрудились над телом.
Во дворе дымили огни под оставленными кастрюлями и котелками. Ветер скручивал дым с треском, как солому, и вышвыривал его за ограду. Доски для костра, сбрасываемые с крыши, бесшумно опустились в воздухе, белея на фоне черных окон, и упали с оглушительным грохотом. С земли взметнулся столб пыли, медленно закружил в воздухе и опал. Из немыслимой дали доносился до меня монотонный, приглушенный гул голосов, будто через стену. Из-за жилых домов городка, с улицы, обсаженной молодыми платанами, из-за угла гаража, где торчали длинные, покрытые брезентом дула пушек, вынырнул маленький смешной джип, набитый солдатами; он проскользнул между деревьев, пыхнул большущим клубом дыма и пыли, уперся колесами в землю и, со скрежетом затормозив, остановился.
– What's happened?[98]98
Что случилось? (англ.)
[Закрыть] Почему эти люди так кричат?
First Lieutenant наклонился к водителю. Тот равнодушно пожал плечами. Я с удивлением посмотрел на офицера. В окружавшей нас тишине его голос прозвучал резко и неприятно – будто рвали холст. Встретив мой взгляд, офицер замигал и поджал губы. Он высунул из машины ногу, нерешительно покачал ею. На коричневом, блестящем полуботинке блеснул и расцвел солнечный луч. Два солдата с автоматами на коленях сидели развалясь на заднем сиденье. Водитель полез в карман, достал пачку сигарет, сорвал цветную полоску, перегнулся назад, угощая. Они закурили. Нежный ручеек голубого дыма поплыл перед их лицами и, подхваченный ветром, растаял в воздухе. Я не торопясь подошел к машине.
– Do you speak English?[99]99
Вы говорите по-английски? (англ.)
[Закрыть] – быстро спросил First Lieutenant. Он медленно подвигал челюстью, словно делая разгон, и стал жевать.
– I do[100]100
Да, говорю (англ.)
[Закрыть], – кивнул я утвердительно. Мой голос гулко отдался у меня в голове, словно в пустом зале, я даже вздрогнул. Я смотрел на офицера не как на человека, а как на далекий, безразличный мне предмет.
Толпа плотно загораживала труп девушки, но теперь все отвернулись от него и смотрели на солдат. В ушах у меня гудело, будто я был в наушниках. Внезапно людская стена зашевелилась, расступилась.
– What's happened? – повторил еще резче Старший Лейтенант. Подошва его коснулась земли. Казалось, он сейчас выскочит из джипа. – Кто обидел этих людей? Почему они так кричат? Что случилось?
Солдат с винтовкой, обращенной дулом вниз, вышел из толпы, а за ним протолкались те двое, которые тогда курили сигареты. Однако прежде чем тот, что шел впереди, успел что-либо сказать, я обратился к офицеру.
– Nothing, sir[101]101
Ничего, сэр (англ.)
[Закрыть]. Ничего не случилось, – успокоил я его, небрежно взмахнув рукой и учтиво подавшись вперед всем телом. – Ничего не случилось. Просто минуту назад вы застрелили девушку из лагеря.
Старший Лейтенант выскочил из джипа, как отпущенная пружина. Лицо его на миг налилось кровью и сразу побелело.
– My God[102]102
Мой бог (англ.)
[Закрыть], – сказал он. Видно, у него внезапно пересохло во рту, потому что он, скривившись, выплюнул жевательную резинку. Розовый комочек заалел в дорожной пыли. – My God! My God! – Он схватился за голову.
– Мы здесь, в Европе, к этому привыкли, – равнодушно ответил я. – Шесть лет в нас немцы стреляли, теперь выстрелили вы. Какая разница?
По низко стелившейся пыли, как по мелководью, я, не оглядываясь, тяжело ступая, пошел в казармы, к моим книгам, к моему барахлу, к моему ужину, который, наверно, уже для меня взяли. Тишина, как воздушный шарик, с шумом лопнула. Лишь теперь я осознал, что толпа плотно сгрудилась над телом девушки и, глядя в глаза солдатам, ритмично и грозно скандирует:
– Ге-ста-по! Ге-ста-по! Ге-ста-по!
V
Солдатская комната была разорена. На столах и на полу белели в густой тьме черепки фаянсовых мисок, будто обглоданные, сухие кости. Стянутые с коек сенники бессильно свисали, как тела убитых. Из шкафов, как из вскрытых, выпотрошенных животов, ползли тряпки и, скомканные, валялись на полу. Под ногами шелестели груды измятых, изорванных книг. В воздухе слышался затхлый, подвальный, трупный запах, как если бы эти разбитые, изодранные тряпки, сенники, черепки и книги гнили и разлагались.
Синий прямоугольник распахнутого в ночь окна расцвел, точно гигантским цветком, красной ракетой. Стреляли из высокой башни у ворот. Мягкий свет бесшумно облил оконные стекла, как свежая кровь. Тени заколебались, закачались, будто волны на воде, и поднялись вверх.
Пользуясь светом ракеты, я заглянул в шкаф. Из него было вынуто все, что годилось к употреблению, а остальное уничтожено. В глубине я нащупал в кастрюльке уцелевшие картофельные оладьи. Они зашелестели в моих пальцах, как сухие, хрупкие листья.
Ракета проплыла на мостовую, несколько раз подпрыгнула, блеснула поярче красным огнем и погасла. Стало совсем темно. Я подошел к койке, пошарил по ней. Пальцы проехались по шершавому сеннику. Одеяла не было. Украли. В глубине комнаты кто-то со стоном зашевелился на койке. Пронесся обрывок горячего шепота, приглушенное, внезапно оборвавшееся хихиканье потонуло в громком шорохе соломы. Затем умолкло.
– Цыган? Это ты, Цыган? Это ты, брат? – спросил я, испытывая огромное облегчение. Я отошел от шкафа и, задевая за койки, побрел в глубь комнаты. Под ногами хрустело битое стекло. – Ты здесь, Цыган? – В нерешительности я остановился и с напряжением ждал ответа.
– А где ж мне быть, если все у меня так дьявольски болит! – простонал в темноте Цыган. Сенник опять беспокойно захрустел. – Ну и народ, что натворили! Лучше бы мне не дожить до этого. Никого не было, никто за едой не пошел…
– Никто не принес ужин? – с отчаяньем выкрикнул я. Я ощутил внезапный, пронзительный голод. Опершись о стол, нащупал табуретку. Сел. – Нет ужина, – машинально повторил я. – А завтра эшелон, и опять не дадут есть.
– Никого не было, никто их не остановил, – плаксиво тянул Цыган, захлебываясь словами, будто всхлипывая. – Ворвались в комнату, все перебили, разграбили. Ох, пан Тадек, если б вы видели, если б вы только видели, сердце бы у вас не выдержало. Поразрывали ваши книги, у пана Коли забрали сигареты. Поляк у поляка! О, боже милосердный, смилуйся над нами! И у меня сапоги забрали. Еле костюм уберег. Он у меня под подушкой лежал.
– Нечего было сырую баранину жрать – тогда бы и ты сегодня пограбил, ребята к транспорту готовятся, не удивительно, что крадут, – сказал я насмешливо. Стиснув зубы от досады, я ударил ногой по валявшемуся на полу черепку, он со стуком покатился по бетону.
– Готовятся, готовятся, чтоб им так в пекло приготовиться, – всхлипывая, выругался Цыган. – А пан Редактор пришел и ваши книги из шкафа взял. Говорит, вы, наверно, не вернетесь, так жалко оставлять. А ему, мол, пригодятся, потому как он поехал к генералу Андерсу[103]103
Андерс Владислав (1892–1970) – польский генерал; в 1945 году командовал польскими войсками в Западной Европе.
[Закрыть].
– Редактор? Который мне суп давал? Поехал? Таки поехал? Без меня! – Я снова почувствовал, что голоден.
– А пан хорунжий сидит в карцере, и пан Коля сидит в карцере, – монотонно гундосил Цыган. На темно-синем небе опять загорелась красная ракета, рядом с нею расцвели зеленые, оранжевые, желтые и целым букетом поплыли на землю. Темное лицо Цыгана залилось мертвенным, как ртуть, неоновым светом и исчезло во мраке. – Еще говорили, что пана хорунжего и пана Колю отошлют в наказание в Польшу.
– Так ведь Колька хотел ехать в Италию! – с удивлением воскликнул я. – Значит, в Польше они встретятся со Стефаном. Ну, он им там покажет, какой он капо.
– А пану хорунжему сломали тумбочку, фотоаппарат забрали и деньги. Ох, боже, боже… Да мне подложили…
– Не ври, не ври, паршивый Цыган, не то опять тебе морду набью… Ты сам стащил деньги. Подглядел, как отец прятал, – отозвался снизу сын хорунжего. Аж койка заскрипела от возмущения.
– О, вам удалось вернуться? – любезно порадовался я. – А папочка о вас беспокоился.
– Пусть папочка о себе беспокоится, если он такой дурак, чтоб драться, – пробурчал сын хорунжего. – Я сам выкручусь. Я дураком не буду, с эшелоном в Польшу не поеду, – презрительно добавил он.
– Вы что-то раздобыли?
– Да, раздобыл, – ответил он, – только не барана. Кое-что получше барана. Вот послушайте. – Он покопошился, и из темноты раздался возмущенный женский визг. – Немочку приобрел. Протащил через дыру. Знакомые ковбои стояли в карауле.
– Ну, и везет же вам! – вздохнул я с завистью.
– Могли б и вы ухватить, кабы походили. А вы только с книгами все да с книгами. Само ничего не придет. Тут важно сегодня успеть.
– А завтра? Когда в эшелон погонят?
– Про завтрашний день будем толковать завтра, – последнее слово потонуло в хриплой зевоте. – Ребята не дадутся.
– Вы так думаете?
– Они уже к обороне готовятся, – убежденно заверил он. – Там, – он махнул рукой в сторону освещенного ракетами двора, – «Грюнвальд» устраивают. Но мы устроим еще лучший «Грюнвальд». У ребят браунингов – ого-го сколько! А гранат, а винтовок, а автоматов! Что ж, по-вашему, у них только ракетницы для «Грюнвальда»? Как поставят пару пулеметов на крыше да как жахнут… Неужто «океи» не побегут?
Он приподнялся в кровати, будто желая встать. Но только укутал женщину одеялом по самую гривку светлых, пушистых волос, со вздохом упал на постель и сунул руку под одеяло.
Небо играло всеми цветами. Фонтаны ракетных огней плыли по воздуху, опадали раскаленными каплями на дно мрака, разбрызгивались по небу. Красные крыши казарм жутко переливались разными цветами на фоне неподвижного неба, которое то и дело словно пропитывалось темно-синим соком.
– «Грюнвальд» устраивают, – сказал я, обращаясь к сыну хорунжего. – И завтра должны были повторить. Смотри, как бы утром ее не нашли, жалко будет.
– Подумаешь, великая беда! – голос у него слегка дрожал, будто он запыхался. – И пусть ее схватят. Нужна она мне будет, что ли? А может, пойду с ней к ребятам и засядем на крыше. Там есть такие закоулки, сам черт не найдет. А закончится операция, мы выйдем, и прощай, до следующей встречи!
– Эшелон, кажись, в Кобург направляется, – сказал Цыган. – Как же я могу ехать, когда я такой больной? Может, меня не возьмут? Пан Тадек, ты же умеешь по-английски, может, попросил бы ковбоев, а, пан Тадек?
Он лежал раскрытый и тяжело дышал, как издыхающее животное. Его глаза, светившиеся отраженным светом ракет, уставились на меня. На темном, изможденном лице они блестели страшно, будто фосфорические.
– Ты что, вообразил, что я буду за воров заступаться? Жаль, что не придушил тебя по дороге в Дахау, тогда бы у тебя сегодня не было забот, – с презрением процедил я. Сын хорунжего захихикал и заворочался на койке. – Мне самому надо от эшелона прятаться. Потом будет легче получить какое-нибудь местечко в лагере, интенданта или секретаря, – прибавил я чуть мягче. – А что еще делать?
– Сходил бы ты на «Грюнвальд», – посоветовал сын хорунжего, – а когда закончится, переночуешь тут. Я-то пойду мясо готовить.
Я встал из-за стола и, ступая по книгам, добрался до двери. В этот момент ее открыли с другой стороны, и в черном мраке коридора замерцало в свете желтой ракеты темное лицо с приоткрытым ртом. Ракета поплыла вниз, засветились розовым блестящие очки.
– Это вы, Профессор? – истерически выкрикнул я и повел его к столу. – Вы меня искали?
Профессор по-прежнему был в кожаных тирольских шортах. По его белым, поросшим редкими черными волосками коленям скользили разноцветные блики, заливали сорочку, поднимались по лицу и убегали в окно.
– Да, искал, – сказал Профессор. – Я же говорил, что зайду к вам. Я занял для вас хорошее место у костра. Сейчас начнется. Где вы были так долго?
Он хлопнул себя по коленям. Сунул руку в кармашек. Мятая, надорванная сигарета мелькнула в его пальцах и заалела во рту тусклым огоньком, от которого стали ярче красные губы и заиграли слабые отсветы в лицевых впадинах.
– Сам не знаю, где я был, поверьте, – слабым голосом ответил я и, опустив голову, уставился в пол. Там лежала изодранная гравюра из героических, веселых и похвальных похождений Уленшпигеля – девушка с обнаженной грудью, играющая у стены на гитаре. – Бродил где-то там, по лагерю. Да не все ли равно? Светские приличия? Здесь? Накануне отправки эшелона? Уже завтра мы не встретимся.
– Мир тесен! – вскричал Профессор и затянулся. Пушистый клуб дыма засветился розовым брюшком и, выгнув синий хребет, распластался под потолком. – Непременно встретимся. Не на этом, так на другом лугу, – вернулся он к своему любимому образу. – Только… – Он вдруг, на полуслове, помрачнел. – Ее застрелили, – сказал он, помолчав и швырнув окурок, – застрелили у ворот. Она гулять пошла.
– Ваша соседка?
– Да, та, что приехала из Пльзеня. Моя соседка по дому. Когда я уезжал в сентябре, она еще была ребенком. Бывало, я часто покупал ей пирожные. Знаете, были такие с кремом. А наверху клубничка. – Он посмотрел мне в глаза, сомневаясь, помню ли я. – Мы с ее отцом были друзьями, – прибавил он, поясняя. – А теперь, вот видите, – он хлопнул меня ладонью по плечу, – какая стала пышная женщина! Она у меня уже почти была в руках, я уже гладил ее, и вот такое несчастье!
Он опять полез в карман. Порылся там с ожесточением. Не нашел. Тяжело вздохнул и подпер голову руками.
– Какое несчастье! – повторил он будто сонным голосом. – Что же делать! – Он помолчал, покачал головой. – Пошли на «Грюнвальд»! – решительно сказал он.
– Это я был с ней. Я был с ней в лесу, – сказал я неожиданно для самого себя. – Ее застрелили при мне. А вы про «Грюнвальд»…
Я вскочил с койки. Профессор поднял голову, тяжело пошевелился, будто выходя из воды, покачнулся и схватил меня за руку. Бронзовый олень на перемычке, соединявшей его подтяжки, дрожал в свете ракет, как живой. Разноцветные блики смешивались на костистом лице Профессора и густели, красный цвет сливался с зеленым, они вместе поднимались к его лбу, плыли под потолок, а на их место лились розовые, голубые и желтые пятна и оседали под подбородком, в углах рта, под глазами, в ушных ямках, словно краски на портрете.
Лицо Профессора играло всеми цветами радуги, набрякало, разбухало изнутри, скулы надувались как стеклянные, переливчатые шары – казалось, Профессор задыхается от света. Внезапно он со свистом выдохнул и, широко раскрыв рот, разразился громким, оглушительным хохотом.
– Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! – долго закатывался он, все сильнее сжимая мне руки, а свет тотчас проник в его открытый рот и забурлил там всеми цветами.
– Пан Профессор, перестаньте! – крикнул я, вырывая руки из его ладоней. – Вы с ума сошли!
– А я-то думал, что сегодня буду с ней спать! Ужин приготовил. Даже простыню добыл! Ха, ха, ха, ха! А это вы с ней! Молодость! Молодость! – Он трясся всем телом от хохота, высокий, худой, отвратительно разноцветный. – Значит, она была просто такая вот! Я ее хотел! Ха, ха, ха, ха!
Он вдруг пошатнулся, сильно закашлялся и нагнулся, харкая на пол. Вся комната, наполненная бликами, качалась, как корабль. Пестрые сенники, столы, стены, миски, книги переливались всеми цветами и вращались, будто яркие шары.
– Вот видишь, Профессор, – подал голос из угла сын хорунжего, – не надо было влюбляться на старости. Девушку не получил, зато чахотку имеешь. И «Грюнвальд» не увидишь. Лежи, лежи, зараза, – раздраженно рявкнул он, и койка затрещала. – Вертится, будто ее кипятком обливают.
– «Грюнвальд», да, конечно, «Грюнвальд»! – Профессор выпрямился. Лицо его занялось бледным медузьим свечением, погасло с последней ракетой и посерело, как остывшая зола. – Пошли все на «Грюнвальд»! За окном, во мраке, погасившем ракеты, вдруг взорвалось рыжее пламя, полизало черные окна, как ластящийся пес, и раскачало позади себя мрак, будто колокол. Тени деревьев удлинились, вытянулись выше крыши и заколыхались, как огни свечей.
– Пошли все на «Грюнвальд»! – пропел Профессор. Он потащил меня к окну. – Смотрите, смотрите! – нетерпеливо кричал он. Потом обернулся к комнате. – Пойдемте все! – сказал он просительно. – Возьми свою девушку, пусть и она посмотрит.
Я перегнулся через подоконник. В черной чаше двора, вокруг колеблющегося столба пламени, которое, терзаемое ветром, развевалось, как грива мчащегося коня, стояла безмолвная толпа. Блики скользили по лицам и как бы вливали в них кровь, которую сразу же высасывал мрак. Сухие доски горели с треском, и искры улетали в темноту. Вспышки ракет прекратились.
– Вы бывали в церкви этого немецкого поселка? Нет? – Профессор уже овладел собой. Он говорил серьезно, даже строго. Его лицо, окруженное мраком, опять стало заострившимся и усталым. – Я туда каждый день хожу. Спокойно. Все наполнено богом. Прямо через край льется. Амвончики, в окошечках решеточки, маленький алтарик, на стеночках изречения из Библии. А у одной из стенок крестики, на крестиках свастики, сплошь эсэсовцы! Понимаете? А цветов-то под крестиками, пропасть цветов! – В его глазах мелькал рыжеватый отсвет костра. – Вот так немцы чтят своих покойников.
– А мы-то? – с обидой пробурчал я. – Ни одна собака ухом не поведет, когда сдохнешь.
Сын хорунжего встал с койки и голый прошлепал к окну. Девушка в ночной сорочке следовала за ним тихо, как привидение. Смуглый Цыган оперся на локоть и с завистью смотрел в окно.
– Мы? – повторил задумчиво Профессор. – Мы-то здесь же, с ними рядом. Мы… Смотрите! – крикнул он хищно. – Смотрите на костер! Этого я ждал, это «Грюнвальд»!
В костер подбросили свежих сосновых веток. Огонь померк. Понесло густым, грязно-серым дымом. Ветер отогнал дым, и пламя взмыло к небу. Из толпы вышел ксендз в сутане. Белый воротничок сжимал желтую шею. Ксендз поднял обе руки, будто благословляя. Откуда-то из недр тьмы выволокли человека в эсэсовском мундире. Шлем с лязгом упал на бетон. Толпа разразилась смехом. Человеку снова напялили шлем на голову. Ксендз взял его за плечи, с усилием двинул и под крики толпы бросил человека в огонь.
Лицо стоявшей рядом со мною девушки стало пепельно-серым. Глаза ее, как два уголька, вспыхнули от ужаса. И тут же погасли. Она опустила веки и судорожно вцепилась в меня.
– Was ist los?[104]104
Что происходит? (нем.)
[Закрыть] – прошептала она, стуча зубами. Я успокаивающе похлопал ее по холодной руке. Она уперлась в меня всем телом. От нее шел особый запах, он ударял в ноздри и проникал внутрь меня.
– Was ist los? – Ее губы скривились. Она откинула волосы со лба.
– Ruhig, ruhig, Kind[105]105
Спокойно, спокойно, детка! (нем.)
[Закрыть], – ласково сказал Профессор. – Это горит чучело эсэсовца. Это наш ответ – за крематорий и за церквушку.
– И за убитую девушку, – проворчал я сквозь зубы.
Я закинул руку назад. Теплое тело девушки плотно прильнуло ко мне и дрожало от возбуждения и страха. Она дышала мне прямо в затылок влажным, горячим дыханием.
Перед толпой появился Актер, толстый, маленький, окутанный светом огня, как красным плащом, и, пока ксендз толкал в огонь все новые чучела, которые, будто облитые керосином, выбрасывали столб огня и корчились в этом движении, как живые, Актер поднял руки, успокоил орущую толпу, одним жестом руки расколол ее, образовав широкую улицу, мотнул головой к темным крышам казарм и подал знак.
Громыхнули каскады ракет. Небо загорелось, как рождественская елка, прыснуло бенгальскими огнями и каплями посыпалось на землю. С крыш раздались долгие очереди автоматов. Дымящиеся пули пепельными полосками прочерчивали небо, как стаи диких гусей. Толпа, озаряемая пожаром ракет, засветилась вместе со всем двором, который клубился и кружился, как подгоняемый ветром мыльный пузырь.
– Пусть мертвые хоронят мертвых, – задумчиво произнес Профессор. – Мы, живые, пойдем с живыми. – Его щеки, пылающие в горниле ракетного огня, опять набухли, раздулись. И Профессор во второй раз захохотал. – Живые с живыми! Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! Живые с живыми! Так, как они, навсегда! Смотрите!
Он протянул руку в сторону зала, тонувшего в мутной мгле. Из его зияющего жерла, как из створок огромной раковины, приоткрытой лезвием огня, между каменными стенами зданий, прочерченных тенями деревьев, по двору бывших эсэсовских казарм, на котором в годовщину битвы под Грюнвальдом бросали в костер соломенные чучела эсэсовских солдат, накануне отбытия эшелона, который должен был все здесь уничтожить и бесповоротно разбросать по свету здешний люд, глухо, упрямо отбивая шаг по бетону, маршировал Батальон – и пел.








