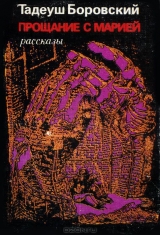
Текст книги "Прощание с Марией"
Автор книги: Тадеуш Боровский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
– Ну, уж не хуже, чем в бабском лагере.
– Не хуже. Но все равно крепкие. А я сидел на полу, в самом низу, на мне куча народу. Думаю: вот хорошо, как будут стрелять, не меня первого убьют. И таки хорошо, потому что стреляли. Дали очередь по всей куче, двоих убили, а третьего ранили в бок. И los, aus[30]30
Давай, выходи! (нем.)
[Закрыть], без вещей! Ну, думаю, теперь капут! Нет, только отколотили! Немного жаль было куртки, в ней Библия лежала, и она, знаете, тоже подарок моей невесты.
– Да и плед, кажется, был от невесты?
– Да. Тоже было его жалко. Но я ничего не взял, меня сбросили со ступенек. Вы и представить не можете, какой мир огромный, когда вылетаешь из закрытого вагона! Небо такое высокое…
– … голубое…
– Вот именно, голубое, деревья так пахнут, лес – рукой подать! Кругом эсэсовцы с автоматами. Четверых отвели в сторону, а нас загнали в другой вагон. Теперь нас ехало сто двадцать, из них трое убитых и один раненый. Чуть не задохнулись в вагоне. Было так душно, что с потолка буквально вода лилась. Ни одного окошка, ничего, все забито досками. Мы кричали «воздуха», «воды», но когда там начали стрелять, все сразу успокоились. Потом повалились на пол, так и лежали как зарезанные поросята. Я снял с себя свитер, две сорочки. Все тело было облито потом. Из носу медленно текла кровь. В ушах шумело. Хотелось поскорей в Освенцим, ведь это означало на свежий воздух. Когда открыли дверь на перрон, с первым глотком воздуха ко мне полностью вернулись силы. Ночь была апрельская, звездная, холодная. Холода я не чувствовал, хотя натянул на себя совершенно мокрую сорочку. Кто-то сзади обнял меня и поцеловал. «Брат, брат», – шептал он. В черноте скрывавшего землю мрака светились ряды лагерных огней. Над ними рвалось ввысь тревожное рыжее пламя. Вокруг него тьма была еще гуще. Казалось, оно пылает где-то высоко в небе. «Крематорий», – пронесся шепот по рядам.
– Красиво говоришь, видно, что поэт, – одобрительно сказал Витек.
Мы шли в лагерь, несли трупы. Я слышал позади тяжелое дыхание людей и представлял себе, что за мной идет моя невеста. То и дело глухие удары. У самых ворот мне дали штыком в бедро. Больно не было, только сразу стало очень жарко. Кровь потекла по бедру и голени. Через несколько шагов мышцы одеревенели, и я стал хромать, конвоир эсэсовец ударил еще нескольких впереди меня и, когда мы входили в решетчатые ворота лагеря, сказал:
– Тут вам будет хороший отдых.
Было это в четверг ночью. А в понедельник я уже пошел на работу, за семь километров от лагеря. В Буды, телеграфные столбы носить. Нога болела – сил нет. Но отдых тут дают, ничего не скажешь!
– Ерунда все это, – сказал Витек, – евреям-то в поезде еще хуже приходится. Нечего тебе хвалиться.
Мнения разделились – и о том, кому хуже, и о евреях вообще.
– Евреи, они знаете какие, эти евреи! – вырвался вперед Сташек. – Увидите, они здесь, в своем же лагере, еще гешефт сделают! Они и в крематории, и в гетто – родную мать продадут за миску брюквы! Стоим мы как-то утром в рабочей команде, возле нас крематорная команда, парни что быки, жизнью довольны, еще бы нет! Рядом со мною мой друг Мойше, тот самый, кочегар. Он из Млавы, и я из Млавы, сами понимаете, земляки, значит, друзья и компаньоны, надежность и доверие. «Что с тобой, Мойше? Чего ты такой скучный?» – «Да вот, получил фотографию своей семьи». – «Чего ж ты огорчаешься, это же хорошо». – «Чтоб тебе подавиться таким „хорошо“, я отца в печь отправил!» – «Не может быть!» – «Вот и может, отправил. Приехал он в эшелоне, увидел меня возле камеры, я туда людей загонял, он кинулся мне на шею, давай целовать и спрашивать, что тут будет, говорит, голодный, два дня ехали не евши. А тут начальник команды кричит, чтобы не задерживаться, работать надо! Что было делать! „Иди, говорю, отец, помойся в бане, а потом поговорим, видишь, теперь мне некогда“. И отец пошел в камеру. А фотографию я потом вынул из его одежды. Вот и скажи, что тут хорошего, что я заимел фотографию?»
Мы рассмеялись. В общем-то, неплохо, что арийцев теперь не посылают в «газ». Что угодно, только не это.
– Раньше-то посылали, – сказал «здешний» санитар, который всегда к нам подсаживается. – Я в этом блоке уже давно, многое помню. Сколько через мои руки прошло народу в «газ», товарищей и знакомых из моего города! Уже и лиц не вспомнишь. Что говорить – масса! Но один случай, пожалуй, всю жизнь буду помнить. Был я тогда санитаром в амбулатории. Перевязки делаешь без особых стараний, известно, на всякие церемонии времени нет. Поковыряешь ему руку, или спину, или еще где – лигнин, повязка и пошел вон! Следующий! Даже на лицо не взглянешь. И никто не благодарит, потому не за что. Но однажды сделал я перевязку какой-то флегмоны и слышу, он уже в дверях говорит: «Спасибо, пан санитар!» Бледный такой паренек, худенький, еле держится на опухших ногах. Я потом пошел его навестить, суп принес. У него была флегмона на правой ягодице, потом на всем бедре, гною уйма. Мучился ужасно. Все плакал, говорил о матери. «Тише ты, – говорю ему, – у нас же тоже есть матери, а мы не плачем». Утешал его как мог, а он все горевал, что домой не вернется. Что я мог ему дать? Миску супа, а иногда кусок хлеба. Укрывал я Толечку, как мог, от селекции, но однажды его обнаружили, записали. Я сразу к нему пошел. У него был жар. Говорит: «Не беда, что меня в „газ“. Видно, так надо. Но когда кончится война и ты переживешь ее…» – «Не знаю, Толечка, переживу ли», – перебил я его. «Переживешь, – настойчиво сказал он, – и поедешь к моей матери. После войны, наверно, не будет границ, не будет государств, не будет лагерей, люди не будут убивать друг друга. Ведь это есть наш последний бой, – сказал он со значением. – Последний, понимаешь?» – «Понимаю», – ответил я. «Поедешь к моей матери и скажешь ей, что я погиб. Ради того чтобы не было границ. Чтобы не было войны. Не было лагерей. Скажешь?» – «Скажу». – «Запомни: моя мать живет в Дальневосточном крае, город Хабаровск, улица Льва Толстого, двадцать пять, повтори». Я повторил. Пошел к старшему блока Шарому, он мог еще вычеркнуть Толечку из списка. А он дал мне по морде и вышвырнул из своей комнаты. Отправили Толечку в «газ». Шарый через несколько месяцев попал в эшелон. На прощанье попросил сигарет. Я подговорил народ, чтобы никто ему не давал. Не дали. Может, я плохо поступил, он же ехал на погибель в Маутхаузен. А адрес Толечкиной матери я хорошо запомнил: Дальневосточный край, город Хабаровск, улица Льва Толстого…
Мы молчали. Курт, обеспокоившись, спросил, в чем дело, он же и так из нашего разговора ничего не понимал. Витек ему изложил в двух словах:
– Говорим о лагере и о том, будет ли мир лучше. Ты бы тоже мог что-нибудь рассказать.
Курт, усмехаясь, посмотрел на нас и сказал медленно, чтобы все мы поняли:
– Расскажу очень короткую историю. Когда я был в Маутхаузене, там поймали двух беглецов, как раз в сочельник. Поставили на плацу виселицу, рядом с большой елью. Когда их вешали, собрали на апельплац весь лагерь. И зажгли огни на елке. Потом вышел вперед комендант лагеря, повернулся к заключенным и скомандовал:
– Haftlinge, Miitzen ab![31]31
Заключенные, снять шапки! (нем.)
[Закрыть] Мы сняли шапки. Комендант вместо традиционной новогодней речи сказал:
– Кто ведет себя как свинья, с тем будут обращаться как со свиньей. Haftlinge, Miitzen auf![32]32
Заключенные, надеть шапки! (нем.)
[Закрыть]
Мы надели шапки.
– Разойдись. Мы разошлись.
Молча, мы закурили сигареты. Каждый думал о своем.
VII
Если бы вдруг рухнули стены бараков, тогда тысячи избитых, сгрудившихся на нарах людей повисли бы в воздухе. Зрелище было бы поужасней средневековых картин Страшного суда. Нет ничего более потрясающего, чем вид другого человека, спящего на своем кусочке нар, на том месте, которое он вынужден занимать, ибо у него есть тело. А уж тело-то использовали на все лады: вытатуировали на нем номер, чтобы сэкономить кандалы, дали столько часов сна ночью, чтобы человек мог работать, и столько времени днем, чтобы мог поесть. А еды ровно столько, чтобы не издох, пока может трудиться. Место для жительства лишь одно: кусочек нар, все остальное принадлежит лагерю, государству. Но этот кусочек места, и рубаха, и лопата – не твои. Заболеешь – все отберут: одежду, шапку, недозволенное кашне, носовой платок. Умрешь – вырвут у тебя золотые зубы, заранее записанные в лагерной книге. Сожгут, пеплом посыплют поля или будут осушать пруды. Правда, при сжигании переводят столько жира, столько костей, столько мяса, столько тепла! Но в других местах делают из людей мыло, из человеческой кожи – абажуры, из костей – украшения. Кто знает, может, все это на экспорт для негров, которых они когда-нибудь завоюют?
Мы работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кирпич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю… Мы закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивилизации. Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи! Сколько крови оросило римские дороги, пограничные валы и городские здания! Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! Этот древний мир был великим заговором свободных людей против рабов!
Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.
Я говорю «нет» красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет – истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет – добру, которое его дозволяет.
Что же знает древний мир о нас? Знает хитрого раба у Теренция и Плавта, знает народных трибунов Гракхов и имя лишь одного раба – Спартака.
Они творили историю, и, будь то преступник Сципион, адвокат Цицерон или Демосфен, их-то мы прекрасно помним. Мы восхищаемся избиением этрусков, разрушением Карфагена, изменами, коварством и грабежом. Римское право! И теперь тоже существует право!
Что будет мир знать о нас, если немцы победят? Возникнут гигантские сооружения, автострады, фабрики, грандиозные монументы. Под каждым кирпичом будет лежать наша ладонь, на наших плечах будут перенесены железнодорожные шпалы и бетонные плиты. Уничтожат наши семьи, уничтожат больных, стариков. Уничтожат детей.
И о нас никто не будет знать. О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники. Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию.
Три года тому назад здесь были деревни и хутора. Были поля, проселочные дороги, на межах росли груши. Были люди – не лучше и не хуже других людей.
Потом пришли мы. Мы прогнали людей, разрушили дома, разровняли землю, превратили ее в сплошную грязь. Поставили бараки, ограды, крематории. Мы принесли с собой чесотку, флегмоны и вшей.
Мы работаем на фабриках и в шахтах. Мы совершаем огромную работу, из которой кто-то извлекает неслыханную прибыль.
Поразительна история здешней фирмы «Ленц». Фирма эта построила нам лагерь, бараки, цеха, склады, карцеры, печи. Лагерь ссужал ей заключенных, а СС поставляло материалы. При подведении итогов выявились настолько фантастические, миллионные прибыли, что за голову схватился не только Аушвиц, но сам Берлин. Господа, сказали там, это невозможно, вы слишком много заработали, столько-то и столько-то миллионов! Однако, возразила фирма, извольте, вот счета. Пусть так, сказал Берлин, но мы не можем этого допустить. Тогда пополам, предложила патриотическая фирма. Тридцать процентов, еще поторговался Берлин, на том и сошлись. С тех пор все прибыли фирмы «Ленц» соответственно срезаются. Впрочем «Ленц» не огорчается: как все немецкие фирмы, она умножает основной капитал. На Освенциме она нажила громадные прибыли и спокойно ждет конца войны. Точно так же «Вагнер» и водопроводная фирма «Континенталь», фирма «Рихтер» по артезианским скважинам, «Сименс» – освещение и электрическое оборудование, поставщики кирпича, цемента, железа и леса, производители барачных секций и полосатой одежды. Равно как крупнейшая автомобильная фирма «Унион» и заведения ДАВа, занимающиеся сортировкой металлолома. Равно как владельцы шахт в Мысловицах, Гливицах, Янине, Явожне. Тот из нас, кто выживет, должен когда-нибудь потребовать эквивалент этого труда. Не деньги, не товары, но тяжкий, беспощадный труд.
Когда больные и отработавшие свое засыпают, я на расстоянии разговариваю с тобой. Вижу в темноте твое лицо, и, хотя в моих словах чуждые тебе горечь и ненависть, я знаю, что ты внимательно слушаешь.
У нас с тобой общая судьба. Только твои руки не созданы для кирки и тело не привыкло к чесотке. Нас соединяет наша любовь и безграничная любовь тех, кто остался на воле. Тех, что живут для нас и составляют наш мир. Лица родных, друзей, образы оставленных вещей. И есть самое дорогое, чем мы можем делиться: впечатления! И хотя бы нам оставили лишь тело на лазаретной койке, при нас еще останутся наша мысль и наши чувства.
И я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах.
VIII
Ты не представляешь, как я счастлив.
Прежде всего – долговязый электрик. Каждое утро я хожу к нему с Куртом (это его знакомый), и мы отдаем ему письма к тебе. Электрик этот – фантастически старый номер, тысяча с чем-то – нагружается колбасами, мешочками с сахаром, женским бельем и засовывает куда-то в сапог пачку писем. Сам-то электрик лысый, и у него нет сочувствия к нашей любви. Электрик кривится при виде каждого письма, которое я приношу. Когда я хочу сунуть электрику сигареты, электрик говорит:
– Приятель, у нас в Аушвице за письма не берут! А ответ принесу, если удастся.
Итак, вечером опять к нему. Совершается обратная процедура: электрик лезет в сапог, достает письмо от тебя, подает мне и досадливо кривится. Потому что у электрика нет сочувствия к нашей любви. И наверняка ему не улыбается карцер, эта клетка метр на полтора. Потому как электрик очень длинный, и в карцере ему было бы неудобно.
Итак, прежде всего – долговязый электрик. А во-вторых, брак испанца. Он защищал Мадрид, бежал во Францию, и его привезли в Освенцим. Испанец как испанец: была у него какая-то француженка, а от нее ребенок. С годами ребенок порядочно подрос, а испанец все еще в лагере, и француженка давай вопить, хочет обвенчаться! Пишет прошение самому Г.! Г. возмущен: такое безобразие в новой Европе! Немедленно обвенчать!
Привезли француженку с ребенком в лагерь, с испанца в спешном порядке сняли полосатую робу, подогнали на нем элегантный, самим капо из прачечной выутюженный костюм, тщательно подобрали из богатых лагерных запасов галстук к носкам и обвенчали.
Потом новобрачные пошли фотографироваться: она с сыночком и с букетом гиацинтов в руке, он держит ее под руку. За ними оркестр in corpore[33]33
В полном составе (лат.)
[Закрыть], а за оркестром взбесившийся эсэсовец с кухни.
– Я про вас доложу, что вы играете в рабочее время, вместо того чтобы картошку чистить! У меня суп варится без картошки! Послал я все ваши свадьбы к…
– Тише… – стали его успокаивать другие важные особы. – Таков приказ Берлина. А суп может быть и без картошки.
Тем временем молодоженов сфотографировали и предоставили им для брачной ночи апартаменты пуффа, который изгнали в десятый блок. Назавтра француженку отправили обратно во Францию, а испанца в полосатой робе – на работы.
Зато весь лагерь ходит задравши нос.
– У нас в Аушвице даже венчают.
Итак, прежде всего – долговязый электрик. Во-вторых – бракосочетание испанца. А в-третьих – мы кончаем курсы. Недавно их закончили санитарки из ФКЛ. На прощанье мы устроили им камерный концерт. Они все уселись у окон десятого блока, а в окнах нашего для них играли несколько музыкантов из оркестра: бубен, саксофон и скрипки. Чудесней всего саксофон: он плачет и рыдает, смеется и ликует!
Жаль, что Словацкий не знал его, не то, наверно, стал бы саксофонистом из-за богатой выразительности этого инструмента.
Сперва женщины, а теперь мы. Собрались на своем чердаке, пришел лагерный врач Роде (тот самый, «порядочный», который не делает разницы между евреями и арийцами), пришел, поглядел на нас и наши перевязки, сказал, что он очень доволен и что теперь у нас в Аушвице наверняка станет лучше. И быстро ушел, потому что на чердаке холодно.
Сегодня у нас в Аушвице целый день прощаются с нами. Франц, что из Вены, прочитал мне последний доклад о смысле войны. Слегка запинаясь, он говорил о людях, которые трудятся, и о людях, которые уничтожают. О победе первых и о поражении вторых. О том, что за нас воюет товарищ, наш сверстник, из Лондона и Уральска, из Чикаго и Калькутты, с континента и с острова. О грядущем братстве людей созидающих. «Вот так, – думал я, – среди уничтожения и смерти зарождается мессианизм, обычный путь мысли человеческой». Потом Франц достал посылку, которую только получил из Вены, и мы пили вечерний чай. Франц пел австрийские песни, а я читал стихи, которых он не понимал.
У нас в Аушвице мне дали с собой немного лекарств и несколько книг. Я впихнул их в пакет с едой. Только вообрази – мысли Ангелуса Силезиуса[34]34
Ангелус Силезиус (наст. имя – Иоганн Шефлер; 1624–1677) – немецкий поэт-мистик, автор философских изречений в стихах «Херувимский странник»
[Закрыть]. Вот я и счастлив, тут все сошлось: долговязый электрик, бракосочетание испанца, окончание курсов. А в-четвертых – вчера я получил письма из дому. Долго они меня искали, а все ж нашли.
Почти два месяца я не имел весточки из дому и ужасно тревожился – здесь, знаешь, ходят фантастические слухи о делах в Варшаве, и я уже начал было писать отчаянные письма, и как раз вчера – только подумай! – два письма: одно от Сташека и одно от брата.
Сташек пишет очень простыми фразами, как человек, которому надо передать что-то идущее от сердца на чужом языке – «Мы тебя любим и помним о тебе, – пишет он, – и помним также о Тусе, твоей невесте. Живем, трудимся и творим». Они живут, трудятся и творят, только Анджей погиб да Вацек «ушел из жизни».
И как ужасно, что эти двое, самые одаренные из нашего поколения, с самой огромной страстью к творчеству, что именно они должны были погибнуть!
Ты знаешь, как резко я восставал против них: против их имперской идеи построения ненасытного государства, их нечестности в социальном мышлении, их теории народного искусства, их философии, мутной, как сам их наставник Бжозовский[35]35
Бжозовский Станислав (1878–1911) – философ, литературный критик и романист; в своих философских воззрениях прошел эволюцию от своеобразно понятого социализма к синдикализму.
[Закрыть], их поэтической практики, пытающейся прошибить лбом твердыню «Авангарда»[36]36
В польской литературе группа поэтов 30-х гг. – Я. Пшибось, Т. Пейпер, А. Важик.
[Закрыть], их стиля жизни, пронизанного сознательной или бессознательной фальшью.
И теперь, когда нас разделяет порог меж двух миров, порог, который вскоре и мы с тобой переступим, я завожу снова спор о смысле существования мира, о стиле жизни и облике поэзии. И теперь я тоже упрекаю их в том, что они поддались соблазнительным теориям могучего, захватнического государства, упрекаю в любовании злом, изъян которого в том, что это не наше зло. И теперь я упрекаю их в безыдейности их поэзии, в отсутствии в ней человека, отсутствии в ней поэта.
Но я вижу их лица через порог, из другого мира, думаю о них, о людях моего поколения, и чувствую, что пустота вокруг нас становится все заметней. Они ушли, еще такие невероятно живые, ушли на самой середине сооружаемого ими творения. Ушли, хотя неразрывно принадлежали этому миру. Я прощаюсь с ними, друзьями с другой баррикады. Пусть в мире ином они найдут истину и любовь, которых здесь не встретили!
…Эва, та девушка, которая так красиво читала стихи о гармонии и звездах и о том, что «еще не так плохо», тоже расстреляна. Пустота, пустота все более ощутимая. Уходят и дальние и близкие, и уже не о смысле борьбы, но о жизни любимых людей пусть молятся те, кто умеет молиться.
Я-то думал, что на нас это кончится. Что когда мы вернемся, то вернемся в мир, который не изведал этой ужасной, гнетущей нас атмосферы.
Что только мы опустились на дно. Но вот люди уходят и оттуда – в самом разгаре жизни, борьбы, любви.
Мы бесчувственны, словно деревья, словно камни. И молчим, словно деревья, когда их рубят, словно камни, когда их дробят.
Второе письмо – от брата. Ты же знаешь, какие сердечные письма пишет мне Юлек. И теперь пишет, что они думают о нас, что ждут, что хранят все книги и стихи…
Когда я вернусь, то увижу на моих книжных полках новый мой томик. «Это стихи о твоей любви», – пишет брат. Думаю, есть что-то символическое в том, что наша любовь и поэзия переплетаются и что стихи, которые были написаны только для тебя и с которыми тебя арестовали, это одержанная заранее верная победа. Их издали – быть может, как воспоминание о нас? Я благодарен человеческой дружбе – за то, что она сохраняет после нас поэзию и любовь и признает наше право на них.
И еще брат пишет мне о твоей матери – она думает о нас и верит, что мы вернемся и будем всегда вместе, потому что таково право человека.
…Помнишь, что ты писала в первом, полученном от тебя письме через несколько дней после прибытия в лагерь? Ты писала, что больна и что ты в отчаянии от того, что «засадила» меня в лагерь. Что если бы не ты, я бы… и т. д. А знаешь ли ты, как было на самом деле?
Было то, что я ждал твоего звонка от Марии, как мы договорились. После полудня у меня собрались на тайные курсы – как обычно по средам, – я, кажется, говорил что-то о своей работе по языку, и тут, кажется, погасла карбидная лампа.
Потом я опять ждал твоего звонка. Я знал, что ты должна позвонить, раз обещала. Ты не звонила. Не помню, ходил ли я обедать. Если ходил, то, возвратясь, опять сидел у телефона, боялся, что из соседней комнаты не услышу. Читал какие-то вырезки из газет и новеллу Моруа о человеке, который взвешивал души для того, чтобы, научившись упрятывать человеческие души в неразрушающийся сосуд, спрятать свою душу и душу любимой женщины. Но спрятал он только души двух случайно встреченных цирковых клоунов, а его душа и душа женщины развеялись по вселенной. К рассвету я заснул.
Утром пошел домой, как обычно, с портфелем, с книгами. Позавтракал, сказал, что приду обедать и что очень спешу, покрутил ухо собаке и пошел к твоей матушке. Она сильно тревожилась о тебе. Я поехал на трамвае к Марии. Долго смотрел на деревья Лазенок, они мне очень нравятся. Чтобы рассеяться, пошел пешком по Пулавской. На лестнице валялось необычно много окурков и, если память не подводит, были следы крови. Но, возможно, это самовнушение. Я подошел к двери и позвонил условным звонком. Открыли мужчины с револьверами в руках.
С тех пор миновал год. Но пишу я об этом, чтобы ты знала, – я никогда не жалел, что мы здесь вместе. И никогда не думаю о том, что могло бы быть по-другому. Хотя о будущем думаю часто. О том, как будем мы жить, если… О стихах, которые напишу, о книгах, которые мы будем читать, о вещах, которые у нас будут. Знаю, это глупо, но я о них думаю. У меня даже есть идея насчет нашего экслибриса. Это будет рука, лежащая на закрытой толстой книге с большими средневековыми металлическими застежками.
IX
Мы уже возвратились. Я, как прежде, пошел в свой барак, помазал чесоточных мятным настоем, а сегодня утром мы все вместе вымыли пол. Потом я стоял с умным видом возле доктора, когда он делал пункцию. Потом взял две последние ампулы пронтозила, посылаю их тебе. Наконец-то парикмахер нашего блока (на гражданке владелец ресторана возле почты в Кракове) Генек Либерфройнд признал, что теперь я бесспорно буду лучшим санитаром среди литераторов.
А еще я целый день был занят письмом к тебе. Письмо к тебе – это вот эти листки, но, чтобы они дошли куда надо, у них должны быть ноги. Вот я и искал такие ноги. Наконец нашел пару – в высоких красных сапогах со шнуровкой. У ног, кроме того, черные очки, они весьма плечисты и каждый день ходят в ФКЛ за трупами детей мужского пола. Трупы эти должны пройти через нашу канцелярию, наш морг, и наш врач должен осмотреть их собственными глазами. Мир порядком держится, или менее поэтично – Ordnung muss sein[37]37
Должен быть порядок (нем.)
[Закрыть].
Итак, ноги ходят в ФКЛ и со мною весьма приветливы. У них самих, говорят, жена в бабском лагере, и они знают, как это тяжело. Потому берут письма просто так, из любезности. И мне тоже передают, когда случится оказия. Ответ я посылаю сразу же и уже подумываю, как бы прийти к тебе. Прямо дорожное настроение появилось. Друзья советуют прихватить плед и подложить кое-куда. Зная мое счастье и лагерную практичность, они справедливо рассудили, что при первой же экскурсии я попадусь. Разве что кто-нибудь будет меня опекать. Я же посоветовал им помазаться от чесотки перуанским бальзамом.
И еще смотрю на пейзаж в окне. Ничего не изменилось, только удивительно много грязи прибавилось. Пахнет весной. Люди будут тонуть в грязи. Из леса тянет то запахом сосен, то дымом. То едут машины с тряпьем, то доходяги из Буны. То везут обед на вещевой склад, то эсэсовцев – сменять охрану.
Ничего не изменилось. Вчера было воскресенье, мы ходили в лагерь проверять на вшей. Как ужасны лагерные бараки зимой! Грязные нары, подметенные земляные полы и застоявшийся запах человека. Бараки забиты людьми, но вшей – ни одной. Недаром уничтожение вшей идет ночи напролет.
Закончив проверку, мы уже уходили из бараков, когда в лагерь возвращалась из крематория зондеркоманда. Они шли, прокопченные дымом, лоснясь от жира, сгибаясь под тяжелыми узлами. Им разрешается приносить все, кроме золота, однако именно золотом они больше всего промышляют.
От бараков кучками бежали люди, врывались в марширующие шеренги и хватали заранее намеченные узелки. Воздух сотрясался от криков, проклятий, ударов. Наконец зондеркоманда скрылась в воротах своего, отгороженного от остальных бараков, двора. Но сразу же оттуда начали украдкой выходить евреи – поторговать, что-нибудь раздобыть и в гости.
Я окликнул одного из них, приятеля по нашей прежней команде. Я-то заболел и отправился в лазарет. Ему больше «повезло», его назначили в зондеркоманду. Все-таки лучше, чем лопатой орудовать за миску супа. Он с радостью протянул мне руку.
– А, это ты? Надо чего-нибудь? Если у тебя есть яблоки…
– Нет, яблок у меня нет, – дружелюбно ответил я. – Ты еще жив, Абрамек? Что слышно?
– Ничего интересного. Вот чешек в «газ» отправили.
– Это я и без тебя знаю. А личные дела?
– Личные? Какие у меня могут быть личные дела? Печь, бараки и опять печь. Разве у меня есть тут кто-то близкий? Ага, если хочешь знать о личном: мы придумали новый способ сжигать в печи, знаешь какой?
Я изобразил самое вежливое любопытство.
– А вот такой. Берем четырех ребятишек с волосами, приставляем головами вместе и поджигаем волосы. Потом уже само горит и – gemacht[38]38
Готово (нем.)
[Закрыть].
– Поздравляю, – сказал я сухо, без восторга.
Он как-то странно засмеялся и посмотрел мне в глаза.
– Слушай, ты, санитар, должны же мы у нас в Аушвице развлекаться как умеем. Иначе разве можно выдержать?
И, сунув руки в карманы, он, не прощаясь, удалился.
Но это ложь и гротеск, как весь лагерь, как весь мир.








