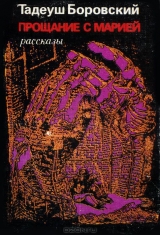
Текст книги "Прощание с Марией"
Автор книги: Тадеуш Боровский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Встреча с ребенком
Перевод К. Старосельской
Отыскав присмотренную днем лазейку в вале за бараками, двое осторожно протиснулись под колючей проволокой, заслоняя рукавом глаза и спиной скребя по гравию. Скатившись с вала, перевернулись на живот и вползли, опираясь на локти, в пронизанную красным отсветом заходящего солнца высокую траву. Под угловой вышкой, в будке, обклеенной желтыми плакатами «Off Limits»[133]133
Здесь: проход воспрещен (англ.).
[Закрыть], сидел американский солдат – каска и мелкокалиберка лежали рядом с ним на скамейке. С досок вышки срывались крупные капли и с глухим стуком шлепались в золу погасшего ночного костра.
Сочтя, что от проволоки их отделяет безопасное расстояние, двое присели на груду камней, тщательно обобрали со своей полосатой одежды липкие комочки глины и соскоблили ножами коричневые нашлепки на локтях и коленях. Потом поднялись и размашисто зашагали по сырому лугу к шоссе, обходя опустевшие блиндажи, разбитые пулеметные гнезда и широкой дугой огибая лагерь, с территории которого поднимались голубые дымки вечерних костров, доносился треск ломаемых досок и говор тысяч людей.
– Ветер в нашу сторону, трупами воняет, – сказал высокий, с узелком в руке, когда они обошли площадку перед больницей, где между штабелями дров повсюду валялись трупы. Высокий был альбинос с опухшим, изрытым оспинами лицом. Редкие волосы стояли на макушке торчком, как собачья шерсть. Через всю голову тянулась полоска выбритой кожи. Из коротковатых рукавов лагерной куртки высовывались жилистые веснушчатые волосатые руки. Он потянул носом: – Не успели сжечь.
– Известное дело, – отозвался низенький. Голос у него был хриплый, он поминутно сплевывал сквозь выбитые зубы; черная щетина, которой он сплошь оброс, была выстрижена посреди головы. По серебристому плюшу травы, мокрой от недавнего дождя, тянулись темные извилистые тропки. – Глянь, раньше нашего прошли, – деловито добавил он. – Почистят вагоны.
– Не боись, и тебе хватит, – сказал высокий. Они спускались вниз по шоссе, под длинными тенями каштанов, к застроенному виллами поселку по другой стороне железнодорожных путей, на которых стояли вереницы вагонов без паровозов.
Долина была окружена черным еловым лесом, за который садилось медно-красное солнце. По краю леса, на дне долины, среди расцветших садов, в темнеющей зелени – буйной, пышной, усыпанной сверкающими шариками и иголочками серебряного дождя – как на ладони раскинулись, поблескивая розовой штукатуркой, виллы с маленькими круглыми колоннами. Небо над долиной висело прозрачное, легкое, будто из шелка, исподволь сковываемое холодом. Только по лесистому горному склону проплывали, запутываясь среди елей, клочья реденького седого тумана.
– Вон они, твои вагоны, жри, – сказал низенький. Они миновали поле с молодыми картофельными всходами и вышли на железнодорожное полотно. Незакрытые вагоны полны были посинелых тел, аккуратно уложенных ногами к дверям. Сверху лежали дети, распухшие и белые, как накрахмаленные подушки.
– Не успели сжечь, – сказал высокий. Они перескочили через сигнальные провода и на карачках пролезли под вагонами.
– Известное дело, – сказал низенький. Они переглянулись и усмехнулись, не размыкая губ. Снова перескочили через сигнальные провода, соскользнули с насыпи и, петляя между садами, спустились на самое дно долины, к офицерским виллам.
Поселок, выстроенный руками заключенных для высших офицеров лагеря и их семейств, был пуст, и, если б не ухоженные садики, белоснежные занавесочки на окнах и тянувшийся из труб к небу дым, можно было подумать, что там нет ни живой души.
Пройдя по главной аллее, двое свернули на боковую дорожку у самой опушки леса. Через расщелину в горах еще светило солнце, на краю тени перед одинокой виллой полулежала в шезлонге женщина в цветастом халате. Волосы ее были собраны на затылке в тяжелый классический узел. Рядом кудрявая девочка в голубом платьице играла с куклой в лакированной коляске.
Двое остановились на дорожке и, сощурившись, переглянулись. Улыбнулись друг другу, не разжимая губ. Перевели взгляд на головку ребенка, обхватили ее взглядом мягко и плотно, будто руками. Потом отыскали глазами острый угол виллы, газоном отделенный от дорожки, и снова посмотрели на ребенка. Высокий шагнул вперед, тень его головы упала на ноги женщины, подползла к груди.
Женщина подняла выпуклые глаза и приоткрыла рот. Верхняя губа у нее вздернулась, как у кролика. Перехватив ее взгляд, двое парней улыбнулись шире и – враскачку, как требовала лагерная мода, – не спеша направились к ребенку.
Конец войны
Перевод К. Старосельской
Возле затененной платанами автострады высилась голая бетонная громада казарменных построек. Адский зной раскалял и дотла иссушивал воздух. Из чердачных проемов клубами валил дым, воняло бараньим отваром. На газонах перед окнами хрустели осколки стекла; валялись изорванные книги; звенели под ногами каски; с шумом, как грибы-дождевики, лопались пакеты с белым едким порошком, тучей вздымавшимся в воздух; истлевшие связки черных солдатских галстуков вылетали из окон вместе со столами, койками и шкафами и с глухим звуком, точно на живот, плюхались на землю. Американские грузовики с ревом въезжали в ворота, охраняемые невозмутимыми, одетыми как с иголочки, солдатами, и сбрасывали на бетонные плиты двора десятки мужчин в потрепанной одежде, женщин в клетчатых платках, детей, узлы и тюки, свозимые из окрестных лагерей, поместий, с заводов и фабрик. Толпа лениво разбредалась по плацу, разводила большие костры, чтобы приготовить обед, и с тупой ненавистью хозяйничала внутри казарм, методично выдавливая оконные стекла, разбивая зеркала, люстры и посуду, круша все что ни попадя в лазарете, кинотеатре и на складах, выкидывая во двор книги из библиотеки и кипы партийных удостоверений, обнаруженных в архиве, громя – комнату за комнатой, коридор за коридором, клозет за клозетом, этаж за этажом – обиталище своих тюремщиков; грузовики же, рыча и воя, выскакивали на автостраду и, миновав временный лагерь для эсэсовцев, которые под бдительной, но корректной охраной целыми днями занимались в городе уборкой развалин, на полном газу неслись на сборные пункты за новой партией, белозубые негры приветливо кивали из кабин проходившим мимо немецким девушкам. Девушки сдержанно улыбались и долго смотрели вслед колонне автомашин.
По соседству с казармами, отделенный от эсэсовского лагеря автострадой, расположился пригородный рабочий поселок. Среди пышной зелени сверкают маленькие домики с белеными стенами, оплетенными молодым плющом, с розовыми, накрытыми кобальтовым небом крышами, сплошь в сочных пятнах теней от высоченных каштанов. Под окошками, задернутыми короткими занавесочками, буйно цветут подсолнухи; хлипкая фасоль обвивает подпорки; анемичные розочки свешиваются над калитками, их персиковые лепестки дрожат в тишине. В зарослях малины, на верандах и в беседках мелькают светлые платья женщин; цветы при случайном прикосновении покачиваются на высоких стеблях. Визгливо лает такса, в садиках копаются мужчины в подтяжках, по дороге бредут задумчивые дети, тренькая, палками по штакетнику.
В глубине поселка, на крохотной, вымощенной плитами и окруженной цветущей живой изгородью площади стоит маленькая церквушка. Лестница из серого камня кажется почти коричневой в тени, пересекающей ее наискось, виноград свисает с крыши и раскачивается зелеными сосульками по обеим сторонам простого креста из черного мрамора; над железной дверью – высеченный в камне готическими буквами стих. В дрожащий воздух просачивается из церковного сада нежный, успокаивающий запах цветов. С воем и треском пролетевший над церковью двухмоторный бомбардировщик блеснул на вираже серебряным брюхом и исчез за деревьями, оставив в ушах звенящую тишину.
В каменном чреве церквушки, как в беседке, уютно и прохладно. По стрельчатому, похожему на сложенные ладони своду вьется ветвистый золотой и пурпурный узор. Солнечный свет, расщепляясь в круглых витражах, радужной пылью оседает на стенах, будто на стеклянном шаре. Над покрытым белой скатертью алтарем из-за высоких цветов выглядывает с картины ангел с медной трубой, надувая пухлые щечки и поддерживая рукою свое голубое, развеваемое ветром одеянье. Посредине, опираясь на круглую полуколонну, стоит на деревянном столбике маленький круглый амвон, легкий как бонбоньерка. Скамьи тоже деревянные, отполированные человеческою рукой. На крючках перед сиденьями висят подушечки для преклонения колен.
Одна стена храма пуста, бесцветна и сурова. Скамьи от нее отодвинуты, пол застелен ковром и уставлен цветами, срезанными и в горшках, – розами, настурциями, гладиолусами, гвоздиками, лилиями, пионами, миртом и тюльпанами; цветы полыхают яркими красками и источают пленительный аромат. Восковые свечи горят спокойно и ровно, не колеблемые ничьим дыханием. У стены – деревянные кресты с табличками и фотографиями на эмали. С фотографий глядят простые честные солдатские глаза, губы на лицах мужчин с достоинством сжаты, на груди чернеют железные кресты, а на воротниках поблескивают серебристые нашивки СС. Надписи гласят, что все эти сыновья, и братья, и мужья, и отцы полегли в далеких степях России, в горах Югославии, в пустынях Африки и еще в разных других местах и что их матери, сестры, жены и дочери молятся за них и помнят, и дай им, Господи, счастливую вечную жизнь.
Independence Day[134]134
День независимости (англ.) – национальный американский праздник.
[Закрыть]
Публицисту Казимежу Козьневскому
Перевод К. Старосельской
Грязный человек, черный от дыма и копоти, которая вместе со струйками пота стекала по его лоснящемуся, налитому кровью лицу, деловито сновал по развороченному снарядом чердаку бывшей немецкой казармы и, непристойно бранясь, пытался разжечь вялый огонь, что есть силы в него дуя. Железная печурка, украденная у бауэра, была без трубы, и стоило чумазому человеку дунуть, как из нее вырывался молочно-белый клуб дыма, наподобие густой жидкости разливавшийся по чердаку. На ржавой конфорке, уложенные рядком, пеклись круглые лепешки из картофельных хлопьев.
На пороге разбитой двери возник высокий элегантный господин с бело-красной повязкой на рукаве. Окунувшись в дым, он поперхнулся и закашлялся.
– Катитесь-ка отсюда, приятель! – шутливо воскликнул господин. – Виданое ли дело – такой огонь! Хотите всю казарму спалить? Наверняка ведь слыхали, что тайком готовить запрещено. Ну? Настоящие поляки так не поступают! Go out![135]135
Убирайтесь! (англ.)
[Закрыть] – с легким раздражением крикнул он.
Чумазый поднялся от огня, утер рукавом лицо, глянул исподлобья на элегантного и ответил, спокойно соскребая пригарок:
– Корми досыта, сволочь, тогда не буду готовить. Думаешь, мне нравится? На, попробуй! – и сунул ему в нос подванивающую гнилью лепешку. – Убедился? Кабы ты не крал, я б не готовил, не бойся. Сам наше масло ложками жрешь, а мне лепешки жалко?
– Послушайте, приятель, не надо меня оскорблять, – сказал пришедший. – Здесь же дым глаза ест! Пошли б, подышали свежим воздухом.
– Кто жрет наши пайки да таскает мясо еврейкам, тот пусть и дышит. А мне и здесь хорошо. Кому ест глаза – скатертью дорога.
Человек с нарукавной повязкой бесцеремонно схватил чумазого за отвороты пиджака, оторвал от печки и проговорил сквозь стиснутые зубы:
– Поглядим, не будет ли тебе лучше в другом месте!
В этот момент в дверях появился еще один человек с повязкой, приземистый, с низким лбом и квадратной челюстью, и решительно шагнул в дым.
– Ну и сукин сын, – нараспев произнес он, ни к кому не обращаясь.
Минуту спустя все трое вышли из дыма и скрылись за поворотом коридора, оставив непогашенный огонь и недопеченные лепешки. Дружно спустились по лестнице, но на первом этаже их пути разошлись. Высокий с повязкой зашагал по коридору налево, сказав перед тем товарищу:
– Будьте любезны, отведите его на вахту и сообщите master[136]136
Старшему (англ.)
[Закрыть] сержанту, что он оказывал сопротивление полиции, а я сбегаю получу колбасу и хлеб. Говорят, есть почтовые бланки на заграницу, надо на всякий случай прихватить пару.
Приземистый, сильно наморщив лоб, который совсем исчез под коротко остриженными волосами, ответил:
– Будьте спокойны. Я свое дело знаю. А ты, курицын сын, не пытайся удрать – руки-ноги переломаю.
И рванул чумазого за вывернутую руку. Чумазый грязно выругался. Они пересекли бетонированный плац и подошли к воротам. Там в пристройке помещался карцер. На площадке перед карцером вытянувшийся в струнку солдат подымал на мачту американский флаг. Еще несколько солдат, отбросив в сторону мяч и кожаные перчатки для игры в бейсбол, торжественно отдавали честь. Не успели двое скрыться за дверью, как солдаты возобновили прерванную игру.
По случаю Independence Day старший сержант выпустил из карцера всех преступников; чумазый оказался первым после амнистии. Его отвели в одиночную камеру, где и оставили на неделю. Сидя на корточках на каменном полу, он поглядывал в узкую щель приоткрытого окна, выходящего во двор. Близился вечер. Деревья синели, густел сдавливаемый темнотою воздух. Под деревьями прогуливались парочки. Это были повара, покупавшие девушек за продукты, которые они подворовывали в кухне. Грязный человек встал, вытащил из кармана огрызок карандаша, обтер его о штанину и, подпирая языком щеку, старательно вывел печатными буквами на шероховатой стене:
«Два раза в карцере:
21.9.1944—25.9.1944 – за саботаж работы в немецком КЛ Дахау, заключавшийся в выпечке картофельных лепешек.
4.7.1945 – за нарушение правил распорядка в американском сборном лагере для б. гефтлингов из КЛ Дахау, заключающееся в выпечке картофельных лепешек».
После чего размашисто расписался и, упершись локтями в подоконник, стал с завистью смотреть на двор, по которому прогуливались девушки с поварами.
Путешествие в пульмане
Перевод К. Старосельской
Учитель высунул голову из окна пульмана. Поезд скрежетнул на стыках рельсов и свернул на другой путь, вклинился между товарных вагонов с дровами, машинами и углем. Перед семафором он притормозил и стал подавать сигналы.
– Подъезжаем, – сказал учитель.
– Да, – ответил я.
– Надо к детям сходить, – сказал учитель. Спустил ноги с полки, протер глаза, потянулся. – От границы вы все лежите. Не надоело лежать?
– Не надоело, – ответил я.
– Мы, наверно, оставим детей на пункте. Пусть дожидаются родителей, – сказал учитель. – Поезд дальше пойдет пустой. Кончится это мученье.
– Репатриация хорошо прошла, – сказал я, слезая с постели.
– Очень, – согласился учитель.
И вышел из купе, захлопнув дверь. Поезд постепенно замедлял ход. Он снова поменял путь, свистнул и остановился перед семафором. На соседнем пути стоял товарняк, набитый людьми, скотиной и домашним скарбом и украшенный завядшей зеленью. Коровы высовывали худые морды из открытых дверей, в глубине вагона стояли костлявые лошади. В вагонах чадили железные печки. Женщины в широких юбках колдовали над кастрюлями. Несколько мужчин мылись у дверей – набирали в рот воду и лили на руки. Куры вяло бродили под вагоном и рылись в навозе. Босоногая девушка тащила охапку сена для коров. Длинные косы хлестали ее по спине. Ветер нес от товарняка тяжелый дух скотины и человека.
Учитель вошел в купе. Выглянул в окно и положил руку мне на плечо.
– Ну что? – спросил я.
– Поселяемся, – ответил учитель.
– Угу, – сказал я.
Учитель свистнул сквозь зубы и залез на постель. Удобно устроился, плотно закутался в одеяло.
– Я к ним туда заходил, – сказал он и вздохнул. – Эх, боже, боже.
– Угу, – ответил я.
– Уже целых два месяца едут. Здесь стоят четвертый день. И неизвестно… – сказал учитель. И повернулся лицом к стене.
– Угу, – сказал я.
Поезд загудел и тронулся. Лязгнули на стыках колеса. Пройдя мимо цистерн, платформ и порожних вагонов, поезд по главному пути подкатил к перрону.
Перрон, нависший над городком, был забит народом. На ступеньках сидели проезжие со своими узлами. Усталые, в измятой одежде. У барьерчика стоял оркестр железнодорожников в черных мундирах. Дирижер махнул палочкой, и оркестр заиграл гимн.
– Эх, боже, – сказал учитель, не поворачиваясь от стены.
Девочки-школьницы, подойдя к поезду, подавали в окна букеты гвоздик. Женщины во всем белом, в чепцах, разносили вдоль вагонов горячее какао в фаянсовых кружках и свежие булочки с маслом. Чахоточные дети, привезенные пульманом, теснились в окнах, смеялись, глядя на оркестр, и хлопали в ладоши.
– Н-да, – сказал я и отошел от окна. Растянулся на постели и, подложив руки под голову, тупо уставился в потолок.
Комната
Перевод К. Старосельской
Я живу в комнате, где на месте окон – два выгоревших проема. В одном – крепкие, хотя и слегка заржавелые решетки. На подоконнике другого стоит полная бутыль вишневой наливки и валяется скомканное рукоделие.
Из мебели, расставленной на полусгнившем полу сразу после освобождения города, наибольшую ценность представляет шкаф, так как на верхней полке в нем припрятаны: коробка американских сардин, две жестянки с бисквитами и офицерский резиновый плащ, купленный в одном DP Camp[137]137
Лагерь для перемещенных лиц (англ.).
[Закрыть] за восемь пачек сигарет «Кэмел». На средней полке стоит пишущая машинка марки «Континенталь», которая мне обошлась в тридцать долларов. Больше всего на ней, вероятно, заработал сшивающийся при гостинице спекулянт с развязными манерами земляка-варшавянина. На нижней полке лежат четыре пары носков и полкило помидоров в пакете.
По потолку лазают пауки.
Солидный диван, о котором кто-то предусмотрительно позаботился, я ненавижу: он – как лагерные сенники – нафарширован блохами и клопами. Когда вечер не предвещает к ночи дождя, я беру подушку и два мохнатых канадских пледа, собственность одного старосты из лагеря «Аллах», и отправляюсь спать в городской сад, где полно парочек и пьяных милиционеров, палящих из автоматов в луну.
Днем же я сижу за круглым столиком красного дерева, добытым в квартире убитого немца, и, задыхаясь от жары, пишу, пока не стемнеет. При этом я беспрерывно чешусь, потому что тело мое горит, точно припекаемое углями.
У раскаленной железной печурки хлопочет девушка в черном платье и поет. Ее маленькое розовое личико теряется в завитках вычурной прически.
Девушка спит на кровати в другом конце комнаты. Каждый день она готовит мне обед и, поставив на стол хлеб, помидоры, суп и картошку, украдкой выносит полную тарелку супа за дверь и бежит с нею по лестнице к некоему молодому безработному, который не может найти себе занятия по вкусу.
Потому что она живет с ним, а не со мной.
Лето в городишке
Войтеку Жукровскому
Перевод К. Старосельской
Высоко над гонтовыми крышами маленького городка стоял на холме среди лип огромный собор из красного кирпича. Каменная лестница круто подымалась от подножья холма, где на заросших буйными травами склонах паслись прожорливые козы, к распахнутым настежь кованым железным вратам, которые вели в темную бездну собора, пропитанную сырым запахом средневековых стен. Собор венчали две остроконечные башни, крытые серой черепицей. На верхушке левой башни горел на солнце стройный золотой крест, на правой, на длинном шесте, строители – в память об отречении Петра – поместили черного жестяного петуха, поворачивающегося по ветру.
Узкая улочка плавно спускалась по склону и, обогнув широкой дугою собор, упиралась в городскую площадь, где бродячий цирк раскинул свой четырехмачтовый шатер. Из установленного на макушке шатра громкоговорителя неслась незатейливая мелодия любовной песенки, в такт которой лихо крутилась расписная карусель и раскачивались качели. Пестрая говорливая толпа сновала между палатками, где в клетках были выставлены напоказ экзотические животные: верблюд, лама и шакал, а смеющиеся девушки нетерпеливой гурьбой обступили шарманщика с попугаем, который клювом вытаскивал из ящичка судьбу – счастливую или несчастную. Теплый ветер обдувал лица девушек и теребил оборки нарядных зонтов, защищающих от солнца цветочные ларьки и столики для игры в очко. Площадь с трех сторон окружали развалины сожженных домов.
С четвертой стороны, прилепившись к суровым стенам собора, стоял домик приходского священника: двухэтажный, цвета недозрелой малины, под слегка обомшелой фиолетовой крышей. На уровне второго этажа дом опоясывала галерейка поразительно изящной – хотелось бы сказать, мавританской – архитектуры. Окна были зелеными жалюзи защищены от солнца, которое освещало крышу и стены дома, насквозь пронизывало листву плакучей ивы у крыльца и осыпало золотыми блестками огороженный новеньким забором садик перед домом.
Между кустами переспелой малины и смородины прогуливался по дорожке молодой румяный священник в застегнутой по горло сутане. Юный служитель церкви сосредоточенно читал книгу в кожаном переплете, приблизив ее к глазам и слегка шевеля губами, не обращая внимания ни на гомон и смех толпы, слоняющейся вокруг ярмарочных лавчонок, ни на аплодисменты и восхищенные возгласы, которыми на площади награждали живую рекламу цирка – канатоходца в черном трико, ни на хриплую песню громкоговорителя. Иногда только он отрывал от книги усталые глаза и, сплетая на животе гладкие, позолоченные загаром руки, пружинисто распрямлялся и обращал румяное толстощекое лицо, освещенное добродушной полуулыбкой, к галерейке на втором этаже – поразительно изящной, хотелось бы сказать, мавританской, по своей архитектуре.
Вдоль заслоненных зелеными жалюзи окон второго этажа, под невесомым почти навесом изящной мавританской галерейки, оттягивая толстую белую веревку, висели полукругом легкие и прозрачные, разноцветные – бледно-зеленые, карминно-красные, голубые и черные – предметы дамского туалета: рубашки, лифчики, пижамы и чулочки – и, словно кто-то ворошил их забавы ради, чуть покачивались на веревке под порывами теплого ветра.








