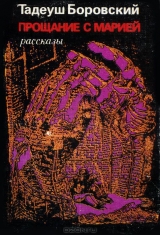
Текст книги "Прощание с Марией"
Автор книги: Тадеуш Боровский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Вагоны опустели. Худой, со следами оспы эсэсовец спокойно заглядывает внутрь, неодобрительно качает головой, обводит нас взглядом и указывает на вагоны:
– Rein. Очистить!
Мы вскакиваем в вагоны. Раскиданные по углам среди человеческого кала и потерянных в толчее часов лежат задушенные, затоптанные грудные младенцы, голые уродики с огромными головами и вздутыми животами. Выносишь их как цыплят, держа в каждой руке по паре.
– Не неси их в машину. Отдай женщинам, – говорит, закуривая папиросу, эсэсовец. У него заело зажигалку, он весь погружен в свое занятие.
– Господи боже, да берите вы этих детей, – взрываюсь я, потому что женщины, втягивая голову в плечи, в ужасе убегают от меня.
Странно и ненужно звучит здесь имя божие, ведь женщины с детьми, все без исключения, попадают в машины. Мы хорошо знаем, что это значит, и переглядываемся с ненавистью и страхом.
– Что, брать не хотите? – как бы удивленно и с упреком проговорил рябой эсэсовец и начал отстегивать револьвер.
– Не надо стрелять, я возьму.
Седая высокая дама взяла у меня младенцев и несколько секунд смотрела мне прямо в глаза.
– Дитя, дитя, – прошептала она с усмешкой. Затем отошла, спотыкаясь на гравии.
Я оперся на стенку вагона. Я очень устал. Кто-то дергает меня за руку.
– Пошли, дам напиться. Ты выглядишь так, будто блевать собрался. En avant[81]81
Вперед (фр.)
[Закрыть] к рельсам, пошли!
Смотрю, перед глазами скачет чье-то лицо, расплывается, смешивается, огромное, прозрачное, с неподвижными и почему-то черными деревьями, с переполнющей площадь толпой… Я резко сжимаю и разжимаю веки: Анри.
– Послушай, Анри, мы хорошие люди?
– Почему так глупо спрашиваешь?
– Видишь ли, друг, эти люди вызывают во мне совершенно непонятное озлобление – тем, что из-за них я должен быть тут. Я им вовсе не сочувствую по поводу газовой камеры. Провались они все сквозь землю. Я готов броситься на них с кулаками! Не понимаю: может, это патология?
– Ох, как раз наоборот, это нормально, предусмотрено и принято в расчет. Тебя мучает то, что тут происходит, ты бунтуешься, а злобу легче всего вымещать на слабом. Даже желательно, чтобы ты ее выместил. Так мне подсказывает здравый смысл, compris? – несколько иронически говорит француз, удобно укладываясь среди рельсов. – Смотри на греков, эти умеют пользоваться! Жрут, что под руку попадется, при мне один съел целую банку джема.
– Скоты. Завтра половина их передохнет от поноса.
– Скоты? Ты тоже голодал.
– Скоты, – повторяю я с ожесточением. Закрываю глаза, слышу крики, чувствую телом дрожь земли и парной воздух на веках. В горле совершенно сухо.
Люди плывут и плывут, машины рычат, как разъяренные псы. Перед глазами маячат мертвецы, которых выносят из вагонов, растоптанные дети, калеки, сваленные вместе с трупами, и толпы, толпы, толпы… Подкатывают вагоны, растут горы одежды, чемоданов, мешков, люди выходят, щурятся на солнце, дышат, молят: «воды», взбираются на машины, отъезжают. Снова вагоны, снова люди… Картины смешиваются, и я не знаю, наяву это происходит или во сне. Вдруг вижу зелень каких-то деревьев, которые колышутся вместе со всей улицей, с пестрой толпой, – ба, да это Аллеи! В голове шумит, я чувствую, как к горлу подступает тошнота.
Анри трясет меня за плечо.
– Не спи, пошли грузить барахло.
Людей уже нет. Последние машины катят далеко по шоссе, поднимая гигантские облака пыли, поезд ушел, по опустевшей платформе достойно вышагивают эсэсовцы, сверкая серебром воротников. Блестят начищенные до глянца сапоги, блестят налившиеся кровью лица. Среди них – женщина, только теперь до меня доходит, что она была здесь все время, сухопарая, безгрудая, костистая. Редкие бесцветные волосы гладко зачесаны назад и связаны «нордическим» узлом, руки засунуты в карманы широкой юбки-штанов. Она ходит по перрону из конца в конец с приклеенной к высохшим губам крысиной жестокой улыбкой. Она ненавидит женскую красоту ненавистью уродливой женщины, сознающей свое уродство. Да, я видел ее уже не раз и хорошо запомнил. Это комендантша FKL пришла обозреть свой улов – ведь часть женщин отставили от машин, и они пешком пойдут в лагерь. Там наши парни, парикмахеры из вошебойки, обреют этих женщин наголо, потешаясь над их еще не остывшей стыдливостью.
Итак, мы грузим барахло. Подымаем тяжелые, битком набитые чемоданы, с усилием бросаем их в машины. Там укладываем их один на другой, заталкиваем, упихиваем, взрезаем что придется ножом – ради удовольствия и в поисках водки и духов, которые выливаем прямо на себя. Один из чемоданов открылся, выпадают костюмы, рубашки, книги… Я хватаю какой-то сверточек: тяжелый; разворачиваю – золото, добрых две горсти: часы, браслеты, перстни, колье, бриллианты…
– Gib hier[82]82
Дай сюда (нем.)
[Закрыть], – спокойно говорит эсэсовец, подставляя портфель, полный золота и разноцветной иностранной валюты. Закрывает его, отдает офицеру, берет пустой и становится сторожить у другого грузовика. Это золото отправится в Германию.
Жара, жара невозможная. Воздух стоит раскаленным неподвижным столбом. У всех пересохло в горле, каждое сказанное вслух слово вызывает боль. Ох, пить. Работаем лихорадочно, только бы скорей, только бы в тень, только бы отдохнуть. Кончаем, уходят последние машины, мы старательно убираем с путей все бумажки, выгребаем из-под мелкого гравия чужую эшелонную грязь, «чтоб и следа от этой мерзости не осталось», и в ту самую минуту, когда последний грузовик исчезает за деревьями, а мы идем – наконец-то! – в сторону рельсов отдохнуть и напиться (может, француз опять купит у конвоира), за поворотом снова слышен свисток железнодорожника. Медленно, бесконечно медленно выкатываются вагоны, пронзительно свистит в ответ локомотив, из окошек глядят измятые бледные лица, плоские, как будто вырезанные из бумаги, с болезненно горящими глазами. И вот уже машины, и спокойный господин с блокнотом на месте, а из буфета уже вышли эсэсовцы с портфелями для золота и денег. Мы открываем вагоны.
Нет, уже нет сил сдерживаться. Мы грубо рвем у людей из рук чемоданы, сдергиваем с плеч пальто. Идите, идите, исчезните. Идут, исчезают. Мужчины, женщины, дети. Некоторые из них знают.
Вот быстро идет женщина, незаметно, но лихорадочно прибавляет шагу. За ней бежит маленький, трех-четырехлетний ребенок с раскрасневшимся пухлым личиком херувима, не может нагнать, с плачем протягивает ручки:
– Мама! Мама!
– Женщина, возьми же ребенка на руки!
– Пане, пане, это не мой ребенок, это не мой! – истерически кричит женщина и пускается бежать, закрывая лицо руками. Она хочет успеть, хочет скрыться среди тех, кто не поедет в машине, кто пойдет в лагерь, кто будет жить. Она молода, здорова, красива, она хочет жить.
Но ребенок бежит за ней, жалобно крича:
– Мама, мама, не убегай!
– Это не мой, не мой, нет!..
И тут ее догнал Андрей, моряк из Севастополя. Глаза у него мутные от водки и жары. Он догнал ее, одним размашистым ударом руки сбил с ног, падающую схватил за волосы и снова поставил стоймя. Лицо у него было перекошено яростью.
– Ах ты, мать твою, блядь еврейская! От дитя своего бежишь! Я тебе дам, ты, курва! – Он обхватил ее поперек, задавил лапой рвущийся из горла крик и как тяжелый куль зерна с размаху бросил в машину. Затем швырнул ей под ноги ребенка: – Вот тебе! Возьми и это! Сука!
– Gut gemacht[83]83
Хорошо сделал (нем.)
[Закрыть], так надо наказывать преступных матерей, – сказал стоявший у машины эсэсовец. – Gut, gut, русский.
– Молчи! – прохрипел сквозь зубы Андрей и отошел к вагонам. Из-под кучи тряпья он вытащил спрятанную там манерку, открутил, приложил к губам себе, потом мне. Спирт жжет горло, голова гудит, ноги подгибаются, чувствую позыв к рвоте.
Вдруг среди всех этих толп, слепо, словно управляемая невидимой силой река прущих в сторону машин, возникла девушка, легко выскочила из вагона на гравий и испытующе огляделась вокруг, как человек, который очень удивляется чему-то.
Густые светлые волосы мягко рассыпались по плечам, она нетерпеливо их откинула. Машинально огладила блузочку, незаметно поправила юбку. Так она постояла с минуту, затем перевела взгляд с толпы на наши лица, словно кого-то ища. Безотчетно я тоже искал ее взгляда, наши глаза встретились.
– Слушай, слушай, скажи, куда они нас повезут?
Я смотрел на нее. Вот стоит передо мной девушка с чудными светлыми волосами, с прелестной грудью, в батистовой летней блузочке, с мудрым взглядом зрелого человека. Стоит, смотрит мне прямо в лицо и ждет. Вот газовая камера, отвратительная, безобразная, свальная смерть. Вот лагерь: бритая голова, ватные советские штаны в жару, мерзкий тошнотворный запах грязного потного женского тела, звериный голод, нечеловеческий труд и та же камера, только смерть еще безобразней, еще омерзительней, еще страшней. Тот, кто однажды сюда вошел, ничего, даже праха своего не вынесет за постенкетте, не вернется к той жизни.
«Зачем она это привезла, ведь все равно отберут», – подумал я невольно, заметив у нее на запястье хорошенькие часики с тонким золотым браслетиком. Точно такие же были у Туськи, только на узкой черной тесемке.
– Послушай, ответь мне.
Я молчал. Девушка сжала губы.
– Понимаю, – сказала она с оттенком царственного презрения в голосе, откидывая голову назад. И смело пошла к машинам. Кто-то захотел ее задержать, но она смело отстранила его и по ступенькам вбежала на платформу почти полного грузовика. Уже только издали я увидел летящие по ветру пышные светлые волосы.
Я входил в вагоны, выносил грудных детей, выбрасывал багаж. Дотрагивался до мертвых тел, но не мог совладать с приступами дикого страха. Я убегал от трупов, но они лежали повсюду кучами на гравии, на цементном краю перрона, в вагонах. Грудные дети, отвратительные голые женщины, скрученные конвульсиями мужчины. Убегал от них как можно дальше. Кто-то хлещет меня тростью по спине, уголком глаза вижу орущего на меня эсэсовца, ускользаю от него и смешиваюсь с группой полосатой Канады. Наконец я снова влезаю в наше убежище среди рельсов. Солнце почти скрылось за горизонтом и залило перрон кровавым светом заката. Тени деревьев угрожающе вытянулись, в тишине, которая под вечер наступает в природе, человеческие крики бьют в небо все громче и настойчивее.
Только отсюда, со стороны рельсов виден весь кипящий на платформе ад. Вот двое людей упали на землю, сплетенные в отчаянном объятии. Он судорожно впился пальцами в ее тело, зубами ухватился за платье. Она истерически кричит, клянет, кощунствует, пока, придавленная сапогом, не начинает хрипеть и умолкает. Их раздирают, как недоколотое полено, и, как животных, загоняют в машину. Вот четверка из Канады волочит мертвеца – огромную распухшую бабу; потея от усилий, они ругаются на чем свет стоит и пинками отгоняют потерявшихся ребятишек, которые с собачьим воем путаются по всей платформе. Их хватают за шиворот, за волосы, за руки и кучами забрасывают на грузовики. Те четверо никак не могут поднять бабу на машину, зовут других и общими усилиями запихивают гору мяса в открытый кузов. Со всей платформы сносят трупы – большие, раздутые, опухшие. Вместе с ними швыряют калек, паралитиков, полузадушенных, потерявших сознание. Гора трупов шевелится, скулит, воет. Шофер заводит машину, отъезжает.
– Halt, halt! – орет издали эсэсовец. – Стой, стой, черт тебя побери!
Тащат старика во фраке с повязкой на предплечье. Старик бьется головой о гравий, о камни, стонет и беспрерывно, монотонно повторяет: «Ich will mit dem Herren Kommandanten sprechen – я хочу поговорить с господином комендантом». Он твердит это всю дорогу со старческим упорством. Уже в машине, придавленный чьей-то ногой, полузадушенный, он все еще хрипит: «Ich will mil dem…»
– Ты, чудак, успокойся, ну! – хохоча во все горло, кричит ему молодой эсэсовец, – Через полчаса ты будешь говорить с самым великим из комендантов. Только не забудь сказать ему «Heil Hitler!»
Несут девочку без ноги, ее держат за руки и за оставшуюся ногу. По лицу ее текут слезы, она жалобно шепчет: «Господи, мне больно, больно…» Девочку швыряют в машину с трупами. Она сгорит заживо вместе с ними.
Наступает вечер, прохладный и звездный. Мы лежим среди рельсов, вокруг удивительно тихо. На высоких столбах вполнакала горят лампы, за кругом света простирается непроглядная тьма. Шагнул во тьму, и нет тебя… Но конвоиры начеку. Автоматы у них наготове.
– Сменил ботинки? – спрашивает Анри.
– Нет.
– Почему?
– Слушай, с меня хватит, я сыт по горло!
– Это после первого же эшелона? Подумать только, а я – с рождества через мои руки прошло, наверно, около миллиона людей. Хуже всего с эшелонами из-под Парижа, всегда встречаешь знакомых.
– И что ты им говоришь?
– Что их везут в баню, а потом мы встретимся в лагере. А ты что сказал бы?
Я молчу. Мы пьем кофе пополам со спиртом, кто-то открывает коробку какао, смешивает с сахаром. Зачерпываешь такую смесь горстью, она заклеивает рот. Снова кофе, снова спирт.
– Анри, чего мы ждем?
– Будет еще один эшелон. Хотя неизвестно.
– Если придет, я не пойду. Не могу.
– Забрало тебя, а? Хороша Канада?! – Анри добродушно улыбается и исчезает в темноте. Вот он уже вернулся.
– Ладно. Только смотри, чтоб тебя эсэсовец не застукал. Тут сиди все время. А ботинки я тебе скомбинирую.
– Оставь меня в покое с ботинками.
Мне хочется спать. Уже глубокая ночь.
И снова «antreten», снова эшелон. Из темноты выплывают вагоны, пересекают полосу света и снова исчезают во мраке. Платформа невелика, но круг света еще меньше. Придется разгружать поочередно. Где-то ревут машины, как черные призраки подъезжают к ступенькам, рефлекторами освещают деревья. «Wasser, Luft»[84]84
Воды, воздуха! (нем.)
[Закрыть] Снова все то же, запоздалый сеанс все того же фильма: раздается автоматная очередь, вагоны успокаиваются. Только какая-то девочка высунулась всем корпусом из вагонного окошка и, потеряв равновесие, упала на гравий. Несколько минут она лежала оглушенная, наконец поднялась – и начинает ходить по кругу, все быстрей и быстрей, угловато размахивая, как на гимнастике, руками, шумно хватая ртом воздух и подвывая, монотонно, визгливо. Давится – помешалась. Это действует на нервы, к ней подбегает эсэсовец, подкованным сапогом пнул ее в спину, она упала. Он притоптал ее ногой, вынул револьвер, выстрелил – раз и еще раз, девочка лежала еще с минуту, вскапывая ногами землю, потом замерла совсем. Начали открывать вагоны.
Я снова был у вагонов, в нос ударила теплая сладковатая вонь. Человеческая гора заполняла вагон до половины, неподвижная, чудовищно перемешанная, но еще дымящаяся.
– Ausladen! – раздался голос вынырнувшего из темноты эсэсовца. На груди у него висел переносный рефлектор. Он посветил внутрь.
– Чего стоите как олухи? Выгружать! – и свистнул палкой по моей спине. Я ухватился за мертвеца; его кисть судорожно сомкнулась на моей руке. С криком я выдернул руку и убежал. Бешено колотилось сердце, перехватило горло. Вдруг меня скрутило пополам и вырвало тут же, у вагона. Шатаясь, я прокрался к рельсам.
Лежа на добром холодном железе, я мечтал о возвращении в лагерь, о нарах без матраса, о минуте сна среди товарищей, которых ночью не отправят в газовую камеру. Внезапно лагерь показался мне каким-то островком покоя. Умирали и умирают другие, ты сам еще кое-как жив, у тебя есть еда, есть силы работать, есть родина, дом, девушка…
Призрачно светят фонари, без конца течет река людей, мутная, взбудораженная, одурелая. Этим людям кажется, что в лагере их ждет новая жизнь, и они психически готовятся к тяжелой борьбе за существование. Эти люди не знают, что они сейчас умрут и что золото, деньги, бриллианты, которые предусмотрительно запрятаны в складках и швах одежды, в каблуках, в тайных уголках тела, уже не понадобятся. Тренированные профессионалы будут копаться в их внутренностях, вытащат золото из-под языка, бриллианты – из матки и заднего прохода. Вырвут золотые зубы. И в плотно заколоченных ящиках отошлют это в Берлин.
Черные фигуры эсэсовцев двигаются спокойно, деловито. Господин с блокнотом ставит последние черточки, уточняет цифры: пятнадцать тысяч.
Много, много машин отправлено в крематорий.
Уже кончают. Последняя машина забирает сложенные на платформе трупы, вещи погружены. Канада, навьюченная хлебом, джемом, сахаром, пахнущая духами и чистым бельем, готовится к обратному пути. Капо укладывает в котел из-под чая последние шелка, золото и черный кофе. Это – для часовых в воротах, пропустят команду без контроля. Теперь лагерь несколько дней будет жить этим эшелоном: есть его ветчину и колбасы, пить его водку и ликеры, будет носить его белье, торговать его золотом и тряпьем. Многое вынесут из лагеря наружу вольнонаемные: в Силезию, Краков и дальше. Обратно они привезут папиросы, яйца, водку и письма из дому. Несколько дней в лагере будут говорить об эшелоне Бендзин-Сосновец. Хороший был эшелон, богатый.
Когда мы возвращаемся в лагерь, звезды начинают бледнеть, небо становится все прозрачней, подымается над нами, ночь светлеет. День обещает быть солнечным и жарким.
Из крематориев тянутся мощные столбы дыма; выше они сливаются в огромную черную реку, которая бесконечно медленно ползет по небу над Биркенау и сплывает за леса в сторону Тшебини. Это жгут Сосновецкий эшелон.
Мимо идет отряд СС с автоматами, смена караула. Идут ровно, слитными рядами, единое тело, единая воля.
– «Und morgen die ganze Welt…»[85]85
«А завтра – весь мир…» (нем.) – строка из гимна нацистской партии.
[Закрыть], – горланят они.
– Rechts ran! Напра-во! – гремит команда во главе отряда.
Мы уступаем им дорогу.
Смерть повстанца
Перевод Е. Лысенко
Недалеко от рва, за узкой полоской луга, лежало поле, засаженное свеклой. Глянешь поверх бурого вала только что выброшенной наверх липкой глины и видишь, как на ладони, зеленые, мясистые листья, а под ними белые с розовыми прожилками клубни кормовой свеклы, распирающие мокрую землю. Поле тянулось по косогору и кончалось у стены черного леса, расплывающейся в негустом тумане. На опушке леса стоял часовой. Над ним торчал, как копье, смешной длинный ствол, видимо, датской винтовки. В нескольких десятках метров левей, под чахлыми сливами, сидел другой часовой, и, плотно укутавшись в авиационный серый плащ, смотрел из-под нахлобученной на уши и на лоб пилотки в долину, будто на дно ванны.
Ниже по склону, там, где лес сходил вниз купами молодых верб, между неожиданно быстрой речушкой и пересекающим долину шоссе, ездили огромные тракторы, разравнивая плугами землю, которую внизу вынимали экскаваторами и везли наверх в веренице вагонеток, подталкиваемых людьми. Там были шум, толчея, и находиться там было опасно. Люди подталкивали вагонетки, таскали шпалы и рельсы, срезали пласты дерна для маскировки строений, почву под которые ровнял трактор.
На дне ванны мы копали ров. Предусмотрительно завершенный в хорошую пору, когда светило солнце и под деревьями было полно спелых, сбитых ветром слив, ров от дождей стал осыпаться, и стенки его даже грозили совершенно обвалиться, так как нам было приказано срезать их для водопроводных труб отвесно, а не под углом, и того не предвидели, что норвежцы, которых поставят прокладывать водопроводные трубы, дружно вымрут все до единого после первых десяти километров. Вот и поспешили бросить нас таскать рельсы да разбирать стальные прутья, громоздившиеся кучами на станции, и загнали на дно ванны поправлять ров, который тянулся непозволительно близко от свекольного поля.
– Вот ты, может, думаешь, что ров вроде бы невеликое дело, – сказал я Ромеку, бывшему диверсанту из-под Радома, уже два года отрабатывающему немцам в лагерях то, что он им в Польше навредил. Мы с ним работали на пару с момента основания этого жалкого лагеря на краю небольшого луга у подножья одного из вюртембергских холмов и достигли в копке рвов известного мастерства. Он киркой разрыхлял мягкую землю до кашицеобразного состояния, а я выбрасывал ее краем лопаты на хребет насыпи. Когда Ромек, лениво махнув киркой, нагибался, я прислонялся к влажной, потрескавшейся стенке рва или садился на ловко подложенный черенок лопаты. Когда же нагибался я, он перенимал мою функцию подпирания стенки рва. Издали казалось, будто во рву находится один человек, который работает хоть и медленно, но усердно и без передышки.
– Ну и что, что ров? – поддержал разговор Ромек, без особого энтузиазма налегши на кирку. Искусство вести разговор, и вести его целый день, было почти столь же важно, как еда. – Осыпался, вот и все. Когда его подправим, двинемся дальше, – говорил он, ритмично разделяя слова ударами кирки. – Только бы рельсы или шпалы не таскать, как вон те, что с восстания[86]86
Имеется в виду массовое восстание против гитлеровских оккупантов, вспыхнувшее в Варшаве 1 августа 1944 г. и жестоко подавленное.
[Закрыть]. С лопатой и киркой еще можно продержаться. Да ты, если хочешь что-то сказать, говори прямо, нечего загадки загадывать.
Он посмотрел на горизонт. У него были голубые, словно вылинявшие глаза и добродушное, очень худое лицо с четко очерченными линиями скул.
– Даже солнца не видать, – огорченно заметил Ромек. – Как думаешь, дождь будет?
Он прикорнул у стенки в нише, оставшейся после предусмотрительно выбранной глины. Там было сухо и вроде бы теплей. Надо рвом дул порывистый осенний ветер и гнал по небу тревожно набухшие дождем тучи, но здесь, внизу, было тихо и уютно.
– Плевал я на дождь, – беспечно возразил я. – Разве для нас это впервой? А ты вот подумай: когда начали мы этот ров копать, нас, стариков, было ровно тысяча душ. Парни все как на подбор, посидели уже в лагерях, да не в каких-нибудь завалящих. И повидали всякого. Замолчав, я раз-другой махнул пустой лопатой и придержал ею сыпавшиеся с насыпи комья.
– Вот выкопали мы ров, немножко посветило солнце, немножко дождь полил, немножко ров осыпался – и осталась нас половина. А от тех, вон там, – я головой указал за поворот рва, туда, где работала остальная часть нашей группы, участники восстания, – уж не знаю, осталась ли в живых хоть половина. Говорят, уборщики трупов получили вчера по две буханки хлеба, потому что вывезли в ящике полсотни трупов. А один еврей утонул в луже на середине лагеря. Потому вчера мы так долго стояли на поверке. В блоке уж и суп совсем остыл.
Бывший диверсант вышел из ниши и взялся за кирку.
– И вовсе не две, не две буханки – каждый уборщик трупов получил полбуханки и немного маргарина в награду. И знаешь, вон тех, как ты говоришь, повстанцев, мне вообще нисколечко не жалко. Я их не приглашал сюда. Сами вызвались. Добровольцы, вишь, под конец войны добровольно приехали строить лагерь, индустриализировать край, – язвительно прибавил он и в заключение выругался.
– Наверно, уже весь ров отделали – что-то не слыхать, чтобы о политике спорили. Видно, дальше ушли. Стараются с самого утра, как дурни. Думают, мастер Бач хлебных корок даст.
– Даст, как бы не так! Не бойся, наш хорват хорошенько все осмотрит, подсчитает и даст тебе так, будто это колбаса! У него своя система, умеет заставить работать, вроде и не бьет, зато корками заманивает. Умеет пришпорить, а ты, дурень, вкалывай. Кому охота сдохнуть, пусть на корки зарится. Я предпочитаю меньше съесть, да не горбатиться.
– Да, наработает такой вот на целую буханку, а достанется ему кусочек корки, – поспешно поддакнул я. – Знаешь, пойду-ка я за свеклой. Пожевать бы малость, а? Сейчас самое время, мастер в деревню ушел.
– И верно, шпарь. Твоя очередь. Я вчера приносил и позавчера. Только следи за капо, он там возле лагеря крутится, – предупредил Ромек. – Принеси штуки две, может, что-нибудь скомбинируем. Дураков хватает. Да смотри, никому не давай.
– Еще бы! Старик, наверно, пристанет. Он, знаешь, готов хлеба недоесть, ему лишь бы зеленью брюхо набить, да побольше. Чего только не ест! И молочай, и дикий чеснок, и петрушку с луга. Помяни мое слово, он скоро окочурится.
Я аккуратно воткнул лопату в землю, чтоб не упала и черенок не испачкался, и крадучись пошел вдоль рва, огибая лужи, оставшиеся после недавнего дождя.
Штука была в том, что дергать свеклу надо было не на ближнем поле, которое под носом, а на дальнем, где рядом тракторы, крики людей, толкающих груженные землей вагонетки, капо, дергающийся, как рыба на крючке, ну и конвоир, которому от скуки случается иногда в кого-нибудь пальнуть. За кражу свеклы грозила неотвратимая кара. И впрямь, чем виноваты мирные крестьяне Вюртемберга, что на их землю нежданно нагрянула орава заключенных и расположилась небольшими лагерями от Штутгарта до самого Балингена, – из камня масло выжимать? И так уж они натерпелись досыта, все луга им изрыли, аж смотреть противно, пастбища заняли, чтоб строить там сельскохозяйственные мастерские, а солдаты и мастера из Трудовой Армии Тодта[87]87
Тодт Фриц (1891–1942) – инженер, организатор трудовой армии, в которую насильно брали жителей оккупированных немцами стран.
[Закрыть] с удовольствием навещают сады и огороды, а еще охотней – невест отсутствующих туземцев, zur Zeit[88]88
В данное время (нем.)
[Закрыть] находящихся на фронте.
За поворотом рва, в некотором отдалении от нас, работала группа стариков, участников варшавского восстания, все одинаково одетые в полосатые костюмы, с небольшими индивидуальными нюансами. Один заправил куртку в штаны, у другого из-под куртки торчал мешок от цемента, замечательная защита от дождя и ветра, третий воспользовался картоном – надел его на себя, прорезав отверстия для головы и рук.
– Пропустите, пожалуйста, помогай вам бог в работе! – вежливо сказал я. – А вы, пан повстанец, лучше бы сняли с себя этот картон. Не видели, что ли, как вчера эсэсовец избил насмерть еврея за солому, что у него нашел?
– А разве я еврей? Евреев они там могут бить, но не арийцев. А в общем, ты о себе беспокойся. Будь у меня три рубахи, я бы тоже был таким умным и ходил без картона.
– Эй, приятель, ты не за свеклой идешь? – спросил меня тип в измазанных грязью, когда-то щегольских ботинках.
– А если за свеклой, так что?
– Принес бы нам одну.
– Свекла вредна для желудка, знаете. Начнется понос, и в момент протянете ноги. Я бы вам советовал потерпеть.
– Как же терпеть, когда есть охота. А когда человек голоден, ему не больно-то хочется жить, – рассудительно возразил старик.
Я присмотрелся к старику доходяге. Поверх куртки он подпоясался толстой, из обрывков связанной веревкой, а под курткой была напихана солома, торчавшая из-под куцего воротника, который был поднят, словно эта полоска пропитанного влагой холста могла его согреть. Однако ему не пришло в голову заправить штаны в когда-то щегольские ботинки, еще варшавские. Они были облеплены толстым слоем старой, засохшей грязи и густо обмазаны свежим глиняным месивом.
– Эх вы, – презрительно сказал я, – старый человек, а блюсти себя не научились. Надо немного следить за собой, чуток себя почистить, это ж вам не пансионат, где вам все подадут, это не то, что дома у мамочки. Вот оботрите-ка грязь, подвигайтесь маленько, и сразу здоровья прибавится больше, чем от пайки хлеба. А если будете одну свеклу жрать да каждый день за полмиски супа сигарету покупать, неужто думаете, что сможете выжить? Сунут в ящик и увезут, поминай как звали. У вас уже и так видик – смотреть страшно.
– Кабы тебе посидеть только на литре баланды из одной воды да пайке хлеба, тоже выглядел бы как мы, – прервал поток моего красноречия тип в картонной покрышке.
– Будто я ем больше вас, вот уж сказали! – искренно возмутился я. – Просто я не привык к деликатесам, как вы, варшавяне. И стараюсь блюсти себя.
– А кто вчера вынес котелок супа из нашего блока, коль не ты? Может, скажешь, вру?
– Я вчера продал старшему вашего блока метлу, за это он и дал мне миску супа. Мы же все в ивняке работали. Кто вам запретил делать метлы? Вы-то в полдень полеживали себе, а я метлы вязал.
– Те-те-те, я тоже не глупей тебя. Да разве старший блока у меня возьмет? Ему интересней дать даром суп кому-то из вас, из освенцимских.
– А ты вот посиди с наше пару годиков, так и тебе всюду дадут вторую миску супа, – ответил я сердито и бегом побежал на свекольное поле, ругая себя за бесполезную задержку.
Метрах в ста подальше ров сворачивал к черному квадрату земли, которую буровили тракторы и экскаваторы. Перед самым поворотом насыпь у рва была удалена, и в стенке его были вырыты две неглубокие ямки, как раз чтобы ступня поместилась. Сунув ногу в ямку и уцепившись руками за край рва, я с усилием вылез наверх и, не обращая внимания на то, что куртка моя волочится по грязи, осторожно пополз между рядами свеклы. Здесь, отчасти прикрытый свекольной ботвой, я почувствовал себя уверенней. Выбрал самую крупную свеклу, не спеша оборвал листья и вытащил ее из земли. Потом стал высматривать репу, но, кроме пузатых бело-розовых свекольных клубней, ничего не удавалось приметить. Тогда я выдернул еще одну свеклу, сунул обе под куртку и, держа в руке несколько листьев как прикрытие от взора капо или часового, пополз опять ко рву. Соскользнув вниз и очутившись между его потрескавшимися, мокрыми стенками, я вздохнул с облегчением.
Достал сразу из кармана деревянную лопатку, почистил куртку и штаны, тщательно отскреб руки и ботинки и, поддерживая под полами куртки обе свеклы, поспешил к своим. Был я слегка разгорячен и дышал как загнанная собака.
– Слушай, друг, дай одну, дай хоть кусок! – упрашивали меня повстанцы, когда я проходил мимо них.
– Не приставайте ко мне, ну и народ! – закричал я почти с отчаянием, прижимая к животу отвратительно мокрые шары свекол. – Сами идите рвите! Свекла там для всех растет! Чего это я один должен трудиться?
– Так вам же легче, вы же молодой! – сказал тип в картонной покрышке.
– Ну и подыхайте, раз вы старые и боитесь. Если б я боялся, на мне давно уже трава бы росла!
– Так подавись же ею, сукин сын! – со злобой крикнул мне вслед тип в картонной покрышке.
Наконец я пробрался к бывшему диверсанту. Ромек сидел во рву на корточках, опираясь на рукоять кирки.
– Все равно никто не смотрит, чего зря стараться? – весьма рассудительно заметил он.
Я вытащил из-под куртки свеклу. Диверсант копнул киркой дно рва, сделал маленькую ямку, достал из недр своей одежды бесценный предмет – перочинный ножик – и аккуратно очистил обе свеклы, бросая очистки в ямку.
– Пошли мы, знаешь, однажды разделаться с одним старостой, недалеко от Радома, – говорил он, вырезая из свеклы жесткие, неприемлемые для гурмана, части. – Деревня называлась Ежины или Дзежины – что-то в этом роде. Окружили кое-как хату, и Волк – во всех историях Ромека Волк играет главную роль – залез в хату через окно, мы стоим, ждем, когда он управится. А его все не видно, и вдруг зовет меня. Влезаю, понимаешь, и я, осматриваюсь, темновато там, ан староста с бабой в кровати и вставать не хочет. «Выходи на допрос», – говорит Волк. «Я его не пущу, допрашивайте в кровати», – говорит баба. А староста с перепугу молчит. Пали, говорю, в подушку, чего не сделаешь для Родины! Пальнули мы оба вместе в мужика, аж перья к потолку взлетели. И ты думаешь, баба крик подняла из-за него? Вот и нет! «Ах вы, такие-сякие, – говорит, – партизаны паршивые, что ж вы мне подушку и перину изничтожили!»








