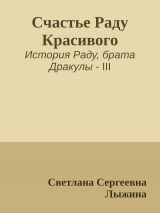
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Но... откуда ты узнал? И когда?
– Ещё в прошлом году, – всё с той же хитрой улыбкой ответил Ахмед-паша. – Однажды застал своего секретаря за странной работой. Случайно зашёл к нему в комнату поздно вечером и увидел, что на его столе лежит целая стопка листов с моими стихами, скопированными. Я спросил, для чего это. Секретарь ответил, что копирует для себя, но я не поверил, потому что все листы были свежие, а чернила как будто только недавно высохли. Если бы он копировал для себя, то делал бы это время от времени, а не переписывал всё за один раз. Я рассердился и опять спросил, для кого копии, и тогда секретарь признался, что старается для тебя. Он стал умолять, чтобы я не лишал его заработка, потому что ты очень хорошо платишь.
– И ты не сказал мне, что мой секрет раскрыт?
Я уже не испытывал стыда. Теперь мне было интересно, что же за всем этим последует, но Ахмед-паша как будто выжидал, не хотел сразу доверять мне все свои мысли.
– Я тогда решил, что лучше оставить всё, как есть, – произнёс мой собеседник. – Я подумал, что если Раду-бей настолько скромен, что не хочет попросить у меня копии моих стихов, то пусть получает их так, как ему удобно.
– А если бы Раду-бей попросил? – полушутя спросил я.
– Получил бы всё, что просит, – ответил Ахмед-паша. – Как можно отказать другу в такой маленькой услуге!
И всё же мне опять начало казаться, что мой друг не вполне искренен, и что он стал считать меня своим другом лишь тогда, когда ему самому понадобилась услуга.
Меж тем в комнату, предварительно постучавшись, вошёл мальчик с большим медным подносом. На подносе стояли глиняный кувшин с вином и две серебряные пиалы, а также лежало множество разных фруктов, сыр и пресные лепёшки.
Мальчик, поставив поднос на круглый столик, поклонился и ушёл, а Ахмед-паша принялся разливать вино и, протянув мне пиалу, сказал:
– Попробуй. Оно превосходно.
Я пригубил напиток:
– Да.
– За моего друга! – поднял пиалу Ахмед-паша. – За истинного друга, а друзья, как известно, познаются в беде.
– Лучше выпьем за то, что беда миновала, – ответил я, поднимая свою пиалу.
Мы выпили, после чего Ахмед-паша продолжал изливать мне дружеские чувства:
– Раду-бей, я до сих пор помню, как в то утро в бане ты уходил вслед за нашим повелителем, но оглянулся и посмотрел на меня так, будто извинялся за то, что не предотвратил случившееся. Почему? Ты ведь не мог ничего сделать. А если бы мог, то предупредил бы меня.
– О планах султана мне стало известно в последний момент, – оправдываясь, произнёс я. – Будь у меня хотя бы час, я бы предупредил. Но в моём распоряжении не оказалось и минуты.
Конечно, это являлось преувеличением. В общем и целом я знал о планах султана задолго до случая в бане, но мучился сомнениями, следует ли подвергать себя опасности и отправлять письмо с предупреждением. В итоге я ничего не отправил и положился на разум и догадливость Ахмеда-паши, однако выпитое вино заставило мою голову кружиться, и в этом состоянии лгать стало очень легко. А главное – приятно!
Правда, меня не покидало подозрение, что Ахмед-паша лжёт так же, то есть сильно преувеличивает силу своей дружеской привязанности ко мне.
"Ну и пусть, – думал я. – Зато теперь он благодарен и стыдится того, что прежде обделял друга вниманием".
Мне хотелось, чтобы поэт спросил: "Раду-бей, чем ещё я могу отблагодарить тебя кроме хорошего вина?" – и тогда я бы повернулся к нему, посмотрел с нежностью, погладил бы по щеке кончиками пальцев и ответил: "Мой друг, мне нужно от тебя только то, что ты сам пожелаешь мне предложить".
Мы говорили ещё некоторое время, обсуждали придворную жизнь, и Ахмед-паша теперь высказывал мнения, которые вряд ли высказал бы, оставаясь в милости. Такие мнения высказывает лишь тот, кто впал в немилость, однако я охотно кивал и соглашался, чтобы не потерять доверие опального поэта. "Без доверия не совершается то, чего я хочу", – думалось мне.
Вино всё больше действовало как на меня, так и на моего собеседника, и если раньше мы сидели на достаточном расстоянии друг от друга, то теперь – совсем близко и не чувствовали неловкости. Мы то и дело задевали друг друга локтями, когда брали что-то с блюда, но за эти случайные касания уже не хотелось извиняться.
Ахмед-паша то и дело приобнимал меня за плечи и восклицал: "Ах, мой друг Раду-бей!" – а затем опять говорил что-нибудь нелестное о придворных порядках.
И вдруг поэт в очередной раз наполнив пиалы, сделался очень серьёзным. Его весёлость, которую он показывал на протяжении минувшего часа, вдруг пропала.
– Раду-бей, прошу тебя, не пойми превратно, но я хотел встретиться с тобой не только для того, чтобы от всего сердца благодарить. Меня беспокоит судьба того юноши. Ты ведь наверняка знаешь, не понёс ли он наказание из-за меня.
– Он служит при дворе, как прежде. В той же должности, – ответил я и вспомнил охоту, которая состоялась недавно уже без участия Ахмеда-паши. – Когда я видел этого юношу в последний раз, он не выглядел несчастным.
– А может быть... – Ахмед-паша замялся, – может быть, ты говорил с ним?
– Нет. Для чего?
– Мне хотелось бы знать, не сердится ли он на меня.
"Эх, ну зачем спрашивать о ком-то, если я здесь!" – воскликнул внутри меня юный Раду, а Раду более опытный с досадой понял, что любовь к красивому пажу по-прежнему жива в сердце поэта.
Однако в ту минуту мне подумалось, что пажа уже не следует опасаться: "Это дело прошлое. Ахмед-паша и сам понимает, что паж для него недоступен, а завтра предстоит отъезд в Бурсу, который нельзя ни отменить, ни отсрочить. К тому же пажа здесь нет. Зато я здесь".
И всё же чувство досады заставило меня стать немного язвительным:
– Ахмед-паша, неужели тебе есть дело, что думает юноша, который не имеет особых склонностей?
Поэт вздохнул, а на его лице вдруг появилось выражение такой горькой тоски, что я почувствовал себя обиженным – он и впрямь хотел бы видеть здесь, на моём месте того пажа, а вовсе не меня.
Ахмед-паша молчал несколько мгновений, а затем задумчиво произнёс:
– Но он позволил мне поцелуй. И это, возможно, означает...
– Паж следовал приказанию султана, – перебил я. – А приказ состоял в том, чтобы позволить тебе проявить твои чувства. Паж повиновался, но не более. Я сам видел, как он с отвращением вытирал губы после случившегося. Прости, мой друг, но я должен сказать тебе горькую правду. Этот юноша не имеет особых склонностей и втайне презирает таких как ты и я. Он бы презирал нас явно, если бы не знал об особых пристрастиях султана и не боялся оскорбить его заодно с нами.
Мой собеседник совсем понурился, и я вдруг подумал о том, как мог бы его "утешить". Вот почему я взял пиалу в левую руку, чтобы освободить правую, и эта правая почти сама собой легла на плечо Ахмеда-паши:
– Мой друг, – вкрадчиво произнёс я, – мне и самому порой бывает очень тяжело при виде красоты, которая никогда не ответит мне любовью на любовь. Я часто встречаю такую то здесь, то в своих землях. И мне приходится смиряться, потому что иначе это обернётся для меня или разбитым сердцем, или огромными неприятностями. Или и тем, и другим одновременно. Совсем как обернулось для тебя. Любить красоту, не имеющую особых склонностей, это напрасный труд. Лучше обратить взор на других, – я поставил пиалу на столик, чтобы теперь положить обе руки на плечи Ахмеду-паше.
Мой собеседник молчал, а я, совсем осмелев, погладил его по щеке кончиками пальцев правой руки, а левая уже передвинулась по его плечу так, что лежала поверх воротника кафтана и слегка касалась шеи.
– Не печалься, – теперь я говорил не вкрадчиво, а ласково и почти перешёл на шёпот, будто боялся громким голосом спугнуть свою удачу.
Ахмед-паша поднял на меня глаза:
– А что ты скажешь, если я попрошу тебя о почти невозможном?
– О чём? – шёпотом спросил я и ещё больше приблизил лицо к его лицу. Мы почти соприкасались носами.
– Устрой мне свидание с предметом моих несчастий, – торопливо заговорил поэт. – Уговори его как-нибудь, чтобы пришёл сюда.
Я отпрянул:
– Что?
Показалось, что кончики пальцев, которыми я только что прикасался к собеседнику, горят, как обожжённые.
Ахмед-паша смотрел на меня, но будто не видел и всё так же торопливо говорил:
– А если он не согласится на уговоры, предложи денег. Пусть я лишён доходов визира, но у меня ещё осталось... – теперь бывший визир посмотрел на меня осмысленно: – Ты полагаешь, я безумен?
– Да! – воскликнул я. – И тебя не узнать! Я полагал, что ты слишком умён, чтобы так... Ты потерял всё из-за смазливого пажа, которому даже не жаль тебя. Будь его воля, он бы плевал тебе в лицо!
Я сказал это громко, чтобы задеть Ахмеда-пашу, заставить его сердиться и кричать. Хотел, чтобы он испытал такое же разочарование, которое испытал я, узнав, насколько несбыточны мои собственные мечты.
Я наивно полагал, что выпитое вместе вино и мои прикосновения помогут соблазнить поэта, пробудить в нём желание, которое захочется немедленно утолить, а он даже не заметил моих ухищрений, потому что думал о своём! Даже не заметил! Правду говорят, что влюблённые слепы, глухи и жестоки. Поэт оказался слеп по отношению ко мне. И жесток.
– Неужели ты не понимаешь, что он не придёт сюда, сколько ни предложи!? – я кричал всё громче. – Всех твоих денег окажется мало! И даже всех денег мира! Паж не придёт. В нём слишком сильно отвращение к мужчинам как к любовникам!
– Тогда я предложу ему дружбу.
– По-твоему, он глупец!? Зачем ему твоя дружба? К тому же дружба с тобой – верный путь снискать султанскую немилость. Наверное, я сам глупец, если сижу здесь. Мне лучше уйти, – я поднялся на ноги.
– Ну, помоги же мне, мой друг! – взмолился Ахмед-паша. – Я знаю сам, что это как безумие и наваждение, но ничего не могу с собой поделать. И только ты можешь помочь мне исцелиться!
Это прозвучало двусмысленно. В стихах такая фраза, обращённая к возлюбленному, означала просьбу о поцелуе или о чём-то большем. Но меня сейчас просили отнюдь не о близости.
Ещё недавно я стремился прикоснуться к своему собеседнику, а теперь он сам схватил меня за руку, но этот жест означал совсем не то, чего бы мне хотелось.
"Он не видит и никогда не видел во мне того, кто привлекателен", – подумал я.
Меня начал ужасно злить этот безумный просящий взгляд, потому что я понимал, что причина безумия не мо мне. И я даже на временную замену не гожусь.
– Ахмед-паша, я, конечно, попробую что-нибудь сделать, но ничего не могу обещать. Ничего. А тебе лучше вернуться домой.
– Мой дом уже мне не принадлежит, – грустно улыбнулся Ахмед-паша. – Там султанские чиновники описывают моё имущество, которое забрал у меня султан как у изменника. Хорошо, что деньги я хранил не дома. А то и их бы забрали. На сегодня это, – он обвёл взглядом комнату, – мой дом. А завтра моим домом станет чайхана возле дороги.
Моё сердце сжалось от сострадания, но я тут же вспомнил, что ни моё сострадание, ни мои утешительные слова этому человеку не нужны. Всё, что ему от меня было нужно – помощь в устройстве свидания с пажом, а я между тем всерьёз подумывал нарушить только что данное обещание, то есть ничего не предпринимать. Мне была невыносима мысль, что паж польстится на деньги и всё-таки придёт, сделав Ахмеда-пашу невероятно счастливым. Такой исход казался почти невозможным, но я хотел, чтобы не было "почти". Пусть поэт страдает подобно мне!
– Я попытаюсь что-нибудь сделать, Ахмед-паша. Прощай. Жаль, что мы больше не увидимся.
* * *
Я вышел в коридор, торопливо закрыв за собой дверь. Хотелось биться лбом об стену, но я сдержался и лишь закрыл лицо руками, горестно вздохнув.
Именно поэтому я не сразу заметил, что в коридоре не один. Мальчик, который приносил в комнату вино, сидел на полу возле стены, противоположной от двери, и с любопытством за мной наблюдал.
Кажется, на его лице мелькнула насмешливая полуулыбка, поэтому мне стало стыдно, что этот мальчик увидел меня расстроенным. Оставалось надеялся, что он не поймёт истинную причину. Мало ли из-за чего может быть расстроен богато одетый господин! Может, он расстроен из-за того, что другой господин, который постарше, не отдал ему в жёны свою дочь! Или отказался продать хорошего коня! Я не получил то, на что надеялся – это было явно написано у меня на лице, но подробности произошедшего удалось бы угадать, только обладая определёнными знаниями.
Меж тем мальчик, увидев, что я испытующе на него смотрю, широко улыбнулся, и эта улыбка была наглой – дескать: "Что уставился, господин?"
"Если в этой таверне все слуги так смотрят на богатых господ, то хозяин не получит доходов, – подумалось мне. – Если они хотят получать щедрую плату, следует быть любезнее".
Меж тем мальчик лениво поднялся с пола и такой же ленивой поступью направился к двери, из которой я только что вышел. Он явно собирался войти. И сидел возле стены именно за этим – ждал, пока я выйду. Теперь же он ждал, когда я отойду от двери, а я оставался на месте, поскольку всё никак не мог взять себя в руки.
К моему великому изумлению, мальчик, которому я невольно загородил проход, посмотрел на меня уже враждебно. Как будто я лишал его чего-то, что ему принадлежит.
– Что такое? – вырвалось у меня.
Мальчик продолжал смотреть всё так же враждебно... А впрочем, это был не такой уж мальчик.
Только сейчас вглядевшись в его лицо, я увидел, что это скорее юноша лет семнадцати или восемнадцати. Просто он был очень невысок ростом, поэтому казался мальчиком.
Но почему этот мальчик-юноша хотел зайти в комнату к Ахмеду-паше? Почему был уверен, что нужен там? Хотел спросить, принести ли ещё вина? Допустим. Но почему он не мог спросить об этом, пока я находился внутри? Он мог бы войти, предварительно постучавшись, и спросить. Зачем ему было дожидаться, пока я выйду?
Я аж вздрогнул от внезапной догадки. Так вот тот, кто утешит несчастного поэта! Утешит этот юный слуга, а вовсе не я. А мне уготована совсем другая роль – роль сводника.
Сводничеством всегда занимались те, кто уже не надеялся сам стать предметом вожделения. То есть сводничеством занимались люди старые. А сегодня меня попросили быть сводником.
"Вот она – старость! – подумал я. – Ты состарился, Раду. Вот так неожиданно. И можешь сколько угодно смотреться в зеркало и обманывать себя. Ты – старик".
Я ещё раз взглянул на юного слугу, оценивая его достоинства, и с горечью подумал: "Только и достоинств, что он моложе меня. Я в свои восемнадцать выглядел куда лучше".
Юный слуга явно не считал нужным регулярно высыпаться. Из-за этого кожа была не очень свежа, под глазами уже начали залегать тени, и лицо выглядело немного опухшим. А может, оно стало опухать из-за привычки пить вино?
Последствия такого времяпровождения пока что побеждались молодостью, но через два-три года она уже не смогла бы скрыть дурных привычек. "В двадцать пять я блистал красотой так, что даже султану было жаль со мной расставаться! – мысленно обратился я к своему сопернику. – А что с тобой станет в двадцать пять? Твоё лицо раздуется от пьянства, талия оплывёт. Никто тебя не захочет". Но что было толку в этих сравнениях, если мои двадцать пять давно остались позади! Мои двадцать пять миновали десять лет назад. И я не мог победить время.
А слуга, стоя передо мной, уже совсем потерял терпение. Ни слова не говоря, он стал протискиваться к двери и чуть толкнул меня боком, потому что не хватало места.
У меня в голове помутилось:
– Ах ты, наглец! – крикнул я, схватил этого мальчика-юношу за шиворот и потащил прочь от двери, пользуясь тем, что мой соперник заметно уступает мне в росте и в весе, а значит, он слабее. – Я тебя научу уважению!
Юный слуга, невольно следуя за мной по коридору, то и дело спотыкался, размахивал руками, крутился, пытаясь высвободиться.
Я понимал, что поступаю недостойно и лишь вымещаю на этом юноше свою злость, но не мог заставить себя прекратить.
– Пусти, господин! Пусти! – орал тот дурным голосом. – А-а-а-а-а-а-а!
Эти крики ласкали мне слух. Хотелось скинуть наглеца с лестницы, посмотреть, как он кубарем покатится вниз, увидеть его разбитое лицо после этого. А ещё лучше – пусть бы сломал себе рёбра или даже шею!
И вдруг мне показалось, что Ахмед-паша сейчас стоит на пороге комнаты и наблюдает за моей безобразной выходкой.
Я не нашёл в себе сил оглянуться и проверить, верно ли это, но, чуть-чуть не дойдя до лестницы, выпустил воротник слуги:
– Ещё раз посмеешь толкнуть меня, – мои слова были похожи на шипение, – я тебя так отделаю, что долго будешь за бока держаться.
Мальчик-юноша смотрел на меня с детской обидой. В его глазах стояли слёзы, и мне сделалось ещё противнее от самого себя, как будто я обидел даже не взрослого, а ребёнка.
Почти бегом спустившись на первый этаж, где ждали мои слуги, я вышел из таверны и вернулся во дворец.
* * *
Даже вернувшись во дворец, я не мог успокоиться. Внутри меня всё клокотало, но, как назло, именно в это время мне следовало присутствовать в свите султана на очередном празднике. Устроили пир, на котором проходило состязание поэтов, и это лишний раз напомнило мне, что Ахмеда-паши, который в недавнем прошлом являлся главным участником подобных состязаний, при дворе больше нет...
Мехмед заметил моё состояние, поэтому уже ближе к ночи, когда празднество окончилось, и настало время расходиться, он сделал мне знак, чтобы я шёл следом.
Оказавшись в своих покоях, султан с нарочитой непринуждённостью произнёс:
– Хочу спросить твоё мнение о моём новом стихе. Никто при дворе мне правды не скажет, но в отношении тебя у меня есть надежда, что ты не станешь льстить... – он подал мне листок, вынутый из шкатулки, стоявшей на широкой полке в стенной нише.
Была уже третья декада сентября, осень всё больше вступала в свои права, поэтому не казалось удивительным, что стихотворение Мехмеда тоже посвящалось осени.
В середине я нашёл примерно такие строки:
Богаты мы, когда по осени обилен урожай,
Но в сердце нищета, ведь страсти остывают.
С полей к нам в закрома стекается зерно,
Пока богатства чувств незримо ускользают.
Они напомнили мне о стихах Ахмеда-паши, слышанных от самого поэта. Невольно подумалось, что Мехмед заимствует у него, но воровством это вряд ли следовало считать, потому что сформулировано было иначе – хуже.
В этих строках не ощущалось искренности. Вместо неё присутствовало нарочитое стремление говорить изящно. Или мне только показалось так, потому что я был расстроен?
– Что случилось, мой друг Раду? Неужели, в этом стихе всё так плохо? – спросил султан, наблюдая за меняющимся выражением моего лица.
Хоть я и старался не показывать чувств, но сегодня у меня не получалось притворяться, поэтому следовало говорить правду. Даже если правда могла представлять опасность для меня, искренность являлась менее опасной, чем неискусная ложь.
– Дело не в стихе, повелитель, – произнёс я. – Просто стихи напомнили мне об Ахмеде-паше. Я видел его сегодня.
– Ах, вот как, – спокойно произнёс Мехмед, тем самым показывая, что не очень удивлён, и что он пока не решил, гневаться или нет. Всё зависело от того, что мной будет сказано дальше.
– Лучше бы мне его не видеть, – продолжал я. – Ахмед-паша сильно изменился за те дни, которые провёл в тюрьме. Он безумен. Потерял разум от любви. Это странное и даже страшное зрелище.
Мехмед воззрился на меня в недоумении, а я продолжал говорить. И даже радовался, что могу позволить себе откровенность, и что у меня есть надежда быть понятым:
– Как такое возможно! Ахмед-паша, один из самых разумных людей, которых я знаю, теперь перестал быть собой. Потому что разумный человек, оказавшись в его положении, вёл бы себя совсем иначе. Ахмед-паша потерял твоё благоволение, повелитель, и должность визира. Потерял имущество, наконец. Но Ахмеда-пашу всё это совершенно не заботит. Все его мысли – о том сокольничем. Это из-за одного поцелуя, который мы наблюдали в бане. Ахмед-паша не хочет верить, что поцелуй для юноши был отвратителен. Ахмед-паша думает только об этом поцелуе. А сегодня поймал меня, когда я выходил в город, и просил устроить с юношей свидание. Безумец! Он не желал понять, что просьба совершенно невыполнима. Я бежал от него, потому что больше не мог вынести безумных речей.
Султан слушал очень внимательно, а затем вдруг хохотнул и сказал:
– А знаешь, Раду, ты подал мне отличную мысль о том, как я могу наказать изменника ещё сильнее, но при этом выглядеть милостивым для тех, кто ему сочувствует.
Теперь уже на моём лице отразилось недоумение, а султан, довольно улыбаясь, продолжал:
– Ахмед-паша хочет увидеть этого смазливого мальчишку... и увидит. И даже больше: мальчишка поедет вместе с ним в Бурсу.
– Зачем, повелитель?
– А затем, чтобы Ахмед-паша мог на него насмотреться.
– Прости, повелитель, но я всё ещё не понимаю.
– Ахмед-паша будет на него смотреть и рано или поздно увидит, что в глазах этого красавца – лишь ненависть, смешанная с презрением. Разве это не самое тяжёлое наказание для влюблённого? Лишь в стихах говорится, что влюблённый рад получить даже гневный взгляд от предмета своей любви. На самом же деле всё наоборот. Любовь становится мучительной, когда от тебя не хотят принять ухаживаний, не позволяют любить и признаваться в любви.
Я даже не успел согласиться, а Мехмед уже позвонил в колокольчик, чтобы позвать кого-то из слуг. Султан пригласил к себе двух чиновников: главного сокольничего и начальника дворцового гарнизона, а затем в моём присутствии объяснил им, что в число воинов, которые завтра должны сопровождать Ахмеда-пашу, отбывающего в Бурсу, нужно добавить ещё одного. Мехмед назвал имя того самого "смазливого мальчишки".
Чиновники не выразили удивления, потому что султан не мог среди ночи позвать их ради пустяка. Важность дела подтверждалась и тем, что султан особо отметил, обращаясь к начальнику гарнизона:
– Я желаю получить подробный отчёт о том, как Ахмед-паша поведёт себя по дороге в Бурсу.
А главному сокольничему было сказано, что юноше, который теперь станет воином, султан желает лично объяснить суть новых обязанностей.
Наконец чиновники поклонились и ушли, а вскоре в покоях появился тот самый сокольничий, вокруг которого, как выяснилось, продолжали кипеть страсти.
Мне вспомнилась история, как этот юноша стоял на коленях, умоляя султана не оказывать "особую милость", и эта мольба помогла, потому что у Мехмеда пропало всякое желание.
Конечно, красавец и в этот раз упал на колени. Но теперь мольба не подействовала.
– Повелитель, заклинаю тебя, скажи, чем я провинился! – просил сокольничий, а его локоны, похожие на женские височные украшения, красиво покачивались от малейшего движения головы. – Я ведь ни разу тебя не ослушался. Исполнил всё, как ты мне приказывал. Зачем же ты отправляешь в ссылку и меня тоже? Но если такова твоя воля, отправь меня куда угодно, но не в Бурсу.
– Нет, ты отправишься именно в Бурсу, – сказал Мехмед. – Пусть ты показал себя послушным слугой, но твоё излишнее рвение кажется мне подозрительным. Я не приказывал, чтобы ты целовался с человеком, который, по твоим словам, тебе безразличен.
– Повелитель, прости меня за мою глупость, – сокольничий ткнулся лбом в пол. – Ты сказал мне, чтобы я не противился тому, что будет происходить в бане, и я понял тебя превратно. Но клянусь...
– Мне не нужны твои клятвы, – перебил Мехмед. – Я хочу, чтобы ты делом доказал, что никогда не лгал мне. Ты уверял, что делить ложе с мужчиной никогда не станет для тебя удовольствием. И что же я вижу? Меня ты отвергаешь, но целуешься с другим? Если это недоразумение, то твоя поездка в Бурсу явит правду.
Сокольничий уже ни о чём не просил и только лил слёзы, но они не могли разжалобить Мехмеда.
Зато я вдруг почувствовал себя виноватым. Если юноша действительно не имеет особых склонностей, то раз за разом заставлять его доказывать это – большая жестокость. Как же так получилось, что я, сам того не желая, подал султану "отличную мысль"!
– Ты будешь находиться рядом с Ахмедом-пашой на протяжении всего пути. А когда мои воины поедут обратно, ты поедешь с ними. То есть это не ссылка.
– Благодарю, повелитель, – сокольничий приободрился.
– Не благодари раньше времени, – усмехнулся султан. – Путь до Бурсы долог. По дороге всякое может случиться. Но на этот раз я не приказываю тебе быть покорным. Не делай ничего против твоих желаний. Если желаешь браниться, бранись. Когда желаешь ударить, ударь. Если хочешь плюнуть, так и сделай. Ты в своём праве.
Сокольничий молча поклонился.
– Я должен убедиться, что в тебе нет ни малейшей привязанности к Ахмеду-паше, – говорил Мехмед, – и если ты докажешь это, значит, ты не лжец и по возвращении получишь повышение по службе. Но если мне доложат, что ты проявил хоть каплю сострадания к моему бывшему визиру, значит, раньше ты лгал мне. И ты снова отправишься в Бурсу, но уже навсегда.
На лице сокольничего отразился неподдельный ужас, а султан, видя это, засмеялся и закончил:
– Если Ахмед-паша мил тебе, лучше вам быть вместе. Вы будете счастливы даже в захолустье.
– Повелитель, – сдавленным голосом произнёс юный сокольничий, – а если случится так, что моё поведение окажется неверно истолковано? Люди, которые будут докладывать тебе, могут ошибиться.
– А ты поступай так, чтобы твоё поведение не допускало толкований, – продолжал смеяться Мехмед.
Ему всё больше и больше нравилась эта затея.
* * *
В Румынию я возвращался со смешанными чувствами. Казалось бы, при дворе султана ничего плохого со мной не случилось и эту поездку в целом следовало назвать удачной, но мной время от времени овладевали досада и раздражение. Направляя коня на север, к Дунаю, я чувствовал себя проигравшим в некоей важной игре, но сам толком не мог понять, почему.
Казалось бы, мне следовало похвалить себя за то, что я всё же совладал с собой и не привёз в Турцию того румынского мальчика. Если б привёз, это обернулось бы большой бедой для меня, ведь султана обуяла бы ревность.
В итоге повода для ревности я не дал и более того – получил знак того, что по-прежнему угоден Мехмеду как правитель вассального государства. Султан сказал мне, что собирается в поход на одного из своих азиатских соседей, и что я должен предоставить двенадцать тысяч воинов для этого похода, чтобы пополнить турецкую армию.
Увы, этот знак благоволения был сопряжён для меня с большими расходами. Если бы я своей государевой волей отправил в Турцию десять тысяч моих подданных, они стали бы роптать. И не только они. Поэтому следовало поступить иначе – заплатить этим воинам, как наемникам, и тогда они охотно отправились бы даже на край света, а азиатские границы Турции по сути и были краем света.
"Ничего, – успокаивал я себя. – Ты понесёшь траты, но это гораздо лучше, чем если бы султан решил воевать с венграми, с которыми ты живёшь в мире. Ты ведь не только турецкий вассал, но и вассал венгерского короля. Если бы началась война, ты вынужден был бы предать одного из сюзеренов, и это в любом случае обернулось бы плохо. Когда-то именно так случилось с твоим отцом. Он оказался между двух огней. Так что радуйся, что этого не случилось с тобой".
А ещё мне следовало радоваться, что я сумел помочь Ахмеду-паше и при этом не навредить себе. Да, я испытал жестокое разочарование в любви, но даже тот юный слуга в таверне не понял, насколько оно велико. Значит, о моём позоре никто не знал, и я мог сделать вид, что позора нет. Вместо этого можно было считать себя бескорыстным поклонником, который счастлив уже оттого, что выполнил даже ту невыполнимую просьбу поэта о свидании с пажом.
"Интересно, – думалось мне, – Ахмед-паша хотя бы мысленно поблагодарил своего друга Раду-бея за услугу или забыл о нём, как только увидел любимого красавца?" Житейский опыт подсказывал мне, что поэт обо мне ещё долго не вспомнит, но досада появилась не из-за этого.
Если б я досадовал из-за того, что отвергнут, то с удовольствием представлял бы, как Ахмед-паша очень скоро испытает такое же сильное разочарование, которое испытал я. Помнится, поначалу я желал Ахмеду-паше именно этого – страданий. Однако теперь мне хотелось, чтобы поэт не оказался разочарован.
Сама судьба благоволила ему, ведь моей заслуги в том, что он поедет в Бурсу вместе с возлюбленным, почти не было. Всё вышло случайно. Рассказывая султану о своей встрече с поэтом, я не плёл сеть интриги, как в случае с поэмой о помиловании. "Отличную мысль" султану по сути подал не я, а некая высшая сила. Это невольно заставляло верить в чудеса, и мне хотелось, чтобы произошло чудо. Пусть и не со мной.
Хотелось, чтобы паж, сам не ожидая от себя такого, вдруг начал думать, что жить в Бурсе не так уж плохо. А когда я представлял себе, как юноша, не имеющий особых склонностей, вдруг проявит их, эта мысль доставляла мне удовольствие. И уже не верилось, что испытание, которому подвергнется паж, можно назвать жестоким.
Но затем на смену приятному чувству приходило другое. Возникало ощущение, будто от крупного проигрыша. Почему?
Хотелось оглянуться назад, в сторону Истамбула, который уже давно скрылся за горизонтом, и закричать: "Как же я ненавижу Истамбул! Ненавижу! Ненавижу!" Я не чувствовал сожаления оттого, что покинул этот город, хотя моё пребывание там в общем-то было приятным.
"Что не даёт мне покоя? – спрашивал я себя. – Разочарование в любви?" Но оно казалось не таким уж и сильным, ведь копии стихов Ахмеда-паши, купленные мной недавно, я не сжёг, а бережно уложил в один из дорожных тюков, потому что по приезде в Букурешть собирался перечитывать.
Временами я вспоминал, как таскал за шиворот юного слугу в таверне, но это воспоминание не смущало меня, как в начале. "Раду, ты по-прежнему выглядишь достойно для всех, – успокаивал я себя. – Даже если Ахмед-паша это видел, он не понял истинной причины. Мало ли достойных людей устраивают взбучку слугам! А сам этот слуга пусть думает, что угодно. Мне нет дела до его мнения".
И всё же хотелось сжимать кулаки, скрежетать зубами от досады. Хотелось кричать: "Почему вы уверены, что я не достоин восхищения!? Почему вы безразличны ко мне? Как смеете быть безразличными после всего, что я пережил!? Пережил из-за вас. Я достоин получить что-нибудь взамен! Нет, не что-нибудь. Я достоин многого! Почему вы не хотите это признать!?"








