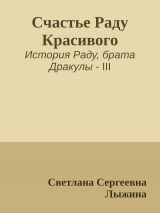
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Разумеется, ничего этого я жене не сказал. Лишь проворчал:
– Больше не буди меня по пустякам.
– Хорошо, – прошептала она и, поцеловав в угол рта, добавила: – Люблю тебя.
* * *
Были времена, когда я, присутствуя на службах в дворцовом храме или совершая поездки по румынским монастырям, стремился приблизиться к Богу. Я верил, что Он поможет мне "излечиться", но время шло, а исцеление так и не наступило. А затем я обнаружил, что совершаю поездки по монастырям вовсе не ради спасения души, а потому что мне хочется говорить с монахами.
Монахи – доверчивые люди. Они полагают, что главная опасность для них исходит от женщин, и разговаривают с ними неохотно, но если к монахам в гости приезжает мужчина, то братия не видит опасности для себя. Вот почему я приобрёл привычку, приезжая в монастырь, незаметно выходить из отведённых мне покоев и бродить по окрестностям монастыря.
Согласно монастырским правилам тот, кто не принадлежит к братии, не может ходить по обители один – его следует сопровождать, – но я как раз стремился избавиться от всяческих провожатых.
Торопливо спустившись по ступенькам крыльца и почти бегом достигнув надвратной башни, я выходил за пределы монастырских стен и бродил по примыкавшим к обители угодьям: садам, пасекам, лугам. Там я высматривал себе среди трудившихся монахов собеседника, у которого было бы молодое и приятное лицо. Я подходил к этому человеку, приветливо улыбаясь, и заводил разговор о том, как этому "брату" живётся в обители.
Мои бояре, если я случайно улыбался им так любезно, недоумевали. Их как будто настораживало то, что я немного похож на женщину. И даже моё решение отрастить небольшие усы не помогало мне полностью избавиться от сходства, ведь я красиво и тщательно одевался, а от моих волос, спускавшихся на плечи, исходил лёгкий аромат снадобья, которым были смазаны локоны, чтобы не теряли блеск. Да-да! Бояр всё это настораживало, а вот монахи не замечали моего сходства с женщиной – наверное, думали, что так одеваются все столичные щёголи. В обителях верили моей приветливой улыбке и потому на вопросы отвечали честно и охотно.
Случалось, заходила речь об искушениях, но не таких, которые часто одолевали меня, а о других, обычных, которые испытывает чуть ли не каждый человек. Монах со смущённой улыбкой признавался, что он тоже человек, поэтому такие искушения есть и у него. И я в ответ тоже признавался в некоем мелком прегрешении, а затем мы с моим собеседником обменивались советами, как эти искушения побороть.
С женщиной эти монахи никогда не стали бы беседовать так, как со мной. Я видел, что легко располагаю чернецов к себе, проникаю им в сердце, и от этого мне становилось легче смириться с тем, что непринуждённая беседа не должна заходить слишком далеко. Я мог лишь похлопать монаха по плечу, сказать "благодарю, брат, что научил" и не более.
* * *
Разумеется, я понимал, что со мной приветливы ещё и потому, что каждый монастырь, посещаемый мной, получал от меня щедрые подарки. Поэтому у меня поначалу не вызвал подозрения один молодой послушник, который проявил особенное внимание ко мне.
Это случилось, когда я по осени в очередной раз посетил обитель, находившуюся на севере, близ гор, отделявших мои владения от Трансильвании. В тот же вечер, как я приехал, на пороге моих покоев появился русоволосый юноша в чёрном подряснике, а в руках у юноши было блюдо белого винограда.
Помнится, в мой прошлый приезд в ту обитель я уже ел такой виноград, и мне чрезвычайно понравился вкус, а в этот раз я отчего-то забыл о том лакомстве, но мне стало приятно, что монахи не забыли.
– Это прислал настоятель? – предположил я.
Юноша ничего не ответил: лишь поклонился, а затем как-то чересчур поспешно, чуть не запнувшись о лежащий на полу ковёр, прошёл в комнату и поставил блюдо на край стола, возле кресла, в котором я сидел.
Я потянулся к ягодам и потому не сразу обратил внимание, что посетитель не ушёл, а стоит передо мной и в волнении чего-то ждёт.
Поймав мой вопросительный взгляд, юноша опустил глаза и проговорил:
– Государь, позволь обратиться к тебе с просьбой.
– Хорошо. Я слушаю.
– Государь, возьми меня к себе на службу.
– На службу? Куда? Ты хочешь состоять при дворцовом храме? – удивился я.
– Возьми меня к себе в канцелярию писарем.
– Писарем? – я задумался и припомнил тех, кто служил в дворцовой канцелярии. Тоже из монашествующих. Но почти все они были людьми солидного возраста, так что новый молодой писарь и впрямь не помешал бы, а то в один прекрасный день могло оказаться, что в канцелярии остались одни старцы.
Я внимательно посмотрел на собеседника:
– Значит, ты грамотен?
– Знаю славянскую грамоту, – последовал ответ. – В обители я помогаю переписывать книги. Меня хвалили за почерк.
– А латынь? Греческий?
Волнение моего собеседника сменилось беспокойством, и он помотал головой, а затем еле слышно вздохнул. Его подбородок с острой полупрозрачной бородкой опускался всё ниже и ниже.
Наверное, юноша уже успел решить, что писарь, знающий только один язык, мне не нужен. Да я и сам успел подумать так, но мне вдруг стало жалко этого просителя: он почему-то очень хотел устроиться ко мне на службу и явно огорчился бы, если б не получилось.
Выглядел мой собеседник лет на двадцать, но простоватый взгляд больших серых глаз заставлял думать, что, возможно, этот юноша чуть младше. Его черты никто не назвал бы правильными, но они были тонки, а само лицо оказалось на редкость подвижным. Малейшее изменение мыслей и чувств отражалось на нём, и это мне понравилось: "Он совсем не умеет лгать".
Рост у юноши был довольно высоким, чуть ниже моего, а фигура – худощавой. Для будущего монаха – очень удачное сочетание, ведь против упитанных монахов всегда существует предубеждение, так что мой собеседник мог бы одним своим видом добиться уважения окружающих, если бы двигался неспешно и спокойно. Однако этот молодой послушник вёл себя с точностью до наоборот. Держать себя он не умел. И выглядел нескладным. Чуть раньше, когда юноша нагнулся, чтобы поставить на стол блюдо, то будто сломался пополам, а теперь, когда стоял, склонив голову, мне казалось, что эта голова вот-вот сама собой свалится с плеч, будто монашеская шапка, и упадёт ему под ноги.
– Ну, ладно, – наконец произнёс я. – Посмотрю, что ты умеешь. Если ты пишешь быстро, и почерк у тебя действительно хорош, то в канцелярии такой человек пригодится... Есть у нас тут бумага и письменный прибор? – этот вопрос был обращён к слугам, которые, как только начался мой разговор с просителем, вышли в соседнюю комнату, но дверь не закрывали.
Через минуту всё требуемое было принесено, а я указал юноше на второе кресло, стоявшее возле стола:
– Садись, очини перо, а затем запишешь то, что я продиктую.
Послушник чуть ли не бросился к этому креслу, а когда он взял ножик для очинки перьев, я вдруг стал опасаться, что бедняга порежется, но, к счастью, обошлось, и я начал диктовать. Надиктовал по-славянски начало дарственной грамоты этому самому монастырю (весьма витиеватую фразу, которая полагалась в подобных случаях), а когда дошло до перечисления того, что же будет подарено, велел:
– Покажи, что получилось.
Юноша вскочил, встал напротив меня и с поклоном протянул частично исписанный лист. Я увидел ровные строчки и чёткие буквы, написанные твёрдым почерком, но рука, подавшая бумагу, чуть дрожала.
Я взял лист, вчитался, отметив, что написано без ошибок, и сказал сам себе: "Не будь слишком строг. Ведь юноша старается. Ну и что, что он кроме славянской грамоты ничего не знает".
– Хорошо, я готов принять тебя в канцелярию писарем.
Послушник тут же весь расцвёл от радости:
– Благодарю, господин.
– А настоятель отпустит тебя из обители? – спросил я.
Юноша сразу поник:
– Н... не знаю.
Мне пришлось его успокоить:
– Хорошо, сам поговорю с ним об этом. И возьму тебя с собой, когда буду уезжать. А пока иди.
Тот поспешно вышел, но снова был радостен, и мне это показалось занятным: "Почему будущий монашек так хочет ко мне на службу?" Однако уже на следующее утро я забыл об этом происшествии и о своём новом писаре, а вспомнил лишь тогда, когда настала пора уезжать. Он явился ко мне в покои вечером накануне моего отъезда, и я понял, что мой новый писарь хотел бы спросить, беседовал ли я с настоятелем.
– Ах, да! Я не спросил на счёт тебя, – устало проговорил я, потому что мне хотелось спать, но у юноши вдруг сделалось такое лицо, как будто он услышал, что приговорён к казни.
Я примирительно улыбнулся:
– Хорошо, что ты мне напомнил. Поговорю с ним сейчас. Как раз подходящее время, ведь настоятель уже завершил все дела на сегодня, но спать ещё, наверное, не лёг. Отведи меня к нему.
Конечно, моя просьба отпустить кое-кого из братии со мной в Букурешть не вызвала у настоятеля никаких возражений. Ведь речь шла не о том, чтобы юноша порвал все связи с обителью, получив обратно тот денежный вклад, который вносил, когда поступал сюда. К тому же я обещал:
– При моём дворе за ним присмотрят. Настоятель моего дворцового храма – очень достойный человек.
– Что ж. Пусть едет, – согласился настоятель монастыря, но мой новый писарь даже услышав, что теперь точно уедет со мной, больше не радовался открыто. Наверное, опасался, что что-нибудь может опять помешать.
Лишь тогда, когда мы были уже в дороге, и он сидел в телеге, которая везла мои вещи, я, время от времени оглядываясь на него из седла, стал замечать странный взгляд в мою сторону. В глазах этого юноши было какое-то безумное, ошалелое счастье, и я не знал, чем такое объяснить, а юноша, видя моё недоумение, смущался и начинал смотреть в землю.
Конечно, я уже тогда мог легко обо всём догадаться, но не хотел признаваться сам себе, что знаю ответ. Если бы я признался себе, то пришлось бы думать, что со всем этим делать. А я не хотел ничего делать и предпочитал оставить всё, как есть. Пусть бы чувства юноши оставались скрытыми, желания – невысказанными, а я просто радовался бы, что он восхищённо на меня смотрит. Мне нравилось его восхищение, но я не хотел большего.
* * *
Я так увлёкся воспоминаниями, что очнулся лишь тогда, когда лодка, везшая меня через Дунай, ткнулась носом в песчаный берег. Меж тем рыбацкий сын, который сидел на вёслах, проворно вскочил и спрыгнул прямо в волны прибоя, слабые и ленивые.
Мальчик был бос, поэтому не боялся промочить ноги, а я, взглянув на свои высокие сапоги, подумал, что тоже могу последовать его примеру, но услышал:
– Погоди, государь. Я вытащу лодку, и ты сможешь сойти прямо на песок.
Этот мальчик так старался мне услужить! А ведь плата за перевоз ему не полагалась. Государя положено перевозить бесплатно, и мой юный перевозчик это знал, но всё равно старался так, как будто ожидал щедрую награду.
Очевидно, своей наградой он считал возможность ещё долго рассказывать своим приятелям-сверстникам, как оказал услугу государю, и тем самым заслужить среди них большее уважение. А может, и среди всех местных рыбаков.
Конечно, всё объяснялось именно так, но мне хотелось, чтобы существовала и другая причина, и чтобы восторженность сменилась влюблённостью, если провести вместе достаточно много времени. Я вдруг подумал, что мог бы взять этого мальчика с собой в Турцию. Мог бы сказать ему, что в Турции мне нужен ещё один слуга: "Хочешь мне помочь? А твоих родителей я уговорю".
Мальчик, конечно, засомневался бы, не желая покидать отца и мать, да и другую родню. Но я сказал бы, что мы едем ненадолго, и что новому слуге полагается красивый кафтан и почти такие же сапоги, как у меня. Кафтан и сапоги – это явно лучше, чем старая овечья безрукавка, для тепла накинутая поверх рубахи, и босые ноги.
"Ну, конечно, согласится, – подумалось мне. – Я же видел, как он с восхищением разглядывал мой наряд, когда я только появился возле реки".
Я мог бы пообещать, что если этот мальчик хорошо себя проявит в Турции и точно исполнит все мои повеления, то по возвращении в Румынию останется моим слугой в букурештских палатах. Я бы сказал: "От Букурешть до Дуная не очень далеко. Ты сможешь часто навещать родителей. А поскольку дворцовые слуги получают хорошее жалование, твои отец и мать окажутся только рады, что ты состоишь при государе. Ты сможешь помочь своей семье".
Конечно, он согласился бы! И, конечно, раньше времени не узнал бы, что за услуги от него требуются. В Турции мне оказалось бы гораздо легче заставить мальчика повиноваться. Он был бы оторван от родины и я мог бы пригрозить, что оставлю его в Турции навсегда, если он не сделает то, что я хочу. И он бы сделал. И никто не помешал бы мне в исполнении моего замысла. Слуги во дворце султана, даже если бы догадались, что происходит в гостевых покоях, отнеслись бы ко всему с пониманием. И даже Мехмед лишь снисходительно улыбнулся бы, если б узнал: "Ты пошёл по моим стопам, мой мальчик".
По возвращении в Румынию я бы, конечно, никуда не отпустил своего нового слугу. Он бы и дальше служил мне и никому не смог бы рассказать о своей особой службе. Я сумел бы объяснить ему доходчиво, что лучше помалкивать, потому что иначе его ждёт позор, от которого он до конца дней не отмоется. Да и родители, получая жалование сына, запретили бы своему отпрыску оставлять службу без важной причины, а эту причину он постыдился бы назвать.
"Как же просто это всё делается! Как просто!" – подумал я.
У меня вдруг перехватило дыхание и закружилась голова. Так бывает, когда стоишь на обрыве, и нет перил, которые помешали бы твоему случайному падению.
Перила или ограда – это хорошо, потому что защищают тебя. Когда они есть, ты краем глаза посматриваешь на пропасть, и она тебя не пугает, ведь для того, чтобы оказаться в ней, нужно приложить усилие. А когда тебя ничто от неё не отделяет, и достаточно лишь одного шага, то пропасть будто говорит с тобой: "Иди ко мне. Иди..."
И вот я обнаружил себя над пропастью. И не было ограды. Ведь мне, государю, оказалось бы очень легко забрать сына у незнатных родителей, и они бы не спорили. Но если бы я сорвался один раз, то уже не вернулся бы на путь воздержания. И мне стало бы тошно от самого себя, и счастье обладания смогло бы перебить эту тошноту лишь в первый месяц-два. А дальше? Дальше – как в Священном Писании: "Горько будет тому, кто соблазнит одного из малых сих".
Конечно, в Писании имелось в виду не соблазнение тела, а соблазнение души, но разве не меняется душа мальчика, которого заставляют грешить? А даже если не заставляют, а только уговаривают и в итоге получают согласие, то это согласие мнимое, потому что получено путём обмана.
Чтобы мальчик согласился, мне пришлось бы сказать, что дальше будет счастье. А ведь это неправда, и я бы не смог сделать это правдой, как бы ни старался. Рано или поздно мальчик почувствовал бы – им воспользовались, сделали изгоем среди родных ему людей и не только среди них, потому что он не мог бы рассказать им о своей тайной жизни. Он чувствовал бы себя одиноким и в кругу семьи, и в моём дворце, и на людной улице, и в храме. Он бы понял, что несчастен, и что я обманул его, обещая счастье. Вместо счастья мальчик чувствовал бы, что как будто проклят, и что должен передать своё проклятие кому-то ещё.
Думая об этом, я не сразу расслышал приглашение:
– Государь, теперь тебе удобно будет сойти.
Пока я бродил над воображаемой пропастью, рыбацкий сын взялся за верёвку, привязанную к железному кольцу на носу лодки, и, проявив силу, которой я от него не ожидал, продвинул лодку к берегу на несколько шагов:
– Государь...
Я поднялся со скамьи и спрыгнул на берег, а мальчик, который по-прежнему старался мне услужить, уже передавал мои вещи слугам, тоже успевшим доехать до берега на других лодках. Из рук в руки перешли несколько сёдел, два мешка, и вот судёнышко опустело, а на берегу меж тем сделалось тесно, потому что теперь тут оказались и лошади, которые с топотом и фырканьем выбрались из воды.
Я жестом велел рыбацкому сыну подойти ко мне поближе. Если я хотел забрать мальчика с собой в Турцию, то разговор об этом следовало начинать сейчас... Но я так ничего и не сказал. Вместо этого запустил пальцы в кошелёк, висевший у меня на поясе, вынул серебряную монету и уронил её в ладонь юного перевозчика:
– Это тебе награда за труды.
– Доброй дороги, государь, – с поклоном ответил тот, сжал монету в кулаке, а кулак прижал ближе к сердцу.
Мгновение спустя я увидел радостную белозубую улыбку, ведь обладание монетой давало лишний повод для гордости и хвастовства – не только перевозил государя, но и получил от него награду!
Теперь мне оставалось лишь наблюдать, как мальчик почтительно пятится от меня. Вот он толкает пустую лодку обратно к воде, перелезает через борт, освобождает себе руку, теперь зажав монету губами, и берёт весло, чтобы окончательно оттолкнуться от берега.
Даже держа монету губами, он продолжал улыбаться, поэтому мне подумалось: "Ну, вот. Я сделал этого мальчика счастливым... А мог бы сделать несчастным".
* * *
Христианские богословы говорят, что для человека его тело – враг, который мешает спасти душу. Мне часто приходит это на ум, когда я думаю о своём положении, ведь уже много лет живу со своим телом в разладе.
Когда я был мальчиком султана Мехмеда, то считал своё тело слугой, но не очень верным, и потому, замышляя нечто важное, всегда думал, как быть, если в особенно важный момент этот "слуга" откажется повиноваться.
Были времена, когда я ублажал султана, пусть и не испытывая к нему любви, и тогда боялся, что моё тело выдаст меня – точнее, одна из частей тела, которая, как думают некоторые глупцы, никогда не лжёт и всегда покажет, кто ей приятен на самом деле. Нет, эта часть тела говорит правду далеко не всегда.
А ещё были времена, когда я замышлял убить Мехмеда, и тогда сомневался, не дрогнет ли рука, не откажется ли нанести удар кинжалом. Разумеется, я не преуспел с таким ненадёжным сообщником. Но затем моя жизнь изменилась, я переселился в Румынию, перестал ненавидеть султана и тогда решил помириться со своим телом тоже.
Как известно, если хочешь примириться с кем-то, не следует делать то, что ему не нравится. Вот и я решил не делать многих вещей, неприятных для тела. Прежде всего, перестал удалять волосы, которые растут на руках, ногах и груди, потому что моё тело считало такую процедуру болезненной и ненужной. "Лишних" волос всегда было не слишком много, но я, живя при турецком дворе, регулярно избавлялся от этой растительности, чтобы казаться моложе. Выглядеть моложе я считал важным, но в Румынии это стало не важно, так что моё тело вздохнуло с облегчением, а затем попросило: "Тогда уж разреши мне есть вдоволь".
В прежние времена перед встречами с Мехмедом, о которых меня почти всегда предупреждали заранее, я отказывался от пищи в течение десяти-двенадцати часов, чтобы моя прямая кишка успела очиститься. Ох, как же ненавидело моё тело эти постные часы! Особенно если встреча с султаном ожидалась не вечером, а на следующий день и приходилось ложиться спать на голодный желудок.
Помнится, в такие голодные ночи тело твердило: "Хочу есть, а не спать", – а я отвечал: "Если так уж хочешь, давай поедим, но тогда утром придётся делать клизму". Тело кривило губы от отвращения и отчаянно пыталось заснуть, а в Румынии я сказал: "Всё в прошлом. Ты больше не станешь так мучиться, если не считать одного месяца в году, когда надо ехать ко двору Мехмеда и отвозить дань".
Разумеется, в Румынии всё равно следовало поститься, когда это предписано церковью, но даже в самые строгие дни можно придумать, чем себя побаловать, и уж тем более незачем вставать из-за стола, пока не насытишься. Бывало, я говорил телу: "Хватит", – а оно отвечало: "Съем ещё немного. Мы всё равно завтра с утра едем на охоту, так что пузо не успеет отрасти".
Неудивительно, что за годы сытой жизни я сделался совсем не таким тонким, как был. Хоть меня и не назвали бы упитанным, я видел, что синий кафтан, который был подарен мне султаном перед самым походом в Румынию, мне уже не носить никогда.
Эта одежда была нарочно скроена так, чтобы плотно прилегать к телу, подчёркивать тонкость талии, и вот я обнаружил, что он уже на мне не сходится. В груди – ещё кое-как, а в талии – совсем нет: края не стянуть, даже если глубоко вдохнёшь. И так же обстояло дело с остальной моей одеждой, если она имела тот же крой.
"Ну, и ладно! – сказало моё тело. – Вели сшить себе что-то попросторнее. Подумаешь, больше нет девичьей талии! Теперь у тебя такая фигура, которая должна быть у мужчины, и тебя всё равно называют красивым. А жена даже рада, что сумела тебя хоть немного откормить".
Я предпочёл согласиться, потому что полагал, что теперь, когда я обращаюсь со своим телом хорошо, оно станет служить мне верно. Но нет. Оно требовало всё больше и больше уступок: спать подольше и воинские упражнения забросить. А ведь я когда-то сам мысленно упрекал Мехмеда за то, что он забросил такие упражнения, и что у него появилось брюшко.
Вот почему воинские упражнения я до конца не забросил. Пусть раз в неделю, но всё же выходил ради них на лужайку близ реки, протекавшей рядом с дворцом и отделённой от него белёной оборонительной стеной.
Там не появлялось случайных людей, которые докучали бы своим вниманием. Лишь дворцовые прачки порой полоскали бельё неподалёку, да паслись гуси. Так что именно туда я выходил с мечом, чтобы проверить, смогу ли теперь свободно делать то, что у меня почти никогда не получалось. Хотелось ударить этим мечом со всей силы, не думая, что противник не отразит удара и таким образом получит от меня рану.
Моим противником в учебных схватках стал опытный воин. В его бороде, чёрной как уголь, виднелись белые нити, и потому первое время он на правах старшего наставника говорил:
– Что же ты, государь? Зачем умеряешь боевой пыл?
Наконец я ответил на его вопросы:
– Не могу. Я помню всех, кого убил на войне, и они как будто удерживают меня за руку, – но это была лишь часть правды. Ведь я отлично помнил то, что происходило со мной в Турции. Помнил, как в тринадцать лет, обучаясь воинскому делу вместе с сыновьями турецких чиновников в придворной школе, впервые обнаружил, что "руки не слушаются", и что я не могу ударить сильно, даже когда приходится драться на деревянных саблях.
Мои малолетние сыновья, сидя в сторонке и глядя на мои упражнения, тоже не понимали, что со мной, поэтому кричали:
– Отец, давай, бей его!
Я оглядывался на них и улыбался. Мне нравилось, что мои сыновья в этом не похожи на меня: они были смелые. Только-только начав обучаться воинскому делу, умело дрались, быстро сообразив, что можно победить наставника, если действовать решительно и слаженно, нападая одновременно с двух сторон. Конечно же, наставник, всё тот же чернобородый воин, поддавался, но уверял меня, что даже если бы не поддавался, ему всё равно пришлось бы трудно.
Я почти завидовал своим детям, которые были так смелы именно потому, что не имели моего опыта – печального опыта, – а мой опыт довлел надо мной. Я мысленно просил своё тело: "Оставь старые привычки. Да, я помню, что запретил тебе отбиваться и защищаться, когда султан принудил меня к соитию. Я запретил тебе протестовать. А ты мстишь мне за моё малодушие? Но пора уже и простить. Послужи же мне! Не отказывайся от боя. Я ведь не заставляю тебя подчиняться и уступать всем и каждому".
Но тело как будто не слышало. А затем стало требовать то, из-за чего я поначалу пришёл в ужас: никогда не думал, что могу пожелать подобного. "Мальчика, – сказало тело. – Не юношу, не мужчину, а мальчика. Безусого. С открытым восторженным взглядом. Ты откроешь этому мальчику свою истинную суть. И это принесёт тебе радость и особенное удовольствие, которое ни с чем не сравнить. Разве не прекрасно?"
Временами мне казалось, что я сошёл с ума, потому что не понимал, как подобное желание может ужиться во мне вместе со страхом за сыновей – страхом, что кто-то в будущем развратит их. Как же можно желать развратить чужих детей и в то же время искренне стремиться избавить собственных детей от подобной участи? Как? Это казалось немыслимо, но во мне уживались две противоположности.
Я дал себе слово, что никогда не стану никого принуждать к тому, что заставлял меня делать Мехмед. Я намеревался сдержать это слово в любом случае, но желания моего тела всё равно заставляли меня с беспокойством смотреть в будущее и ненавидеть самого себя.
Раньше, когда я ещё не жил в Румынии, а оставался при дворе султана, у меня порой возникала мысль: "Что если мне случайно повстречается мальчик с особыми склонностями, который будет считать естественным соитие между людьми одного пола..." Помнится, я решил, что приближу такого мальчика к себе, чтобы ему под моей защитой легче жилось на свете. Но я собирался приблизить, а не сблизиться, потому что слишком хорошо понимал, что люди, даже имеющие одинаковые склонности, вовсе не обязательно могут понравиться друг другу настолько, чтобы делить ложе.
А теперь моё тело стало твердить про сближение: "Вот этот смотрит на тебя с любовью. И этот", – говорило оно. "Это не та любовь", – отвечал я, но тело возражало: "Как ты можешь с уверенностью судить? А вдруг... Почему бы тебе не проверить, сделав один маленький шаг в ту сторону, куда ты так страшишься идти?"
"А если меня охватит слепая страсть? – в свою очередь возражал я. – Что если я не увижу, насколько ошибся, а когда увижу, будет слишком поздно? Нет, цена слишком велика. Я знаю это на собственном примере. Когда мне было тринадцать лет, я ничего не хотел, но Мехмед как будто не замечал этого".
Поначалу тело соглашалось с моими доводами, но с каждым годом становилось всё более настойчивым: "И сколько ты ещё собираешься ждать? Жизнь проходит. Ты стареешь. А старик никому не сможет понравиться. Воспользуйся хоть одним из тех случаев, которые тебе предоставляются".
"Нет, – отвечал я. – Не хочу уподобляться Мехмеду. Лучше мне умереть, чем стать таким, как он". А тело принималось грозиться: "Ты не умрёшь. Ты продолжишь стариться. А когда твоя голова побелеет, тогда я замучаю тебя так, что ты лишишься рассудка. И тебе не спастись. Хоть круглый год живи в монастырях, но я и в монастырях от тебя не отстану. Ты же знаешь, какие там порядки. Там любой настоятель будет заискивать перед тобой, давая понять, что тебе всё простится. И он отпустит тебе все грехи, что бы ты ни натворил, и сохранит их в тайне. Значит, при его попустительстве ты рано или поздно сделаешь то, что я хочу, и не спросишь согласия у того, кто тебе попадётся... некий мальчик, которого только-только приняли в обитель. Этот мальчик уж точно будет не рад. Кто же добровольно покорится старику! Кто же полюбит старое тело! А ты будешь знать это и вот потому-то не станешь спрашивать согласия. Но после тебе будет стыдно. И тогда ты пожалеешь, что не сделал этого раньше, пока был ещё молод. Пожалеешь, что отказался от тех, кто действительно мог бы уступить тебе добровольно".
"Нет, лучше мне умереть", – твердил я, и в такие минуты чувствовал, как в глазах начинает предательски щипать от подступающих слёз. Хотелось плакать от бессилия и от страха перед тем, что казалось почти неизбежным. Я ни за что хотел уподобляться Мехмеду и из человека превратиться в чудовище, которому безразличны чувства его жертв. Но меня влекло на этот путь. Влекло всё настойчивее.
То, что когда-то сделал со мной султан, определённо несло на себе тёмную печать проклятия. Но почему я почти не мог противиться этому? Почему стал тем, кем стал? Проклятие было так сильно? Или я оказался так слаб?
* * *
Сделавшись государем, я надеялся, что мне никогда не придётся воевать – воевать по-настоящему. То есть не просто грабить кого-то или захватывать что-то почти без сопротивления, а сталкиваться с упорным противником, который не сдаётся так просто. Это значило бы, что моя воля столкнётся с его волей, а это не для таких как я. Как может воевать человек слабый? Как может он противостоять кому-то в битве, если однажды был сломлен, а его тело и душа подчинились чужой воле?
Мне было страшно даже подумать о противостоянии, и потому я надеялся, что смогу всякую войну предотвратить средствами дипломатии, но, увы, мои надежды оказались несбыточными. Мне бросили вызов, а бросили, вероятно, потому, что не видели во мне серьёзного противника и были уверены в собственных силах.
Я отлично помню, как на восьмой год своего правления, в начале марта получил весть о том, что молдаване сожгли Брэилу – мой торговый город на Дунае. Через этот город шла почти вся торговля с Турцией, и не только для румынских купцов, но и купцов из Трансильвании. И вот все склады с товарами оказались разграблены, а это означало огромные убытки и купцам, и моей казне.
Когда я приехал в Брэилу, чтобы увидеть всё воочию, то за моим конём, пока я осматривал город, ходила целая толпа разгневанных людей:
– Почему ты не можешь нас защитить!? – кричали они, а я смотрел мимо, потому что уже сказал, что завтра приму депутации жалобщиков. Повторять это не имело смысла, поэтому я притворялся глухим и смотрел то на правую, то на левую сторону улицы, где чуть не каждый второй дом нёс на себе следы пожара, а во многих местах появились страшные чёрные пустыри.
Я слышал вокруг и румынскую брань, и немецкую, и венгерскую. Порывы сырого весеннего ветра то и дело приносили запах гари, напоминая о недавнем разграблении, но я успокаивал себя: "Сгоревшие жилища и склады ты восстановишь. Своих купцов успокоишь, обещав снижение пошлин, а трансильванские купцы и так торгуют беспошлинно, но ты обещаешь им возместить убытки, подтверждённые бумагами. Главное, что молдаване ушли, и тебе не придётся с ними воевать".
Молдаванами, как мне сказали, предводительствовал князь Штефан. Когда-то он был другом моего брата Влада, но теперь мой брат сидел в венгерской тюрьме, а подружиться со мной Штефан даже не пытался и сразу решил поступать как с врагом.
Наверное, Штефан винил меня в том, что я отобрал у своего старшего брата трон и что частично способствовал заточению Влада в темницу. Виноватого следовало наказать, но наказание получилось уж очень жестоким.








