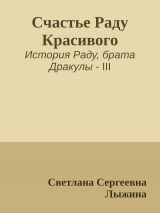
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Человеку, известному при дворе своим умением вести беседу, трудно говорить?!
Я снова посмотрел на юношу, который, не понимая, что за ним пытаются ухаживать, вытерся тыльной стороной свободной руки. Красавец почтительно кивнул в знак признательности, и вот тут я заметил, что из-за отсутствия кудрей у этого юноши ничто не мешало видеть изящную шею и мягко очерченные скулы. Его голова в тюрбане напоминала бутон на стебле, особенно во время кивка, и мне вспомнилась ещё одна строчка из недавно прочитанного стихотворения Ахмеда-паши:
Я о тебе скажу: «Цветок – моя любовь!»
Меж тем султан, только что разговаривавший с Махмудом-пашой, недавно восстановленным в должности великого визира, вдруг повернул голову и, как ястреб, посмотрел на сокольничего:
– Что Ахмед-паша сказал тебе? – этот вопрос прозвучал как-то очень резко.
– Он сказал, что у меня грязь на щеке, – недоумённо пробормотал юноша, не понимая причину султанского гнева.
Ахмед-паша, чтобы не дать гневу султана разгореться, по своему обыкновению решил выдать удачную остроту и произнёс, цитируя Коран:
– Скажет язычник: "О, если бы я стал грязью!"
В данном случае это была отсылка к весьма популярному стихотворному приёму, когда поэт, говоря о любви, признавался, что хочет быть пылью под ногами возлюбленного. А уж грязью на нежной щеке красавца истинный поэт ни за что не отказался бы стать.
Цитата из Корана, обращённая в похвалу красоте пажа, призвана была развеселить султана. Ахмед-паша не отрицал, что ухаживает, но шутливые ухаживания за пажами считались при дворе в порядке вещей, и всё же Мехмед лишь для вида улыбнулся, продолжая смотреть так пристально, что Ахмед-паша вынужден был отъехать от сокольничего подальше, а затем и вовсе скрыться из виду.
Султан, подозвав меня, спросил:
– Ты заметил, как Ахмед смотрел на него?
– Да, повелитель, – ответил я, – но в этом нет ничего удивительного. Ахмед-паша – ценитель красоты, а юноша весьма красив. Поэту нужно вдохновляться.
– Мне показалось, он смотрел не только как поэт. Он смотрел как человек, которого мучает желание, – сказал Мехмед. – Как у Ахмеда хватает бесстыдства вести себя так в моём присутствии! Шутливые ухаживания – это я могу понять. Но так пожирать взглядом смазливого мальчишку! А завтра начнёт ловить этого мальчишку в коридорах дворца? Я этого не потерплю.
Очевидно, Мехмед укрепился в мысли, что ему не показалось. Он ревновал лучшего поэта Турции к юному пажу, понимая, что Ахмеду-паше требуется гораздо больше, чем время от времени проводить ночи с "другом", будь этот друг хоть самим султаном.
Правда, Ахмед-паша до сих пор успешно доказывал обратное. Когда он получил должность визира, то благоразумно ступил на путь воздержания, чтобы показать, как сильно ценит особую благосклонность. Но вот прошло несколько лет и, судя по всему, воздержание стало для поэта тягостным. Ахмеда-пашу уже не радовала ни высокая должность, ни деньги, ни роскошный дом в столице. Цена, которую приходится платить, начала казаться слишком высокой, и тут подкралась любовь. Возможно, она начиналась как обычная влюблённость, которую испытывают поэты чуть ли не ко всем красивым лицам, но затем поэт не уследил за собой и влюбился по-настоящему.
Ничем иным я не мог объяснить безрассудство на охоте, ведь с пажом вовсе не обязательно было разговаривать в присутствии султана. Наверное, Ахмед-паша боялся, что исчезнет предлог для разговора – злосчастная полоска грязи на щеке. Возможно, это стал не первый разговор, но поэт очень дорожил каждой возможностью сказать возлюбленному хоть несколько слов – дорожил настолько, что забыл о ревнивом Мехмеде.
* * *
В начале минувшей весны, то есть за полгода до своей нынешней поездки в Турцию я сильно простудился. Не знаю, где и как. Если б знал, не простужался бы.
Началось всё почти внезапно. Накануне вечером я чувствовал себя очень утомлённым. Но разве это не обычно для человека в конце трудного дня? Я лёг спать, а когда проснулся утром, то оказалось, что у меня жар. А ещё через некоторое время так заложило нос, что я мог дышать только через рот, язык стал сохнуть, появился неприятный привкус во рту.
Дворцовый лекарь, придя ко мне, тут же настоял, чтобы я не просто оставался в своих покоях, а улёгся в постель и укрылся потеплее. Он велел моим слугам принести ещё одно одеяло и сказал:
– Надо вызвать потение, – а затем начал пичкать меня порошками, высыпая их на серебряную ложку.
Надо ли говорить, что жена очень встревожилась. Каждый час приходила справиться о моём здоровье, трогала мне лоб и мучила моего лекаря одними и теми же вопросами, ответы на которые не слушала. После этого она принесла горячий травяной отвар в глиняном стакане и заставила меня выпить, а через час снова пришла с тем же отваром и так без конца. Лишь иногда присылала вместо себя служанку, которая, стоя на пороге комнаты со стаканом в руках, кланялась и говорила:
– Госпожа просит прощения, что не может сейчас прийти.
Порошки, как мне кажется, не помогали совсем. Отвар помогал на полчаса, а затем всё становилось по-прежнему. Рубашка на мне намокла от пота так, что ещё немного, и понадобилось бы выжимать. Временами я проваливался в сон, но вскоре просыпался, а сознание оставалось ясным и потому уже на следующий день мне сделалось безумно скучно – болезнь не позволяла чем-либо заниматься, а ум требовал дела. Следовало лежать и смотреть в потолок или по сторонам. Даже в окно не было возможности смотреть!
Вот почему я начал мучить всех, кто ко мне приходил, вопросами. Спрашивал жену, о чём она сейчас хлопочет по хозяйству. Спрашивал свою дочь и сыновей, которые ближе к полудню тоже приходили меня навестить, что они сейчас изучают из книжной премудрости. Жена отвечала немного растерянно, потому что не знала, как объяснить мужчине особенности женских хлопот, а дочь и сыновья хмурились, потому что им не нравилось, когда отец спрашивает о школе и учении. Это было всё равно, что ещё раз отвечать урок.
Неудивительно, что через несколько дней жена и дети совсем перестали приходить – устали со мной разговаривать. Устанешь тут, когда приходится долго говорить, а твой собеседник почти всё время молчит. Пусть и по уважительной причине.
Тогда я попробовал заниматься делами. Велел позвать Милко, чтобы надиктовать письмо, которое собирался составить ещё до болезни. Однако к тому времени мне стало совсем трудно говорить. Нос прочистился, но зато появился мучительный кашель, который позволял произнести не более пяти слов подряд.
Писарь смотрел на меня с искренним состраданием. Поначалу он, устроившись на ковре возле моей кровати и используя один из табуретов как замену стола, терпеливо ловил каждое моё хриплое слово. Но дальше было только хуже. Мне уже не удавалось произнести подряд более четырёх слов, трёх, двух... В очередной раз закашлявшись, я мысленно проклинал свою простуду, как вдруг Милко очень мягко и вкрадчиво спросил:
– Господин, ты хотел сказать?.. – и произнёс почти в точности то, что вертелось у меня на языке.
Я молча кивнул, а когда перо перестало скрести по бумаге, всё стало ещё проще. Я произнёс всего одно слово, которое мой писарь тут же подхватил и тем же мягким вкрадчивым голосом досказал вместо меня остальное, в конце осведомившись:
– Так, господин?
Я опять кивнул и одобрительно улыбнулся, ведь мой писарь, по сути, составил письмо вместо меня, а я только кивал или мотал головой: так или не так. Иногда поправлял, но лишь одним словом, вокруг которого, как новые ветви из виноградной лозы, вырастали другие слова и витиеватые фразы.
Мне оставалось только радоваться такому повороту дела, но поскольку я почти не мог говорить, то в качестве одобрения потрепал Милко по плечу. Благо он сидел очень близко, и надо было лишь немного привстать, чтобы дотянуться.
Юный писарь повернулся ко мне и, тоже улыбнувшись, произнёс:
– Господин, теперь мне понятно, для чего нужно, чтобы я мог помогать придумывать письма. Человеческое тело бренно. Всякий подвержен хворям. Но это ничего. Я буду тебе помогать.
Последние две фразы он произнёс с такой нежностью, которую, наверное, увидишь только у матери, заботящейся о своём ребёнке, поэтому я вдруг подумал, что Милко повзрослел незаметно для меня. Раньше он смотрел мне в глаза с каким-то подобострастием, а теперь – так мать смотрит на любимое дитя, и всё же этот юноша знал своё место. Когда я сделал знак, что хочу остаться один, то не встретил возражений. Мой писарь молча собрал письменные принадлежности и ушёл.
* * *
Мне тогда и вправду хотелось остаться одному, поспать: составление письма утомило меня. Но когда я проснулся и обвёл взглядом комнату, то с некоторым сожалением убедился, что юного писаря рядом нет: лишь помощник лекаря и один из моих слуг-греков.
Помощник лекаря дал мне щепоть порошка на серебряной ложке. Слуга-грек через четверть часа напоил меня горячим отваром, и я снова заснул.
Так минуло ещё два дня. Мне хотелось, чтобы Милко пришёл и поговорил со мной тем ласковым голосом, которого я раньше не замечал, но самому звать этого юношу не хотелось. Если позвать, придётся опять диктовать письма, заниматься делами, а мне хотелось вести праздные разговоры. Когда жена, дочь и сыновья всё же заглянули меня проведать, я пытался болтать, но они, кратко ответив на мои вопросы, произнесённые хриплым голосом, почти сразу покинули комнату: "Нам надо идти". Я улыбнулся, пожал плечами, а затем заснул.
И вот однажды утром я проснулся, но не обнаружил возле себя в комнате никого. В окна светило яркое солнце: видно было, как в лучах света летают пылинки. И больше нигде ни одного движения.
Я даже удивился. Как так? Меня бросили? Но вдруг из угла, покрытого густой, почти непроглядной тенью, поднялась тёмная фигура и двинулась в мою сторону. Затем я увидел, как русые волосы поймали на себя солнечный луч и стали казаться почти золотыми. Это был Милко, как всегда облачённый в чёрное. И именно поэтому он остался незаметным в тёмном углу.
– Господин, тебе что-нибудь нужно? – мягким голосом спросил юноша. – Пить хочешь?
Я помотал головой, после чего спросил:
– Где все?
– На обедню пошли. Сегодня воскресенье.
– А ты?
– Я вызвался остаться и с тобой посидеть. Я слышал, как твои слуги-греки решали, кто из них останется, и сказал им, что могу, а они пусть идут. Они согласились.
– Как это "слышал моих слуг"? Они...
– Да, они говорили по-гречески, господин. Но я уже хорошо их понимаю, хоть и не знаю всех слов. И я сказал им, что с тобой останусь. Сказал тоже по-гречески.
Я улыбнулся, а Милко вдруг предложил:
– Господин, хочешь, я тебе почитаю? По-гречески.
Я кивнул, и он читал мне Златоуста. Уже не помню, что именно. А затем мне снова захотелось спать, поэтому писарь закрыл книгу, встал, положил её на стул, на котором только что сидел, и подошёл к моей кровати, чтобы помочь повыше натянуть одеяло.
Я снова улыбнулся, благодарной улыбкой, и почему-то спросил:
– Ты не уйдёшь сейчас?
Милко вдруг переменился в лице и заговорил уже не ласково, а сбивчиво, торопливо, как делал обычно:
– Господин, если б ты пожелал, я бы находился возле тебя во всякую минуту. Находился бы... чтобы служить. Я готов не только быть писарем, читать тебе, сидеть возле твоей постели. Я готов служить тебе и по-иному...
Я молча смотрел на него, и у меня вдруг появилось очень нехорошее предчувствие, будто кто-то шепнул на ухо: "Вот сейчас и поплатишься за то, что так долго наслаждался чужим восхищением, ничего не давая взамен".
– ...Я мог бы служить тебе для утех, – закончил Милко.
– Как? – я почему-то закашлялся, и приступ всё никак не проходил. Я уже не лежал, а сидел на постели, но это не помогало перестать кашлять, а в голове крутилась мысль: "Для утех? Безумие. Что ответить этому безумцу?"
Ладонь Милко заботливо легла мне на спину, осторожно погладила:
– Господин, позвать лекаря?
– Нет, – наконец произнёс я, откашлявшись.
– Господин, прости меня. Мне не следовало сейчас с тобой об этом говорить. Надо было позже.
– Не следовало говорить никогда, – я прямо посмотрел на своего писаря, но тот не опустил глаза и был искренне удивлён, хоть и убрал ладонь с моей спины:
– Но почему? Господин, ведь такой человек как я тебе нужен. И разве не для того ты велел мне выучить греческий язык, чтобы я мог приобщиться к твоей тайне?
– Тайне? – я всё ещё надеялся, что мне удастся изобразить мужчину, для которого любовь к юношам противоестественна и отвратительна, но от слов Милко моя надежда с каждым мгновением всё больше таяла.
– Я ведь стал понимать твоих слуг, – пояснил юноша. – А они говорят о тебе много такого, чего не говорили бы, если б думали, что их кто-то понимает. Они привыкли, что во дворце греческий язык знают всего несколько человек, и не привыкли, что я в числе этих нескольких. А я поначалу не подавал виду, что понимаю. Я просто слушал.
– И что?
– Они говорили, что ты когда-то служил для утех султану и за это получил трон.
Во взгляде Милко не было и тени осуждения, но я нарочно потупился, снова подумав, что мне удастся искусно солгать своему настойчивому поклоннику. Я хотел сказать: "Это не значит, что мне нравилось моё положение. Я стыжусь того, что делал, и хочу забыть об этом. Я раскаялся. А ты предлагаешь мне снова грешить?"
Однако я не успел это произнести, потому что Милко продолжал говорить, и из его слов я понял, что он бы не поверил моей лжи, если б её услышал.
– А ещё твои слуги упоминали, что ты не был верен султану. Когда султан вместе с тобой отправился в поход, чтобы посадить тебя на румынский трон, ты в войске нашёл себе любовника среди воинов и каждую ночь встречался с ним в своём шатре. Значит, ты не просто уступал султану. Не просто делал то, что заставляли. Ты можешь любить не только женщин. И хочешь любить.
Это была чистая правда, но до той минуты я не подозревал, что мои слуги всё знали: думал, что о моей тайной связи, случившейся во время похода, не знал никто. Того воина звали Гючлю. И временами я вспоминал его.
– Твои слуги говорили, – продолжал Милко, – что ты вёл себя очень безрассудно, потому что погубил бы и себя, и их. Твоих слуг казнили бы тоже, если бы тайна раскрылась. Султан разгневался бы, что они не удержали тебя от измены.
"Так вот почему они не выдали меня, хоть и знали тайну! – мелькнула мысль. – Того, кто приносит плохую весть, казнят первым!"
– А теперь они говорят, – торопливо рассказывал Милко, – что ты поумнел. Ты научился сдерживать чувства, которые могут тебя погубить, – он на мгновение запнулся. – Господин, но я тебя не погублю. Ты можешь делать со мной всё, что пожелаешь, но я буду молчать даже на исповеди. Я тот человек, который тебе нужен.
– Даже на исповеди? Ты погубишь душу.
– Я уже погиб, – Милко, стоя возле моей кровати, вдруг схватил мою руку и, стремительно склонившись, припал к ней таким горячим поцелуем, что я почувствовал этот жар, хотя у меня у самого был жар из-за болезни. – Господин, я как Иуда. Мне не будет прощения, потому что я люблю так, как нельзя любить, и не раскаиваюсь.
Я снова почувствовал на тыльной стороне ладони обжигающий поцелуй и в некотором недоумении пробормотал:
– Как Иуда?
Милко, оторвавшись от моей руки, вперил в неё взгляд и продолжал громким шёпотом:
– Ведь Иуда полюбил Христа так, как нельзя любить. Полюбил в нём человека, тело. И этим чувством оскорбил Учителя. Это было оскорбление даже тогда, когда Иуда не признался Учителю. А когда Иуда признался и услышал в ответ, что не получит желаемого, то обозлился. Сказал Христу: "Я донесу на Тебя синедриону. Солгу, что Ты еретик". И Христос ответил: "Донеси". Поэтому Христос и сказал апостолам на Тайной Вечере: "Один из вас предаст Меня". И Иуда предал, потому что думал: если Учителя не станет, то исчезнет и любовь, которая как наваждение. Но затем Иуда понял, что наваждение не исчезнет. И удавился, потому что оно мучило его. И Иуде нет прощения. Но не за то, что предал, ведь и Пётр предал Христа, отрёкся от него, но был прощён. Иуда проклят за то, что любил так, как нельзя, и оскорбил такой любовью, и до последнего мгновения не раскаялся. Я это понимаю. Но ничего не могу поделать. Я – такой же. Но ведь тебя, господин, можно любить? Я тебя не оскорблю.
Я невольно посмеялся над собой, потому что когда-то раздумывал, можно ли этому юноше читать Платона. Если уж он в Евангелии сумел найти такое, от чего всякий священник придёт в ужас и назовёт еретическим, то Платон такого читателя уж точно не испортит. И мне вдруг подумалось, что я сам еретик, потому что сам готов верить, что в случае с Иудой Искариотом было именно так, и что богословы нарочно умалчивают о причине, по которой этот апостол вдруг стал предателем. Якобы причина не ясна. Но даже те немногие детали, которые остались в Евангелии, были весьма красноречивы для людей, подобных мне. Особенно этот знаменитый поцелуй Иуды – не только поцелуй предателя, но и прощальный поцелуй отвергнутого влюблённого. "А ведь в этом что-то есть! – думал я. – Значит, и Милко может мыслить весьма интересно. Не только мои воспитанники на это способны".
Меж тем Милко заметил мою невольную усмешку, выпрямился и позволил мне высвободить руку из его ладоней.
– Ты не веришь, господин?
– Ты говоришь, что ты Иуда, но уверяешь, что меня не погубишь, – это оказалась слишком длинная фраза для меня, и я снова закашлялся, но ненадолго.
– Я погублю только себя, – Милко упал на колени и ткнулся лбом в одеяло на моей кровати. – Уже погубил. Я лгал ради тебя, я нарушил обет, но не раскаиваюсь.
Я опять усмехнулся:
– Когда же ты успел так нагрешить?
– Когда попал в монастырь. Поначалу я радовался. Думал, что моё место вправду там. И поначалу жил счастливо. Всем послушникам дают наставника, и я тоже получил наставника. Но так случилось, что мой наставник не был старым. Он был в годах, но не старец. И я полюбил его. Был рад делать всё, что он говорит, но затем мне стало ясно, что моя любовь особая, а если я скажу ему, он проклянёт меня. И я затосковал. Моё послушание уже не приносило мне радости.
Милко поднял на меня глаза, и я увидел, что он плачет.
– Наставник спрашивал меня, почему радость пропала, – продолжал юноша. – Он улыбался доброй улыбкой, просил говорить прямо, как на исповеди, но я не мог признаться и от этого тосковал ещё больше. А затем в монастырь приехал ты. И я увидел, что ты смотришь на монахов особенным взглядом, как будто хочешь разглядеть что-то в их душах. И я подумал: "Неужели он ищет то, что у меня?" Я мысленно просил тебя посмотреть на меня таким твоим взглядом, но ты ни разу не посмотрел, а затем ты уехал, и я затосковал ещё сильнее. Думал, удавлюсь. Как Иуда, удавлюсь.
Мой писарь шмыгнул носом и продолжал:
– А затем в монастыре получили весть, что ты приедешь снова. И я решился. В тот день, когда я принёс тебе виноград, и ты подумал, что это от настоятеля, я невольно обманул тебя, потому что настоятель ничего тебе не присылал. Я помнил, что в прошлый раз ты ел тот виноград охотно, поэтому, когда ты приехал снова, я, никого не спросясь, пошёл к нашим виноградарям и сказал, что мне нужно несколько гроздьев для тебя. Виноградари спросили: "Это велел отец-настоятель?" И я солгал: "Да". А когда просился к тебе на службу, то тоже согрешил – нарушил обет послушания. Будущий монах ничего не может делать по своей воле. Во всяком деле он должен испросить благословение наставника, но я ничего наставнику не сказал. А когда он узнал о моём скором отъезде, то был изумлён. Даже не рассердится, но пытался узнать у меня: "Почему ты не сказал?" А я не мог назвать причину и лишь просил у него прощения. Он тогда вздохнул с сожалением: "Как видно, монастырская жизнь слишком тяжела для тебя. Пусть Бог поможет тебе достойно жить в миру". Он простил меня, а должен был проклясть!
По щекам юноши продолжали катиться слёзы. Он сказал:
– Теперь ты всё знаешь, господин. Прошу, прими меня. Не отвергай. Я не надеюсь удостоиться любви, но знаю, что приятен тебе, и мне этого довольно.
Милко снова попытался поймать мою руку, но в этот раз я не дал, спрятал обе руки под одеяло.
– Нет? – удивился юноша как в самом начале разговора. – Но почему?
Я сглотнул и начал говорить медленно и негромко, чтобы не закашляться:
– Потому что ты приятен мне как слуга, но не как тот, с кем хочется делить ложе. Да, не буду скрывать, что мы похожи. У нас обоих есть особая склонность. Но это не значит, что я рад твоему предложению служить мне для утех.
– Почему?
– Потому что я тебя не желаю. Увы, но так бывает. В этом нет твоей вины, и ты ничего не можешь сделать. Если тогда, в монастыре, я сам не обратил на тебя внимания, значит, тебе вряд ли следовало надеяться, что обращу после. Возможно, тебе лучше вернуться в обитель.
Милко, только что слушавший меня, печально опуская взгляд, вдруг вскинул голову и посмотрел на меня расширенными от ужаса глазами:
– Нет, господин! Прошу тебя, прости меня! Забудь всё, что я тебе рассказал. Не прогоняй! Я клянусь, что никогда не напомню о том, что было сегодня. Ни словом, ни взглядом. Не прогоняй! Я не смогу в монастыре, не смогу. Умру от тоски, а больше идти мне некуда, если ты меня прогонишь.
Я подумал, что влюблённый преувеличивает. Сердечные раны болезненны, но не настолько же, чтобы от тоски наступила смерть. И всё же мне опять стало жалко этого юношу, как тогда, в монастыре. Мелькнула мысль: "А если действительно попытается удавиться? К тому же отослать его я всегда успею..."
Я уронил голову на подушки и, нарочито зевнув, произнёс:
– Ладно, хватит чтения на сегодня. Завтра почитаешь ещё. А сейчас иди и посмотри, где слуги. Когда найдёшь их, скажи, что я сплю. Пусть даже лекарь со своими порошками не смеет будить меня раньше, чем в два часа пополудни.
Милко поклонился и хотел уйти, а я напомнил:
– Ты обещал: ни словом, ни взглядом. А иначе – забуду, что ты приятен мне как слуга.
* * *
Мехмед, беседуя со мной после охоты, в конце разговора склонился к моему уху и шепнул:
– Проведём сегодня ночь вместе. Не ночь бесед, а ночь любви.
Султан по обыкновению не спрашивал, согласен ли я. Он и мысли не допускал, что я могу оказаться не рад, но на этот раз я был действительно рад. Слова Мехмеда означали, что он всё ещё мне благоволит и, следовательно, я и моя страна можем жить спокойно хотя бы ещё один год.
Я мысленно готовился ублажать султана, поэтому ночью весьма удивился, когда оказалось, что ублажать будут меня. Произошло нечто странное, ведь с возрастом Мехмед становился всё ленивее, так что, если мы делили ложе, почти всё приходилось делать мне.
И вот теперь, когда я вошёл в спальню "своего повелителя", освещённую ночными светильниками, Мехмед встретил меня, не развалившись на софе или где-нибудь ещё. Он встретил меня у дверей и уже там одарил поцелуем. Это означало, что султан в нетерпении.
Затем Мехмед отошёл на несколько шагов и, окинув меня с головы до ног заинтересованным взглядом, сказал:
– Разденься и иди ко мне.
Он сел на край широкого ложа, устроенного на возвышении, и смотрел, а мне было приятно и в то же время неловко, ведь если бы кто-то мог видеть нас двоих со стороны, то посмеялся бы. С тех пор, как я перестал считаться мальчиком Мехмеда, изменился не только я – султан тоже изменился. Мальчик постарел, а султан потолстел, стал грузен. Когда он, глядя, как я раздеваюсь, пытался успокоить дыхание, то мне невольно пришёл на ум вопрос: "Это вздохи страсти или одышка?"
"Ничего, – ободрял я себя, – ублажу даже такого Мехмеда, ведь награда велика: спокойная жизнь для меня и моих подданных", – однако, как только я поставил колено на постель, оказалось, что мне не надо никого ублажать, а нужно лишь принимать ласки, которые мне расточаются.
Следует признать, что Мехмед был умелым любовником, а грузность, хоть и мешала ему, но всё же не настолько, чтобы я не мог получить удовольствие. Одышка у султана действительно появилась. С каждой минутой дыхание его становилось всё более шумным, но я чувствовал, что он искренне желает меня, и мне это нравилось. Я почти не думал о том, что уже не юн, а задумался лишь тогда, когда Мехмед, будто в шутку, спросил:
– Ты ещё не забыл, как уступать?
Этот вопрос, продиктованный заботой – султан не хотел сделать мне больно, когда проникнет внутрь, – заставил меня вспомнить, что мы вот так не делили ложе уже года три.
– Как можно забыть дорогу к наслаждению! – также полушутя воскликнул я, а мысленно добавил: "Надеюсь, ты в свою очередь не забудешь о том, что грузен, повелитель".
В прежние времена Мехмед часто избирал такую позу, когда мне следовало лечь на живот, а султан со всей страстью наваливался на меня сверху. К счастью, теперь случилось не так – он уложил меня на правый бок, а сам устроился позади.
Я слышал хриплые вздохи возле своего уха, а мокрая от пота рука всё сильнее сжимала моё бедро. "Султан уже давно не неутомимый сластолюбец, его силы угасают", – думал я и всё же, закрыв глаза, вполне искренне отвечал стонами на каждое движение, которое чувствовал внутри себя. Меня желали, причём желание не казалось вымученным, и поэтому оно приносило мне удовольствие.
Да, Мехмеду явно было тяжело, но в итоге он ублажил меня в полной мере, а затем, обняв, спросил:
– Скажи: ты доволен? Доволен?
Я смотрел в его побагровевшее от натуги, улыбающееся лицо:
– О да, повелитель.
– И тебе жаль, что ты теперь не можешь постоянно жить при моём дворе? Скажи правду.
– Сейчас – очень жаль, повелитель. Но перемены в жизни неизбежны. Мы меняемся, меняются наши тела и потому меняются чувства.
Мехмед перестал улыбаться, но в данном случае это не означало неудовольствия. Он задумался:
– Но ты продолжаешь меня любить. Ведь так? Да, чувства уже не те, которые были в твои шестнадцать лет или в двадцать пять, но это всё равно любовь. Если б ты меня разлюбил, то вёл бы себя иначе.
Я не понимал, что должен ответить, поэтому молчал, а Мехмед, снова улыбнувшись, продолжал:
– Ты любишь меня и всё ещё хочешь, чтобы я тебя любил, поэтому тебе не нужны мальчики. Я же помню, как ты был смущён, когда мы посещали ту таверну. Ты смотрел, как я у тебя на глазах обнимаю другого, и тебе это не нравилось. Ты ревновал. И моего подарка не хотел.
Я вспомнил историю с "виночерпиями". Тогда мне действительно было неловко, но по другой причине, однако догадку султана опровергать не следовало. Следовало смущённо отвести взгляд, чтобы подтвердить её.
– А как ты полагаешь, – продолжал Мехмед, – мой друг Ахмед-паша любит ли меня хоть сколько-нибудь?
Султан перестал меня обнимать, сел на ложе:
– Мальчики ему нужны. Я знаю, что он тайком от меня ходит в ту таверну, куда мы с тобой ходили. Что ты об этом думаешь?
Он внимательно смотрел, ожидая ответа, а я, тоже сев, сказал:
– Повелитель, мне трудно судить о его чувствах. Возможно, дело не в любви, а в потребностях тела.
– Но ведь ты только что убедился, что на ложе со мной можно быть полностью удовлетворённым. Зачем же ходить куда-то ещё?
Я вдруг понял, что Мехмед пригласил меня этой ночью в свои покои вовсе не для любви, а как всегда – для беседы. Султан хотел поговорить об Ахмеде-паше и позвал меня как человека, который уже не юн. К примеру, другой султанский возлюбленный, Хасс Мурат, в свои девятнадцать лет не понял бы мотивов стареющего мужчины. А вот стареющий мальчик, то есть я, может понять.
Более того: мне подумалось, что Мехмед сейчас проявил в отношении меня ту страсть, которую проявлял к Ахмеду-паше, а теперь, поставив нас с ним в равные условия, сравнивал моё поведение с поведением своего "друга".
Это открытие не особенно ранило меня, потому что я давно смирился и со своим старением, и с охлаждением чувств Мехмеда. Конечно, было досадно, но показывать своё истинное настроение не следовало – как всегда, следовало лгать.
– Повелитель, – произнёс я, отвечая на недавний вопрос, – если Ахмед-паша покупает любовь "виночерпиев" тайком от тебя, это значит, он стыдится. А если он стыдится, значит, думает о твоих чувствах. Эти чувства ему не безразличны. Он не хочет тебя ранить.
– Согласен, – ответил Мехмед. – Я сам так думал и потому решил прощать моему другу его временные слабости, хотя его действия – измена.
Он слез с ложа и пошёл в угол опочивальни, где стояли кувшин и таз, а рядом лежала чистая белая ткань:
– Послужи мне, Раду.
Я тоже слез с ложа и поспешно двинулся следом, а когда взял кувшин, то, как и ожидал, обнаружил там розовую воду. Мне следовало налить немного этой воды на ткань и подать смоченную ткань султану.
– Но ты видел, что было сегодня? – меж тем спросил Мехмед, обтерев лицо и возвращая мне ткань. – Он с этим мальчишкой-сокольничим совершенно позабыл обо мне.
– Повелитель, это было шуточное ухаживание. Ахмед-паша ведь поэт. Будь я на его месте, тоже ухаживал бы за этим юношей.
– И совершил бы ошибку.
– Повелитель, прошу тебя: не будь слишком строг.
– Ты защищаешь его?
– Просто хочу напомнить, что он – лучший поэт Турции. Повелитель, если ты удалишь его от двора без достаточных оснований, то многие ценители его стихов окажутся на тебя обиженными. Это будет плохо для тебя.
– Никто не посмеет обижаться на своего повелителя.
– Открыто – никто. Но будут делать это втайне.
– Мне всё равно, – Мехмед криво улыбнулся.
– И всё же прошу тебя, повелитель: пусть твоё решение будет взвешенным и обдуманным.
Во время разговора я обтёр султану загривок, плечи, спину, всё его тело, а затем, воспользовавшись оставшейся водой и оставшейся тканью, начал обтираться сам.
– Ты прав, – задумчиво глядя на меня, проговорил Мехмед, – чтобы гневаться, нужна веская причина. То есть я должен знать наверняка, что мой друг меня не любит. А для этого мне нужно выяснить, было ли ухаживание шуточным. Если окажется, что Ахмед-паша любит этого мальчишку больше, чем своего повелителя, это измена посерьёзнее, чем таверна. И я поступлю с ним как с изменником.
Я, в свою очередь глядя на Мехмеда, не мог не заметить, что теперь он смотрит на моё обнажённое тело совершенно спокойно. Оно не вызывало у султана никаких желаний. И причина была не в том, что соитие уже состоялось. Истинный интерес не пропадает так сразу. Даже после соития он некоторое время сохраняется.








