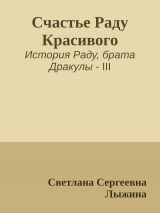
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Семнадцатилетний юноша тоже вздохнул, но сдаваться так рано не собирался и, подождав немного, с нарочитой кротостью произнёс:
– Господин, ты можешь сделать то, что уже сделал, ещё раз. Времени достаточно.
"Это вызов? – подумалось мне. – Как видно, шлюха спрашивает меня, смогу ли я снова. Намекает, что недавний успех был случаен?"
Поскольку вслух ответа не прозвучало, "ангел" повторил вопрос:
– Господин, мне одеться, или?..
– Сначала оденься и скажи там, чтобы принесли поесть. И вина. А дальше посмотрим.
Странное состязание увлекло меня, и мне захотелось доказать, что я смогу ещё раз, пусть и чувствовал себя так, будто вымазался в крови – бурой крови, которой покрыты руки мясника, разделывающего туши. Я испачкал не только руки, а вымазался весь, и терять было больше нечего.
...После второго раза, случившегося уже не возле софы, а на возвышении, заваленном подушками, я устало растянулся на шёлковом покрывале и уставился в белёный потолок. Говорить с "ангелом" было не о чем, и не потому, что мне не хватало персидских слов. Если что, он понял бы и по-турецки, но говорить мне с ним не хотелось.
Между первым и вторым соитием я уже успел спросить "ангела", откуда он, и мне назвали некий незнакомый город. Я стал расспрашивать, как этот юноша стал "виночерпием", и оказалось, что его продали собственные родители, чтобы прокормить старших детей, но это не считалось рабство. Это был найм на работу, а когда исполнится двадцать пять лет, юноша имел право вернуться домой, если б пожелал. Наконец, я спросил, нравится ли "виночерпию" работа, и услышал, что это лучше, чем зазывать покупателей в лавку или таскать за ними тюки с товаром.
Говорить было больше не о чем.
– Хочешь, сыграю тебе на свирели, господин? – спросил юноша.
– Сыграй.
Он, сидя на краю постели вполоборота ко мне, заиграл, но мелодия почти ничего не выражала. Она была не весёлая и не грустная, а просто задумчивая.
Именно этот момент я позже вспоминал, лёжа без сна в пустом дворце в Эдирне, но в итоге отмахнулся от воспоминания и почти вслух произнёс: "Уходи. С тобой мне тоже не о чем говорить, пусть мы с тобой во многом похожи".
* * *
Иногда я задавал себе вопрос: "Что лучше? Искушённая дерзость или простодушная любовь?" Но, по правде говоря, меня не привлекало ни то, ни другое, и потому Милко, который смотрел на меня с простодушным обожанием, со временем стал мне надоедать.
С простодушными людьми невозможно вести занимательную беседу, потому что они не считают необходимым иметь своё мнение, а принимают на веру то, что им говорят, то есть соглашаются со всем.
Милко был именно таков, и поначалу мне это даже нравилось. Диктуя письма своему молодому писарю, я порой высказывал некие суждения по поводу тех, кому мои послания были предназначены, и спрашивал:
– Как ты думаешь? Я прав?
– Да, господин, – неизменно отвечал Милко, причём без всякой задней мысли.
Меня успокаивали такие ответы, но через некоторое время я вдруг поймал себя на том, что не хочу, чтобы со мной соглашались, а хочу, чтобы со мной спорили.
Желая сподвигнуть писаря к спору, я начинал спорить сам с собой – сначала высказывал довод, подтверждающий моё мнение, а затем сам себя опровергал, – но Милко, когда я предлагал выбрать, который из доводов убедительнее, приходил в замешательство. Он смотрел на меня, будто ища в моём лице подсказку, и потому казался глупцом.
Даже мои малолетние воспитанники порой выглядели умнее его, если приходили ко мне спросить о чём-то, о чём узнали в школе, но до конца не поняли. Суждения этих мальчиков были необычны и потому интересны.
Например, весьма необычно судил Таке, двенадцатилетний черноволосый сорванец, который затеял со мной беседу в один из зимних дней, когда я только что закончил трапезу с боярами и отпустил их по домам.
Трапезе предшествовало заседание боярского совета, длившееся не один час. Затем по обычаю, поскольку бояре считались моими гостями, я накормил их, а когда они, наконец, ушли, я почувствовал, что голова гудит от духоты, и велел, чтобы мне принесли тёплую одежду – решил выйти прогуляться в заснеженный сад.
Шубу и шапку мне принёс один из моих воспитанников, тот самый Таке, и, помогая одеться, ни с того, ни с сего спросил:
– Господин, а зачем сатана приходил искушать Христа, когда Христос молился в пустыне? Если Христос – часть триединого Бога, то искушать Христа – это как Бога искушать. А Бога искусить нельзя, потому что он сильнее сатаны. Зачем же тогда сатана приходил? Это же глупо.
– А ты спросил об этом в школе?
– Спросил.
– И что тебе сказали?
– Что сатана обращался к Христу как к человеку, а не как к Богу, потому что человек мог послушать сатану.
– Но тебя это не убедило?
Я уже оделся, но снова уселся в резное кресло, чтобы довести разговор до конца, а Таке, стоя передо мной, продолжал рассуждать:
– Христос ведь знал, что родился не просто человеком. Поэтому был бы большим дураком, если б поддался сатане. Особенно когда сатана предлагал власть над миром. Христос ведь знал, что и так получит эту власть от Отца, если будет слушаться.
– Наверное, сатана надеялся, что Христос не захочет ждать. Как думаешь?
– Нет, такого быть не могло, – убеждённо помотал головой мой собеседник и продолжал рассуждения: – Вот если бы ты, господин, обещал мне свою шапку, то разве я стал бы брать её без спросу и огорчать тебя? Нет, я бы дождался, когда ты мне её подаришь, как обещал.
– Какую шапку? – спросил я, вдруг поняв, к чему маленький хитрец затеял эту беседу.
– Ну, – замялся Таке, – шапку с синим пером. – Он указал глазами на мой головной убор и спросил: – Господин, а тебе она очень нужна?
– Хорошо, – улыбнулся я. – Нынешнюю зиму я сам эту шапку буду носить, но весной, так и быть, шапка станет твоя.
– Спасибо, господин, – обрадовался мой воспитанник и тут же, забыв обо всём на свете, выбежал вон, а из-за двери послышался его звонкий голос, повторявший кому-то: – Господин обещал. Обещал.
Увы, но Милко не был способен на такие беседы даже ради выгоды. Единственное, что у него получалось довольно занятно, так это рассуждать о правильности той или иной строки из Писания, то есть он опять соглашался, но соглашался не молчаливо, а приводя собственные доводы, вспоминая примеры из своей деревенской или монастырской жизни.
В такие минуты этот молодой послушник не выглядел глупцом, но, увы, Писание предлагало не такой уж широкий перечень предметов для обсуждения, а Милко в свои двадцать лет ещё ничего не читал кроме Писания и богослужебных книг. Вот если бы он прочёл хотя бы Златоуста!
...Однажды вечером я, сидя в своих покоях, продиктовал своему молодому писарю очередное письмо к трансильванским жителям и будто невзначай произнёс:
– А знаешь, Милко, мне был бы полезен человек, который не только пишет то, что я диктую, но и сам подсказывает мне, то есть помогает составлять письма.
Милко смутился:
– Господин, ты... полагаешь, что я мог бы быть таким человеком?
Я молча смотрел на него, а он помотал головой:
– Господин, когда ты пишешь загорским жителям, то всякий раз находишь доводы, чтобы доказать, что прав, а я таких доводов придумать не сумею.
– Ты пишешь под мою диктовку уже не первый раз, и мог бы заметить, что доводы во многом одни и те же. Тебе не составило бы труда придумать что-то похожее, окажись ты на моём месте.
– Нет, господин, – Милко снова помотал головой. – Я не смогу это выразить так хорошо, как ты.
– Этому можно научиться, – не отставал я. – Ты ведь слышал о Златоусте? Его прозвали так именно потому, что он умел обращаться со словами. Вот если бы ты прочитал его поучения, то понял бы, как находить правильные слова. Правда, это книги на греческом, а греческого ты не знаешь, но если бы ты выучил этот язык...
Я вдруг поймал себя на мысли, что мне будет очень досадно, если мой тайный поклонник сейчас в очередной раз признает себя глупцом, то есть скажет, что не способен выучить греческий. Что за радость получать знаки восхищения от глупца! Именно поэтому я продолжал говорить, чтобы Милко, если вдруг захочет сказать "я не смогу", не сумел даже слово вставить между моими словами:
– И дело не только в письмах. Мне и самому нравится Златоуст, но поговорить о нём мне не с кем. Если бы ты прочёл хоть что-нибудь, у нас появилась бы тема для приятной беседы. Сейчас мы говорим почти всё время о делах. Это скучно...
Милко молча смотрел на меня и о чём-то думал, но явно не о том, что ни к чему не способен. Мне стало легче, ведь я не хотел разочаровываться в своём поклоннике. Поклонника следовало ценить, ведь заменить его было бы некем, но если бы он продолжал называть себя ни к чему не способным, то я неизбежно разочаровался бы.
Не знаю, понимал ли Милко, чем рискует, но через некоторое время он меня приятно удивил. В тот вечер я диктовал ему очередное письмо к купцам за горы, в котором напоминал о том, что эти люди не раз пытались притеснять румынских купцов, приезжавших к ним со своим товаром:
– Случаи многочисленны, – произнёс я, диктуя, – поэтому одно только перечисление займёт много места на бумаге. Нужно ли вспоминать их все?..
Мне пришлось задуматься над собственным вопросом, то есть ненадолго замолчать. И тут я услышал, что мой писарь перестал скрести пером по бумаге, а затем послышался шум отодвигаемого стула: Милко, только что сидевший за столом в некотором отдалении, встал, будто ученик, отвечающий на уроке. Он смотрел прямо на меня и явно собирался что-то сказать, но, как всегда, волновался.
Я смотрел с недоумением, а Милко, всё же справившись с собой, произнёс:
– Если бы рассказать обо всём этом подробно, то, думаю, целому миру не вместить написанных книг.
Он произнёс эту фразу по-гречески!
Произнесённое было цитатой из Священного Писания. Самые последние слова Евангелия от Иоанна. Милко, судя по всему, заучил их наизусть, но мне и этого сейчас оказалось довольно – я восхищённо ахнул, вскочил, почти подбежал к своему писарю, взял за плечи и заглянул в глаза:
– Значит, ты послушал меня? Учишь греческий язык?
Мне захотелось расцеловать этого юношу в обе щеки, но я сдержался. Он смотрел на меня, счастливый, а на губах блуждала немного растерянная улыбка. Наверное, Милко не ожидал, что я так сильно обрадуюсь.
Поскольку он молчал, мне пришлось повторить вопрос:
– Ты учишь греческий?
– Да, господин.
– И что ты уже выучил?
– Немного. Меня научили читать, но я почти ничего из прочитанного не понимаю. Я прочитал Евангелие от Иоанна по-гречески, но понимал только потому, что знаю, где и что там говорится.
– А кто тебя научил читать? – я убрал руки с плеч своего писаря, отступил на полтора шага и оглядел его.
– Брат... – Милко назвал имя одного из монахов, служащих в моей канцелярии. – Он объяснил мне азы, но учить меня, будто я ученик, ему некогда.
– Некогда? – с моих губ сорвался смешок. – Думаю, он найдёт время, если я стану платить ему, чтобы он тебя учил. Он не хочет учить бесплатно, поэтому отмахивается.
Милко всё так же выглядел растерянным, поэтому я спросил:
– Мне договориться с ним, чтобы он учил тебя греческому? Отвечай честно. А если не хочешь дальше учиться, так и скажи, чтобы я не тратил деньги понапрасну.
Наверное, моё лицо сделалось уже не таким довольным, потому что Милко вдруг очнулся от своей растерянности и с поклоном проговорил:
– Господин, я хочу учиться.
Эх, знал бы я тогда, к чему приведёт это изучение греческого языка!
* * *
По мере приближения к Истамбулу я чувствовал себя всё веселее, пусть мне и предстояла встреча с султаном. Хотелось улыбаться, поскольку я вдруг вспомнил об одном важном деле, которое ждало меня в городе, и я собирался разобраться с этим делом сразу по приезде – ещё до того, как увижу Мехмеда.
Будущие разговоры с султаном и возможные ночные попойки, от которых нельзя отказаться, сделались в моём сознании чем-то очень далёким, то есть таким, что случится ещё не скоро, а вот дело, о котором я думал...
По прибытии в город я собирался отправить одного из своих слуг в лавку благовоний, с хозяином которой заключил особую договорённость. Согласно уговору, держатель лавки, встретив моего слугу, должен был сразу же отправить своего младшего сына в дом Ахмеда-паши, но не для того, чтобы передать что-то Ахмеду-паше, а для того, чтобы уведомить его секретаря о том, что я приехал. Для дела мне нужен был именно секретарь лучшего поэта Турции, а не сам поэт.
Отправить собственного слугу прямо в дом к Ахмеду-паше я не мог, ведь это казалось бы подозрительно, зато не было ничего подозрительного в том, что секретарь Ахмеда-паши время от времени покупает что-либо в лавке благовоний и сам приходит туда, когда появляется новый товар.
В нынешний раз всё совершилось, как обычно. Прибыв во дворец в Истамбуле, я отправил слугу в лавку, а через некоторое время получил ответ, что секретарь Ахмеда-паши готов встретиться со мной завтра утром в этой самой лавке и принесёт то, что мне нужно, причём мне передали: "Пусть Раду-бей возьмёт с собой побольше денег, потому что товара в этот раз особенно много: сто шесть".
И вот с утра пораньше я в сопровождении двух слуг отправился на встречу. Идти было очень приятно, потому что восходящее солнце, которое было жарким даже в сентябре, ещё не начало нещадно палить. Город только просыпался, поэтому ноги прохожих и колёса повозок ещё не успели поднять на улицах пыль. Фасады домов пока оставались в тени, а небо над черепичными крышами ярко синело. Деревья, чьи раскидистые кроны высовывались из-за высоких каменных оград, чуть слышно шелестели.
Наконец я достиг базарной площади и направился к знакомой лавке. Её хозяин встретил меня у дверей, но не потому, что ждал, а потому, что вышел посмотреть, как его сыновья растягивают холщовый тент, необходимый, чтобы палящее солнце, которое поднималось всё выше, не заглядывало в окна.
– Приветствую, Раду-бей, – сказал лавочник. – Человек, который тебе нужен, ещё не появлялся, но верхняя комната в твоём распоряжении.
Оказавшись в лавке и оставив слуг ждать у дверей, я зашёл за прилавок, нырнул за завесу, загораживавшую вход в соседнее помещение, затем повернул направо и поднялся по деревянной скрипучей лесенке. Ничего не менялось. Всё та же лестница, всё тот же узкий тёмный коридорчик и всё та же светлая просторная комната на втором этаже, где хозяин лавки отдыхал от дел, покуривая кальян.
Но я пришёл сюда не отдыхать, поэтому сел на мягкое сиденье возле окна и стал смотреть на улицу: не появится ли тот, кого я жду.
Секретарь Ахмеда-паши появился через четверть часа или около того. Я сразу увидел, как этот человек торопливо идёт через полупустую базарную площадь, а его фигура отбрасывает на мостовую длинную тень.
Увы, издалека мне не удавалось оценить, насколько толста папка, которую секретарь держал подмышкой. Я смог оценить толщину лишь тогда, когда он появился в дверях комнаты, отвесил почтительный поклон и, извинившись за опоздание, с улыбкой показал мне папку:
– Господин, ты должен мне сто шесть золотых.
Хоть я слышал это число вчера, но всё равно продолжал удивляться:
– Твой господин за минувший год сочинил сто шесть новых стихотворений?
– Да.
– То есть он сочинял по одному стихотворению раз в три дня?
– Да.
– И не сжигал сочинённое, как он обычно делает?
– Сжигать было ни к чему, потому что стихи получались весьма удачными.
– Но что же случилось?
– Очевидно, мой господин влюбился. Любовь всегда придаёт ему сил.
При этих словах я почувствовал лёгкий укол ревности, ведь поэт влюбился, конечно же, не в меня. Но когда восхищаешься чужим талантом, то можно получать удовольствие, даже читая о чувствах, которые с тобой не связаны, а обращены к другому, тайному возлюбленному, ведь в стихах имя возлюбленного – почти всегда тайна.
Я развязал кошелёк, висевший на поясе, запустил туда руку, взял полный кулак монет и высыпал их на круглый столик перед собой, а затем жестом подозвал собеседника:
– Что ж. Давай то, что принёс. Ты знаешь, что меня трудно обмануть, и что я буду платить только за те стихи, которые ещё не читал. За старое я платить не буду. И если я усомнюсь, что стихотворение написано твоим господином, за такое я тоже не буду платить.
Секретарь Ахмеда-паши укоризненно покачал головой, а затем раскрыл папку и подал мне первый лист.
Разумеется, строки на листе были написаны не рукой самого Ахмеда-паши, а рукой секретаря, который переписывал для меня стихи своего господина и получал за это плату, но всё же я испытал радостное чувство узнавания: "Да. Это сочинил Ахмед-паша. Его манера. Всё те же лёгкость и изящество слога. И стихотворение новое".
Я счастливо вздохнул и бережно положил лист слева от себя на сиденье, а когда рука освободилась, подвинул пальцем одну из золотых монет, лежавших на столике, в сторону секретаря:
– За это уплачено. Давай следующее.
Я был так строг, потому что секретарь Ахмеда-паши порой подсовывал мне негодный товар. К примеру, один раз дал стихотворение совсем другого поэта, а я отказался платить не потому, что знал имя настоящего сочинителя, а потому что почувствовал – манера другая.
Истинное авторство выяснилось чуть позже, и секретарь Ахмеда-паши долго извинялся:
– Оно лежало на столе моего господина. Было написано его рукой...
Не знаю, насколько он был искренен, но в другой год мне попалось среди новых стихотворений аж два старых, а секретарь опять извинялся и говорил, что уже и сам забыл, отдавал их мне раньше или нет.
"Пройдоха!" – мысленно ругался я, и всё же иметь дело с этим человеком было намного удобнее, чем самостоятельно собирать стихи, приезжая в Турцию лишь раз в год. Мне было бы очень досадно упустить хоть одно стихотворение, и поэтому я позволял себе такие значительные траты, чтобы получать всё из первых рук.
"Должна же у меня быть хоть одна настоящая радость в жизни", – думал я, оправдываясь перед собой за дорогостоящее увлечение. И ведь увлёкся всерьёз! Читая стихи Ахмеда-паши, раздобытые таким образом, я ощущал самый настоящий восторг. Сердце начинало биться чаще. Мне казалось, что я сейчас веду беседу с самим Ахмедом-пашой, и он поверяет мне свои самые сокровенные мысли.
Я читал описания чувств и думал: "Да-да, мне это тоже знакомо". Временами казалось, что я понимаю этого поэта как никто другой, и вот тогда приходилось себя одёргивать: "Тебе это лишь кажется. И ты знаешь, почему кажется. Не поддавайся этому миражу, потому что он уведёт тебя на путь страданий – страданий от неразделённой любви".
По дороге обратно во дворец я чувствовал себя настолько окрылённым, что мне стоило большого труда идти по улицам, не приплясывая. Если б я не сумел сдержаться, это выглядело бы смешно. Но я не мог не улыбаться, чувствуя скатанные в трубку листы, которые спрятал за пазуху кафтана – ближе к сердцу. И мне никак не удавалось уговорить себя переложить их куда-то ещё, не вести себя как влюблённый. Хотелось почувствовать себя глупцом – да, быть счастливым глупцом вот эти полчаса, которые занимала дорога из лавки во дворец, потому что во дворце ничего приятного не ждало.
Во дворце мне сообщили, что султан примет моё "посольство" завтра, сразу после заседания дивана, и я невольно погрустнел, представив, как вхожу в зал заседаний и вижу Ахмеда-пашу, сидящего среди других визиров близ султанского трона. Я увижу этого человека, но не смогу ему признаться, что читал все его новые стихи, и сказать, насколько сильно мне понравилось. Как грустно!
* * *
На следующий день я оказался ошарашен новостью. Бывший великий визир Махмуд-паша, который, как мне казалось, навсегда утратил благоволение султана, прибыл ко двору. Разумеется, не самовольно: в коридорах дворца шептались, что султан внезапно решил пригласить его, а случилось это около недели назад, то есть в те дни, когда я выезжал из Букурешть.
Получалось, что мне уже совершенно не нужно волноваться из-за того, как окажется принято моё "посольство". Мехмеду было не до меня, поэтому когда я появился в тронном зале, а вслед за мной мои слуги внесли сундучок с деньгами, меня почти сразу же отпустили.
Как мне удалось узнать, самое главное в тот день случилось до моего прихода. На заседании дивана султан во всеуслышание объявил, что Махмуд-паша восстановлен в должности великого визира, а Исхак-паша, ещё утром занимавший этот пост, вынужденно смирился со своим поражением. Мехмед, принимая Махмуда-пашу, повёл себя так, как будто никогда не гневался на него. Султан во всеуслышание назвал его мудрым человеком, который даёт ценные советы.
Всё произошедшее означало, что эпоха Махмуда-паши ещё не закончилась, а это могло считаться добрым предзнаменованием для меня. Моя власть над сердцем султана была наиболее сильна именно в те годы, когда Махмуд-паша являлся великим визиром, и, раз его восстановили в должности, я мог сказать себе: "Моё время тоже ещё не ушло. Пусть я слишком стар для роли "мальчика", но опору из-под ног у меня пока никто не выбивает".
Будто в подтверждение этого на следующий день после официального прибытия моего "посольства" я оказался приглашён на большую соколиную охоту, в которой участвовала избранная придворная знать. Приглашение следовало расценить как знак султанской милости, но я, следуя верхом за Мехмедом и Махмудом-пашой, восседавшими на вороных жеребцах, радовался лишь тому, что Ахмед-паша тоже здесь. Время от времени я терял визира-поэта из виду и тогда привставал на стременах, чтобы глянуть поверх высоких белых тюрбанов, принадлежащих различным сановникам.
Как часто бывало, когда я присутствовал на подобных собраниях, у меня рябило в глазах от обилия ярких красок. Красные, синие, зелёные кафтаны, пёстрый мех оторочки, золотая чеканка на оружии, отделанная серебром конская сбруя. Сами кони тоже были разных мастей: вороные, гнедые, серые, рыжие. Я даже не говорю о множестве птиц с пёстрым, коричнево-бело-чёрным оперением – соколах, которые пока что сидели на перчатках у сокольничих, но очень скоро должны были взмыть ввысь.
Когда мне всё же удавалось увидеть лицо Ахмеда-паши, мне неизменно казалось, что он тоже кого-то ищет. Не меня, разумеется.
Я вспоминал недавно купленные записи, которые читал и перечитывал вчера и позавчера, и мне не давали покоя несколько строк одного из стихотворений:
Твой рот как алый лепесток, моя любовь.
Тебя, как тайну, я берег, моя любовь.
И ещё:
Я говорю: «Ахмед, люби, покуда жив!»
Я стар, но юн любви росток – моя любовь*.
* Здесь и далее – подлинное стихотворение Ахмеда-паши.
Мной двигала не ревность, а некое странное любопытство, когда хочется всё знать о человеке, которым восхищаешься. И раз уж Ахмед-паша влюбился, то мне непременно надо было выяснить, в кого.
Стих ясно говорил, что возлюбленный молод, и любовь держится в тайне, ведь Ахмед-паша, конечно, понимал, что влюблённость в юного красавца – опасная вещь. Кого бы ни любил визир-поэт, этот возлюбленный не мог бы стать ему более близким, чем султан, потому что султан и визир находились в особых отношениях.
В прежние годы я несколько раз становился свидетелем того, как Мехмед подходил к Ахмеду-паше и, хлопнув по плечу, начинал речь со слов "ну, что, мой друг", а "друг" выказывал лёгкое замешательство, как будто хлопнули не по плечу, а по заду.
Так уж получилось, что Мехмед не смог просто восхищаться талантом лучшего поэта Турции – захотелось большего, но я это вполне понимал. Султан ведь делал с Ахмедом-пашой то, что я и сам был бы не прочь сделать. Правда, было одно "но". Султан даже на ложе не может подчиняться: он должен только подчинять, и смириться с этим обстоятельством Ахмеду-паше оказалось непросто.
Поэт, конечно, смирился, за что и получил должность визира, а мне оставалось только удивляться происходящему. Мехмед обычно предпочитал тех, кто заметно младше, а Ахмед-паша был его ровесником, однако обаяние таланта, судя по всему, оказалось так велико, что султан забыл о своих предпочтениях. То, что происходило, он называл "дружба", потому что это слово больше всего подходит к отношениям между двумя мужчинами, каждому из которых перевалило за сорок. Любить надо молодых, а сорок лет... Ахмед-паша вполне справедливо назвал это старостью.
Но что же теперь? Поэт влюбился так сильно, что готов был рискнуть всем, чего достиг? Он мог лишиться султанского благоволения, должности, доходов. Или это была не влюблённость, а игра во влюблённость? Поэты часто затевают такую игру, чтобы подхлестнуть вдохновение.
Вот это мне и хотелось выяснить, хоть я в случае неблагоприятного развития событий вряд ли смог бы чем-то помочь. "Кто этот возлюбленный? – размышлял я. – Он наверняка присутствует сейчас в свите султана".
Меж тем все выехали из рощи на поле, покрытое высокой травой. Псари, которые следовали впереди с гончими, заставили всю пернатую дичь подняться в небо, и вот настала самая интересная часть охоты.
Сокольничие пришпорили коней и устремились вперёд. Я видел, как каждый сокольничий всё выше поднимал правую руку в красной перчатке, на которой сидела птица, уже готовившаяся ринуться на добычу, выбранную хозяином. Сокольничему оставалось лишь выпустить из пальцев верёвочку, удерживавшую птицу за шею, и сделать едва уловимое движение, как если бы он хотел подбросить своего сокола вверх.
Султан тоже ринулся вперёд, чтобы лучше видеть то, что сейчас будет происходить в небе. Вслед за Мехмедом поскакала свита, в том числе я.
Когда наблюдаешь, как охотится сокол, то всегда кажется, что его добыча летит невероятно медленно. Она будто и не летит, а зависла в воздухе, как вдруг где-то сбоку появляется комок коричнево-серых перьев, который кидается на неё. В самый последний момент у этого комка вырастают огромные когтистые лапы и острый загнутый клюв. И вот добыча и охотник вместе падают в траву где-то в отдалении от скачущих всадников.
Вскоре начался подсчёт добычи: перед султаном, который всё так же оставался в седле, на примятую траву выкладывали то, что поймали соколы. Я увидел десятки и десятки маленьких и больших тел с взъерошенными перьями и безвольно раскинутыми крыльями, но затем моё внимание привлёк один из сокольничих, которому не исполнилось и восемнадцати.
Юноша был тонок станом и красив. Как и все пажи (а сокольничие тоже являлись пажами), он брил голову, но оставлял длинные пряди на висках, спускавшиеся до плеч. У юноши эти пряди были чёрные, блестящие, волнистые. Струясь из-под тюрбана, они чем-то напоминали женские височные подвески.
В лице этого красавца не нашлось бы ни малейшего изъяна: чёрные изогнутые брови, тёмные выразительные глаза, прямой нос, в меру пухлые губы и волевой, но не тяжёлый подбородок. Кожа совершенно чистая: ни одной родинки.
Однако около года назад Мехмед всё же обнаружил в этом паже один "недостаток" и весьма существенный – оказалось, что юноша совершенно не имеет склонностей к однополой любви. Когда султан, пленившись красотой пажа, позвал его в свои покои и прямо сказал о своих желаниях, паж упал на колени и взмолился:
– Повелитель, прошу тебя: нет!
Я при этом не присутствовал, но, как мне позже рассказал сам султан, этот юноша умудрился сделать так, что желание у поклонника вмиг пропало:
– Когда он упал на колени и смотрел на меня, будто сейчас разрыдается, я чуть ли не злодеем себя почувствовал, – признался Мехмед. – Если б я настаивал, то не встретил бы сопротивления. Но что случилось бы после? А если бы этот красавец наложил на себя руки? Если бы это случилось, я бы чувствовал себя неловко. Поэтому, услышав "нет", решил, что удовольствие от одной ночи не оправдает тех огорчений, которые могут последовать.
– Повелитель, ты поступил очень великодушно, – ответил я и в ту минуту позавидовал пажу. Почему у него получилось то, что в своё время не получилось у меня? Почему я не сумел сделать так, чтобы Мехмед оставил меня в покое? Возможно, всё объяснялось тем, что паж столкнулся с султаном, которому было уже за сорок. Сорокалетний влюблённый уже не так пылок, а когда судьба свела меня с Мехмедом, тому не было и двадцати.
Впрочем, даже в сорок лет султан оставался всё тем же сластолюбцем:
– Великодушие тут ни при чём, – засмеялся он. – Просто мне было бы жаль лишиться такого красивого слуги. Именно поэтому я даже не удалил его от двора. Пусть хотя бы для моих глаз будет услада.
И вот теперь этот красивый сокольничий, находясь неподалёку от Мехмеда, расслабленно сидел в седле и кормил свою птицу сырым мясом.
Юноша сжимал пищу той же рукой, на запястье которой, вцепившись когтями в раструб перчатки, устроился сокол. Другая рука держала конский повод, но затем сокольничий задумчиво улыбнулся, положил повод коню на шею и освободившейся рукой осторожно погладил птицу по голове. В этот момент паж выглядел как совершенно счастливый человек и потому был особенно привлекателен для возможных поклонников.
Когда люди влюбляются, то ищут радости, и поэтому их гораздо больше влекут счастливые лица, а не несчастные. Кажется, что тот, кто счастлив, охотнее поделится с тобой своим счастьем и, значит, будет благосклонен. А если несчастный человек поделится с воздыхателем своей бедой, то неизвестно, достанется ли воздыхателю что-нибудь кроме хлопот и огорчений.
Потому-то сокольничий так притягивал взгляды, и если б не история с отвергнутым султаном, то, возможно, я сам пленился бы счастливой красотой.
Эта история останавливала и других поклонников. Никто не осмеливался приблизиться кроме одного – это был Ахмед-паша. Я вдруг с изумлением увидел, как он подъехал к сокольничему и, чуть наклонившись к нему, проговорил:
– Ты испачкался. Вот здесь, – визир-поэт поднял руку и смущённо указал на правую щёку юноши, где виднелась тёмная полоска. Наверное, когда сокольничий мчался через поле, его конь угодил копытом в незаметный в траве ручей, грязные брызги разлетелись, и одна из них попала на лицо всаднику, а он, не заметив, размазал её.
Без сомнения Ахмед-паша предпочёл бы сам стереть грязь со щеки красивого султанского пажа, но не решился. А когда произносил "ты испачкался", то голос звучал так, как будто поэту трудно говорить.








