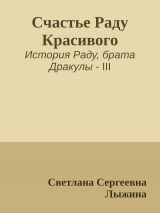
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
На мгновение у меня всё похолодело внутри. А вдруг он погиб? И получится, что Зое, которая когда-то по моей вине лишилась родителей, теперь лишилась ещё и мужа. И опять по моей вине!
Правда, моя воспитанница не выглядела печальной, поэтому я решил спросить:
– А твой муж где? Жив?
– Жив, господин, – улыбнулась она. – Тоже поранен был в тот день, но жив. Снова тебе служить готов.
Я поцеловал её в лоб, как и нескольких других воспитанниц и воспитанников. Кого-то потрепал по плечу, кому-то просто улыбнулся и назвал по имени, а затем сказал:
– Дети мои, как же я рад, что Бог не наказывает вас за мои грехи.
"Дети" недоумённо переглянулись, как будто считали меня совсем безгрешным, и я не знал, как лучше объяснить, почему сказал то, что сказал, но тут они забыли обо мне, потому что их окликнули Мирча и Влад, которые, бдительно опекаемые Стойкой и моими слугами-греками, только что въехали во двор.
* * *
В тронном зале ничего не изменилось, но в комнатах у Марицы, Рицы, а также в комнатах моих сыновей и у меня много вещей исчезло.
– Молдаване пограбили, – разводя руками, отвечали дворцовые слуги, и даже в своей библиотеке я увидел, что шкафы с книгами были взломаны и на полках зияют пустоты.
Как и следовало ожидать, исчезли книги в самых красивых переплётах, хотя и другие – менее красивые, но редкие фолианты – тоже отсутствовали.
– Оставили мне что-то – уже хорошо, – натужно улыбнулся я, а затем вдруг услышал у себя за спиной такой знакомый голос:
– Господин...
Это произнёс Милко. Почему-то он опять был одет в подрясник, но лицо юноши светилось такой радостью, что длинное чёрное одеяние не казалось мрачным.
Я хотел обнять возлюбленного, не сразу вспомнив, что вокруг меня бояре, много слуг, поэтому следует сдержаться, и всё же правая рука успела потянуться к Милко, а тот истолковал мой жест по-своему. Он схватил мою правую ладонь и, упав на колени, горячо поцеловал её:
– Господин, – юноша посмотрел на меня счастливыми глазами и, казалось, забыл об остальных людях, – не печалься о книгах. Потери вовсе не так велики. Самое ценное спасено. Позволь, я покажу тебе это. – Он встал с колен, но не выпустил мою руку. – Правда, тебе придётся пойти со мной. Прошу тебя, позволь отвести тебя.
Я оглянулся вправо-влево, после чего сказал боярам, что благодарю за службу, и что они могут быть свободны, а сам собираюсь идти, куда меня отведут.
Милко, весь полный восторгом, отвёл меня к себе в комнатку, располагавшуюся в отдельном здании, где жили все служители канцелярии.
– Самое ценное спасено, – повторил он, залезая под кровать, и начал вытаскивать оттуда, из темноты стопки книг.
Комнатка была настолько мала, что трое слуг-греков, сопровождавшие меня, остались снаружи, и теперь заглядывали в дверной проём, чтобы посмотреть на спасённые ценности. Там оказался и Златоуст, и множество других греческих книг – даже Платон. А затем на свету очутилась пухлая папка, которую я сразу узнал, но тут же подумал: "Лучше б она пропала".
– Мне сказали, что за каждый лист в ней ты заплатил по золотому, – продолжал улыбаться Милко, стоя на коленях и протягивая мне спасённое "сокровище".
– Ты знаешь, что здесь собрано? – спросил я, принимая папку.
– Нет, – просто ответил он.
"В ней то, что когда-то мешало мне тебя любить", – подумал я, но не решился произнести вслух.
Теперь, когда моё сердце освободилось от власти Ахмеда-паши, поэзия этого человека тоже перестала влиять на меня. Раньше она указывала мне, чего желать. И мои мечты о безусых мальчиках во многом питались именно ею. Конечно, дело было не только в этом, раз подобная поэзия нашла в моём сердце благодатную почву, но как не отдаться во власть запретной мечте, если поэт, вызывающий в тебе восхищение и восторг, именует эту мечту истинной любовью.
А затем восхищение Ахмедом-пашой исчезло, и идеалы мои претерпели изменение. Выяснилось, что я совсем не хочу тосковать о безусых красавцах, и не хочу, чтобы они меня мучили, как это часто бывает в стихах. Безупречной красоте лица и жестокому сердцу я предпочёл бы добрую и чистую душу. Жаль, что Ахмед-паша сделал бы совсем иной выбор.
Казалось даже удивительным, насколько зависимым от поэта я был и не замечал своей зависимости. И удивлялся, почему моё внимание так настойчиво обращается на "малых". Раньше я проклинал себя за такие желания и спрашивал, почему с таким трудом сдерживаю это. А всему виной была любовь, ведь когда любишь, все поступки и суждения любимого кажутся правильными.
Да, любовь к Ахмеду-паше изменила меня, но по счастью отпустила, и я перестал грезить его мечтами. Для меня самого важнее был не возраст и не правильность черт, а то, как на меня смотрят. И поэтому захотелось сейчас же пойти к ближайшей печи, чтобы сжечь все эти листы, но теперь они, утратив прежнюю ценность, стали ценны по другой причине – Милко прятал и хранил их для меня. Сожжение обесценило бы усилия, поэтому мне следовало не кидать папку в печь, а прижать к сердцу.
– Благодарю за то, что берёг это, даже не зная, – произнёс я.
Милко поднялся на ноги и, мельком глянув на греков-челядинцев, шёпотом спросил:
– Мне приходить к тебе сегодня вечером?
– Конечно, – так же шёпотом ответил я. – Как начнёт смеркаться, пришлю за тобой.
* * *
Позднее, когда юноша пришёл ко мне, по привычке держа в руках письменные принадлежности, он был одет уже не в подрясник, а в один из своих кафтанов, сшитых по моему заказу, – в изумрудно-зелёный.
Когда Милко поспешно складывал то, что было в руках, на стол, я спросил:
– Почему сегодня ты встретил меня в одежде послушника? Разве ты снова собираешься в монастырь?
– Нет, – улыбнулся юноша, – но я носил эту одежду, пока Басараб был здесь. Монахи из канцелярии посоветовали мне сделать так, чтобы я ничем среди них не выделялся. А то Басараб мог спросить, почему я одет по-иному, и ему сказали бы, что я исполнял при тебе обязанности секретаря. А вдруг Басараб решил бы, что я знаю некие тайны, которые ему тоже полезно знать?
У меня вырвался вздох облегчения:
– А я всё боялся, что кто-нибудь выдаст тебя ему.
– Зачем выдавать, господин? – теперь Милко стоял передо мной, глядя мне в глаза. – Все знали, что он здесь ненадолго. Поэтому никто не собирался ему ни в чём помогать.
Он стремительно обнял меня за шею, прижался щекой к моей щеке:
– Господин, я тебя так ждал, так ждал! Если б не пришла весть о твоём скором возвращении, я бы не утерпел, ушёл за Дунай на турецкую сторону тебя искать. Каждый день думал об этом. Сидел в канцелярии, переписывал бумаги, а сам даже смысла того, что переписываю, понять не мог, потому что все мысли были о тебе. И я спрашивал себя: "Что мне делать здесь? Не лучше ли уйти?"
– Хорошо, что не ушёл, – ответил я, тоже обнимая его. – По дороге в Турции с тобой могло что-нибудь случиться.
– Но ведь путь к Святой земле тоже пролегает через турецкие земли, – возразил Милко, – и паломники как-то до неё добираются. Я бы прибился к паломникам и дошёл бы с ними до Истамбула, а если бы не прибился – дошёл бы один. Моя одежда монаха защитила бы меня. Меня бы не тронули.
"Как же мне быть? – мелькнула мысль. – Ведь если что случится, то взять Милко с собой к султанскому двору я не смогу. Мехмеду будет достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто этот юноша для меня".
Меж тем Милко разомкнул объятия и осторожно поцеловал меня в шею, в щёку, хотел поцеловать в угол рта, но я опередил и сам поцеловал возлюбленного в губы жадным поцелуем.
Милко для меня в эту минуту стал так красив! Эта красота была той, которая бывает только у истинно добрых людей, когда в лице вроде бы ничего особенного нет, но красота проступает изнутри, и лицо как будто светится. Теперь она затмевала для меня любую другую. Если бы мне вдруг встретился красавец с идеально правильными чертами и лукавым взглядом, и сказал бы "давай, попробуй завоевать моё сердце", я бы отказался. Слишком много в моей жизни было войн! Я хотел мира, и находил желаемое в объятиях своего нынешнего возлюбленного.
Как же я соскучился по нему! Соскучился по его податливому телу, которое охотно принимало меня без особенных уговоров. Соскучился по открытому взгляду, в котором не таилось и тени лукавства. Как же хорошо, когда можно упиваться любовью, как вином, ведь от любви наутро не болит голова. Как же хорошо не просто быть с кем-то на ложе, а открыть этому человеку своё сердце. Открыть без опасения, что через несколько часов, когда страсти улягутся, можешь услышать жестокие слова, свидетельствующие, что всё недавно случившееся означает совсем не то, чем оно тебе казалось.
Увы, но, когда вечер уже перетекал в ночь, мне самому пришлось проявить подобную жестокость. Милко попросил позволения остаться в моих покоях до утра, а я ответил:
– Нет, тебе лучше уйти.
– Но почему? – осторожно спросил он. – Ведь госпожи сейчас нет.
– Она скоро вернётся в этот дворец, и не нужно, чтобы ей по возвращении рассказали про меня странное, – ответил я.
Милко вздохнул, но покорился и, сев на краю кровати, стал натягивать рубаху.
Мне захотелось его ободрить, поэтому я передвинулся к нему поближе и погладил по спине, которая только что оказалась прикрыта рубахой:
– Послушай. Я забочусь о нашем благе. Ты должен мне верить. Я гораздо старше тебя и знаю, как будет лучше. Ведь если наша с тобой связь откроется, мы уже не сможем быть вместе. Тебя заберут у меня, отвезут в монастырь, а если я попытаюсь помешать этому, меня запрут как безумного. Всё, что мне останется, это прилюдно каяться. Если не захочу, меня продолжат считать безумцем, и я потеряю всё, что у меня есть: семью, власть, всё.
– Но почему с тобой должны так поступить, если многие христианские правители позволяют себе утехи с юношами? – спросил Милко. – Как я слышал, в Италии это весьма распространено. И даже римские папы так поступают, и в этом нет угрозы для их власти.
– Их власть держится на силе оружия, силе золота или силе интриг, – ответил я, – а моя власть держится на любви народа. Если б меня не любили, я не вернул бы власть так легко, как сделал это сейчас. Меня любят, потому что я первым не начинаю войн, развиваю торговлю, а сам, если смотреть со стороны, являюсь образцом благочестия. Все знают о моих дарах монастырям и о том, как я помогаю погорельцам и нуждающимся. Никто ни разу не слышал, чтобы я завёл себе любовницу. А теперь представь, что откроется моя связь с тобой, то есть не с женщиной, а с юношей. Поднимется всеобщее возмущение. Многие после этого побрезгуют целовать мне руку. А другие, кто ещё сохранит расположение ко мне, решат, что меня надо спасать. И будут действовать решительно ради моего блага. Увы, но это будет означать, что я должен покаяться, а затем снова стать таким безупречным государем, которым меня привыкли видеть. Государя-содомита никто здесь не примет.
Милко продолжал сидеть, отвернувшись от меня, поэтому я ещё больше придвинулся к нему – так, что сумел поднырнуть ему под руку и посмотреть в лицо снизу вверх:
– Я ещё раньше говорил тебе, что знаю, как всё сложится, если наша связь станет известна. И говорил тебе, что мне всё равно. Так и есть. Я не боюсь оказаться грешником в глазах своих подданных. Но я не хочу потерять тебя. А ты разве хочешь, чтобы тебя забрали у меня и насильно вернули к монашеской жизни?
– Нет! – вдруг воскликнул юноша. – Пусть такого никогда не случится! – Он развернулся ко мне, явно собираясь обнять и поцеловать, а я чуть передвинулся и сел на постели, чтобы ему было удобно исполнить намерение. Я и сам несколько раз поцеловал возлюбленного. А тот снова поцеловал меня. Мы никак не могли перестать. Мысль о том, что когда-нибудь можно разлучиться, не давала нам оторваться друг от друга, и во мне снова проснулось желание:
– Ты рано одеваешься. Останься ещё на час или полтора. Час это не подозрительно и ничему не повредит.
* * *
Я усвоил урок прошлого раза: на войне, если тебя ударили, нельзя оставлять удар без ответа, ведь тогда враг будет бить ещё и ещё. Я запомнил урок сожжённой Брэилы, поэтому теперь без колебаний отправил семнадцать тысяч турок грабить южные окраины молдавских земель.
Турки, если отправлялись в поход, не хотели вернуться обратно без добычи. Таков был порядок. И не важно, получали ли они плату как наемники или отправлялись воевать по приказу султана. Возвратиться они должны были с добычей. "Вот пусть и получат её, – думал я. – Пусть Штефан вспомнит, как это ощущается, когда тебе докладывают, что селения твоей страны разграблены и сожжены. Пусть ощутит вину перед своими людьми, которых не смог защитить".
Правда, что-то подсказывало мне, что он ощутит не вину, а гнев, и снова придёт в мою страну с войском. На этот раз не только для того, чтобы посадить "более достойного" государя на румынский престол, но и для того, чтобы мне отомстить.
– Как думаете, советники мои, как скоро он придёт? – спросил я через два дня после Рождества, когда бояре по обыкновению собрались в тронном зале моего дворца на совет.
– Может, и через месяц придёт, – ответил Стойка, встав со своего места на скамье, стоявшей справа вдоль прохода к трону.
Формально в совете ничего не изменилось. Бояре размещались на скамьях всё так же: кто сидел на первых местах, то есть ближе всех ко мне, продолжали там сидеть, и никого из тех, кто сидел дальше, я не пересадил поближе. Вот и Стойка занимал всё то же место, которое положено занимать начальнику конницы, но все присутствующие знали – теперь я прислушиваюсь к этому человеку гораздо больше, чем к остальным, а за спасение своих сыновей пожаловал ему два новых имения.
– Не холодно ли ему будет воевать? – продолжал спрашивать я. – Зима – плохое время для войны. Не лучше ли подождать, когда потеплеет?
– Всё возможно, государь, – ответил Стойка. – Но Штефан ведь знает, что в тёплое время года нам проще получить от турок помощь. Турки теплолюбивы и охотнее идут в поход, когда снега нет. Даже те, которые сейчас на пути в Молдавию, идут лишь потому, что исполняют волю султана, и потому, что надеются погреться возле горящих молдавских домов, – он улыбнулся. – Я ведь прав, государь, когда говорю, что, будь сейчас весна, султан дал бы нам гораздо больше людей?
В этом вопросе не было подвоха, ведь Стойка не знал, что султан, принимая решения, думает не столько о пользе для своего государства, сколько о своих личных выгодах. Будь мне двадцать пять лет, а не тридцать шесть, Мехмед дал бы мне гораздо больше войск. И если бы я обещал ему своих сыновей в заложники, он дал бы мне гораздо больше.
– Когда султан принимает решения, у него может быть множество соображений, о которых он не говорит до времени, – ответил я. – Поэтому неизвестно, сколько людей мне досталось бы, будь сейчас весна. Если султан наметил на лето новый поход, то станет беречь своих воинов и не захочет утомлять стычками со Штефаном.
– А если он подумывает о походе на Штефана? – спросил Стойка. – Он наверняка заметил, что последнее время от молдаван слишком много беспокойства.
– Если так, султан сказал бы мне как соседу молдаван, что собирается воевать с ними, – ответил я и задумался. – А впрочем... он мог решить, что лучше держать это в секрете.
Стойка продолжал ждать, что ещё я скажу о возможных планах Мехмеда, но мне действительно нечего было сказать. В прежние времена, когда я был ближе к султану, многие его планы становились известны мне гораздо раньше, чем другим.
"Запомни эту минуту, Раду, – шепнул мне внутренний голос, – вот так ощущают себя другие вассалы султана. И теперь ты такой же, как они, потому что знаешь о намерениях Мехмеда не больше, чем все остальные".
Я ничего не мог поведать Стойке и поэтому снова начал его спрашивать:
– Так значит, ты думаешь, что Штефан опасается, что я получу от турок большую помощь? Больше той, которую уже получил?
– Посмотрим, насколько велик будет гнев Штефана, когда в Сучаву придёт весть о разорении южных молдавских земель, – ответил Стойка. – А может, эту весть опередит Басараб, когда явится к Штефану и скажет, что изгнан. Если Штефан сильно разгневается, то решит, что лучше собрать поменьше людей, но прийти к нам зимой. А если он разгневается не очень сильно, то решит всё же выждать, собрать побольше людей и прийти к нам весной или в начале лета. Но, конечно, он будет понимать, что чем позже выступит, тем больше вероятности, что ему придётся иметь дело не только с нами, но и с турками.
– С турками он уже имеет дело, поскольку мы отправили их грабить, – напомнил я.
– Это для Штефана пустяки, – вздохнул Стойка. – Они пограбят и уйдут. И даже не станут дожидаться, когда Штефан соберёт войско, чтобы их выгнать. Они не дураки, чтобы вступать в бой, когда на руках добыча. Нет, они пограбят и убегут, а Штефан задумается, идти ли к нам сейчас, или позднее.
Пожилой Нягу с окладистой рыжеватой бородой, сидевший на первом месте справа, то есть той же скамье, что и Стойка, но гораздо ближе к трону, осмелился спросить:
– Государь, а чем же мы встретим Штефана, если он придёт через месяц? Мы уже докладывали тебе, что казна сильно оскудела. Мы не дали Басарабу, когда он сбежал, забрать последнее, но Штефан, когда нас пограбил, много золота из подвалов забрал. Если не воевать, то до осени как-нибудь дотянем, но денег на войну у нас нет совсем. И даже то, что ты скопил на чёрный день, нам не поможет.
Я вздохнул, когда мне напомнили о накоплениях, которых теперь не осталось. Не один год я откладывал деньги, чтобы в случае, подобном нынешнему, не бороться за власть, а уехать в Трансильванию и жить там вместе с семьёй в одном из укреплённых городов. Я скопил столько, что хватило бы на безбедное существование до конца моих дней, но невозможно было уехать, когда жена и дочь оставались в плену.
И даже на выкуп эти сбережения не получилось бы потратить, потому что Штефан пока не начинал переговоры об этом. Зато уже сейчас требовались деньги, чтобы платить жалование гарнизонам крепостей, таможенникам и другим служилым людям, следовало содержать двор и даже думать о далёком будущем – об осени, когда придётся отвозить дань, от которой никто меня не освобождал. Дань я отвозил в начале сентября, когда период сбора податей за минувший год только-только начинался, то есть, если не предусмотреть заранее, деньги на дань могли своевременно и не найтись.
Вот почему я, больше повинуясь внутреннему чутью, чем действуя по расчёту, положил почти всё накопленное в общую казну. Об этом было объявлено на рождественском пиру, когда бояре, видя, что празднество получилось богатое, стали спрашивать меня, надо ли устраивать такое, если казна пуста. Услышав про мои сбережения, которые покрыли почти все прежние потери, бояре ободрились, и я был доволен, а вот теперь начал жалеть: "Что толку в моём поступке, если денег на войну всё равно нет? Меня сгонят с трона и всё, что я так щедро отдал в общую казну, украдут, положат в свой карман. Штефан положит или Басараб – не важно".
Я посмотрел на Стойку в надежде получить совет на счёт войны и вдруг опять подумал, что он своими чёрными усами и бойким характером чем-то напоминает мне Влада – моего старшего брата.
И тут решение пришло само. Даже не знаю, как мне раньше не пришло подобное в голову. Не нужно быть опытным военачальником, чтобы суметь применить против врага подобное средство.
Я расправил плечи и, спокойно оглядев всех присутствующих, произнёс:
– Значит, мы в случае войны встретим врага так, как когда-то мой брат встречал его на этой земле: не оставлял вражескому войску ничего съестного. Когда появятся молдаване, мы должны заранее узнать об этом, а затем будем ехать впереди них и отдавать всем нашим жителям одно и то же повеление: пусть берут всё своё имущество и скот, и уходят на северо-запад. Даже сено они не должны оставлять, а если не могут увезти, пусть сжигают. Если холод не остановит Штефана, то голод остановит и заставит повернуть обратно в Молдавию.
* * *
Штефан снова явился в мою страну в начале марта, когда с полей уже сошёл снег. Это время подготовки к пахоте, все крестьяне весьма заняты, в деревнях кипит работа, поэтому молдавский князь, кажется, был немало удивлён, встречая на своём пути лишь пустые селения.
Однако через несколько дней удивление сменилось беспокойством, потому что оказалось, что его людям скоро будет нечего есть. Припасы, взятые в поход, заканчивались, а кони теперь вынужденно питались прелой соломой, покрывавшей крыши домов в покинутых деревнях, и остатками прошлогодней травы на пастбищах. Ничего другого найти не удавалось, поэтому если попадались селения, где крыши покрывала не солома, а камыш, то коням приходилось совсем тяжело.
Именно поэтому Штефан решил идти не вдоль Дуная, а напрямик, к моей столице, но с осени мы основательно укрепили в Букурешть все ворота, поэтому мои бояре, получая донесения о приближении молдавского войска, только посмеивались:
– Что ж, пусть поголодают, стоя у нас под стенами.
К тому времени Штефан уже понял, что его ждёт, поэтому в гневе предавал покинутые селения огню. А может, таким образом он согревал свою армию, ведь голодному человеку и голодному коню весенний холод кажется зимней стужей.
Явившись к Букурешть, молдаване окончательно поняли, что у них нет возможности вести осаду. Они увидели, что все ворота в крепости новые, а главное – вокруг города не найти ни одного селения, где можно было бы достать еды.
И всё же Штефан не хотел уходить, не предприняв совсем ничего, поэтому он отправил к восточным воротам посланца, который прокричал, что молдавский государь приглашает меня в свой лагерь для разговора.
Бояре настоятельно советовали мне не покидать крепость, поскольку опасались обмана, но я понимал, что в обещанном разговоре речь пойдёт о моей жене и дочери, об условиях их возвращения, поэтому отказываться нельзя.
Тем не менее, по настоянию бояр я выдвинул условие, что Штефан должен сам явиться к восточным воротам и у всех на глазах, целуя крест, поклясться, что в то время, пока я буду за пределами Букурешть, никто не попытается взять меня в плен или штурмовать город.
Штефан поклялся, а когда ворота открылись и я в сопровождении небольшой свиты выехал ему навстречу, молдавский князь улыбнулся и сказал:
– Доброго дня тебе, супротивник мой. Будь моим гостем сегодня, – и, повернув коня, широким приглашающим жестом указал на молдавский лагерь, раскинувшийся неподалёку в поле у того же самого леса, где мы минувшей осенью столкнулись в битве.
* * *
Мы воевали в общей сложности уже полгода, но лицом к лицу я своего противника увидел впервые, поэтому мысленно отметил, что тот совсем не молод. Это казалось удивительно, ведь я знал, что Штефан дружил с моим старшим братом Владом и что они почти ровесники, то есть молдавский князь был старше меня лет на семь-восемь. Почему же он казался таким утомлённым жизнью? Почему в его волосах, светлых подобно моим, уже появились целые пряди седины? Почему усы выглядели такими поникшими? Почему лицо казалось совсем увядшим? Правда, когда он улыбался, то выглядел заметно лучше, потому что в улыбке и глазах проскальзывало что-то по-юношески задорное, почти мальчишеское.
Когда мы въехали в лагерь, и настало время спешиваться, я опять удивился, потому что Штефану поставили с левого боку от коня что-то вроде деревянного крылечка. Слуги крепко держали коня под уздцы, а молдавский князь высвободил ноги из стремян, встал левой ногой на верхнюю ступеньку, а затем перекинул правую ногу через лошадиный круп и поставил туда же. Повернуться и сойти вниз по ступенькам ему помогали двое слуг, держа за правую и левую руку.
Я спешивался как все, то есть просто спрыгнул на землю, и теперь молча взирал на происходящее, а Штефан снова улыбнулся и пояснил:
– Давняя рана на левой ноге беспокоит. Ногу нельзя тревожить, но, слава Богу, я хоть могу на эту ногу опереться и ездить на коне как воин.
Чуть прихрамывая, молдавский князь проследовал к своему походному шатру и предложил мне зайти внутрь. Там было темновато, но тепло. Посреди шатра стоял мангал с горячими углями. Рядом с мангалом – накрытый стол, но почти ничего кроме вина на столе не было.
– Звери в лесу будто нарочно попрятались, – опять улыбнулся Штефан. – Ни оленя, ни вепря не добыть.
Он как будто забыл, что это мой лес, и что, если бы охота оказалась удачной, сейчас меня угощали бы олениной или кабанятиной, добытой без моего разрешения, однако я предпочёл не заводить об этом речь, но мысленно пообещал: "Сам велю, чтобы мои лесники постарались для тебя, если скажешь, сколько я должен заплатить, чтобы вернуть домой жену с дочерью".
– Зато вино отменное, – продолжал оправдываться Штефан. – Выпьешь со мной?
Я с опаской взглянул на кубки, а молдавский князь налил вино в один из них, отпил, а затем протянул початый кубок мне:
– Так поверишь?
Это свидетельствовало, что в вине нет яда, и сам кубок не намазан отравой. Конечно, можно было предположить, что Штефан заранее принял противоядие, поэтому пьёт спокойно, но от такого человека, воина, вряд ли следовало ожидать подобной хитрости: лишь византийские придворные в эпоху расцвета империи травили друг друга и своих василевсов так изощрённо. Значит, следовало рискнуть и принять предлагаемое питьё.
– Что-то ты всё молчишь, мой супротивник, – вновь улыбнулся Штефан, наполняя второй кубок и жестом предлагая мне сесть в одно из двух деревянных кресел возле стола.
– Молчу, потому что пришёл сюда не говорить, а выслушать то, что ты скажешь, – ответил я.
– Тогда слушай, – отозвался Штефан, тоже садясь за стол напротив меня и отпивая из кубка. – Мне надоело с тобой воевать, поэтому хочу предложить тебе союз – такой союз, который твой брат Влад когда-то предлагал мне. Объединимся и будем воевать вместе против турок.
Наверное, на моём лице так ясно изобразилось недоумение, что молдавский князь поспешно добавил:
– Не торопись отказываться, слушай дальше. Я знаю, что сейчас тебе это не выгодно, потому что ты ухитрился подружиться одновременно и с венграми, и с турками. Но это хрупкое равновесие не вечно. Когда турки пойдут в новый поход на север, на христианские страны, тебе придётся выбирать сторону. И в любом случае окажешься между двух огней. Твой брат Влад в своё время тоже думал об этом. И он выбрал сторону христиан. Так поступит всякий истинный христианин. Поступи так и ты.
Я хотел напомнить Штефану, как венгры предали моего брата, отказали в помощи в самую трудную минуту и позволили потерять трон, но мой собеседник будто угадал мои мысли.
– Я знаю, что венгры ненадёжны как союзники. Но и турки ненадёжны. Турки не придут на помощь, если к тебе из-за гор явятся венгры, чтобы посадить на твой престол своего человека. Турки и сейчас не очень-то тебе помогают. А вот я помогу, если что. Обязательно помогу. И это не просто обещание. Силу моего войска ты знаешь. Поэтому тебе будет лучше заключить союз со мной. А чтобы ты получил от союза только выгоды, предлагаю до времени сохранить всё в тайне. Поверь: года через два будет новое большое наступление турок на христианские страны, и тогда ты будешь благодарить Бога, что у тебя есть союзник вроде меня. Узнав, что мы с тобой в союзе, венгры не захотят с тобой ссориться. А турки не смогут ограбить твои земли, потому что мы вместе дадим отпор.
– А как же Басараб, который наверняка сейчас в твоём лагере и которого ты собирался посадить на мой трон? – спросил я.
– Он никчемный человек, – махнул рукой Штефан. – Сажать его на трон – всё равно, что пытаться поставить на место срубленную голову. Чуть ветер подует, и она снова на земле. Я даже обещал себе – если ещё раз посажу, а опять не удержится, больше не стану сажать. Никчемный это человек. А вот ты сидишь на троне крепко. И ещё ты, как мне кажется, несмотря ни на что уважаешь своего старшего брата и не откажешься пойти по его стопам, воевать с турками. А позднее, может быть, Влад и сам к нам присоединится, и будем бить турок втроём. Что скажешь? Может, мне уже сейчас погнать Басараба из своего лагеря. Пусть катится, куда хочет. Никчемная голова.
Слова о голове меня покоробили, но на мгновение мне показалось, что предложение хорошее. Даже если слова Штефана о моём брате были лишь уловкой, чтобы убедить меня, возможный союз не таил в себе угрозы: "Если что, союз можно и разорвать, но если сейчас сказать "да", то я вправе потребовать, чтобы мне вернули жену и дочь без всякого выкупа".
Именно об этом и был мой следующий вопрос:
– А как же мои жена и дочь? Если я заключу с тобой союз, как поступишь с ними?
– Жену тебе верну без всякого выкупа. Хочешь – сам приезжай и забирай. Хочешь – пришлю тебе её. Не беспокойся – не голую пришлю. Приедет она к тебе, как невеста с большим приданым.
Я пропустил эту грубоватую шутку мимо ушей:
– А дочь? За неё мне платить придётся?
– А вот дочь твоя останется жить у меня, – улыбнулся Штефан. – Это мне залог, чтобы ты не передумал и не разорвал наш с тобой союз. Так оно надёжнее будет.
На мгновение мне показалось, что я ослышался:
– Залог? Ты разве турок, чтобы брать такие залоги? Да и не могу я свою дочь так позорить. Ей вот-вот одиннадцать лет исполнится. Почти невеста. А если она у тебя останется, что люди подумают? Что ты её нарочно при себе держишь, ждёшь, пока она в возраст войдёт, чтобы с ней... А ведь у тебя, как я слышал, жена.
Я всё надеялся, что Штефан сейчас захохочет и скажет: "И впрямь глупость выходит. Договоримся о другом залоге". Однако мой собеседник не засмеялся – лишь улыбнулся, и было в этой улыбке что-то мечтательное:
– Жену мою никто не спрашивает. Да и скажу тебе честно: не будь у меня жены, я бы твою дочь за себя посватал. Сам знаю, что в возраст не вошла, но уже сейчас видно: красавица будет редкая.
Я отодвинул в сторону кубок, встал и перегнулся через стол, чтобы посмотреть на собеседника в упор:
– Нет, погоди. Ты мне, отцу, прямо говоришь, что собираешься с моей дочерью жить без венчания, когда она в возраст войдёт? А я ещё с тобой военный союз заключить должен, чтобы скрепить эту незаконную связь? Ты что!? Опомнись!








