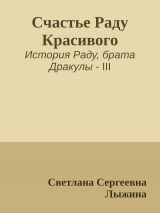
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Я не предпринимал решительных шагов ещё и потому, что сомневался – не испугается ли Милко даже поцелуя? Монашеское воспитание должно было иметь последствия, и они проявлялись: юноша вёл себя при моём дворе очень скромно и продолжал ходить в подряснике, а ведь монахом не являлся и носил мирское имя.
При дворе существует множество соблазнов хотя бы потому, что большие церковные праздники в княжеском дворце отмечаются очень широко: все пируют. И даже челядь получает угощение с вином, поёт, пляшет, а те, кто помоложе, устраивают весёлые игры в дворцовом саду, будто дети. Милко сторонился всего этого. Лишь смотрел издали. А ведь мог бы участвовать, если б снял подрясник хоть на время. Что плохого в том, чтобы от всего сердца повеселиться на Пасху или на Рождество? Но нет!
Этот юноша, несмотря на свои особые влечения, казался благочестивым сверх всякой меры. А что если б он, поначалу поддавшись страсти, на середине пути ужаснулся тому, что совершается? Что если бы он убежал, а после стал думать, что я – сатана в человеческом обличье и послан ему для искушения? И тогда мне сделалось бы досадно, что я уже не способен вызвать такую страсть, которая берёт верх над разумом и над благочестием.
Мне невольно вспоминалась библейская история про юного Иосифа, которого пыталась соблазнить женщина, бывшая старше его – жена богатого египтянина, звавшегося Потифар. Иосиф так испугался настойчивой соблазнительницы, что убежал прочь полуголый, оставив у неё в руках часть своей одежды.
Согласно Библии, Иосиф бежал только потому, что был чист сердцем и праведен, но мне неизменно представлялась стареющая женщина, которая не могла особенно прельстить, однако была ослеплена страстью и забыла, что уже не юна.
Наверное, в моём воображении христианский рассказ переплёлся с мусульманским, где упоминалось, что Потифар с женой могли бы Иосифа усыновить. Потому мне и виделась вполне определённая история – увядающая женщина домогалась того, кто годился ей в сыновья.
Я совсем не хотел оказаться в роли жены Потифара, но сомнения по поводу того, на что влюблённый послушник готов, а на что не готов, воодушевляли меня. Ведь они служили перилами возле пропасти. Когда есть перила, можно разгуливать по краю бездны, наслаждаться тем, как кружится голова, но при этом знать, что сорваться трудно или даже невозможно.
Ах, какое чудесное чувство – наслаждаться любовью и не расплачиваться за это! Но всё же любовь надо было подогревать, поэтому Милко довольно быстро сделался кем-то вроде моего личного секретаря. Я часто звал его вечером в свои покои, чтобы продиктовать письмо к брашовским или к другим жителям за горами: переписка велась очень живо, ведь мне вечно приходилось разбирать споры между загорскими и румынскими купцами.
Диктовать письма по вечерам было вовсе не обязательно, хватило бы и дневного времени, но я стремился, чтобы ум влюблённого получил пищу для мечтаний.
Конечно, следовало соблюдать меру и в спальню не звать – лишь в библиотеку, но для такого скромника как мой новый секретарь, оказалось довольно и библиотеки.
Помню, как впервые пригласил этого юношу к себе, и как он оказался смущён, увидев, что государь, устроившийся в резном кресле возле шкафов с книгами, не вполне одет. На мне была сорочка с расстёгнутым воротом и порты для сна, а поверх этого – просторный персидский халат. Писарь опустил глаза, но вдруг задержал взгляд на моих ступнях. Судя по всему, его поразило то, что я оказался бос, если не считать турецких домашних туфель с загнутыми мысками. "Вот, значит, как, – мысленно произнёс кто-то у меня в голове. – Этим ты его пленил? Ступнями?"
Я вальяжно потянулся и положил ноги на ковровую подушку, валявшуюся на полу, а затем чуть согнул правое колено, так что туфля на ноге вот-вот готова была соскочить с кончиков пальцев.
Милко продолжал молча смотреть. Он прямо-таки впился взглядом в обнажённую кожу, но это не могло продолжаться долго. Мне следовало начать разговор.
– Хотел надиктовать тебе письмо не сегодня, а завтра, – будто оправдываясь, произнёс я, – но оно уже сочинилось в голове. Так и вертится в мыслях. – Я сделал неопределённое движение правой рукой. – Вертится и не даёт заснуть. А когда я, наконец, засну, то забуду все слова и фразы, уже подобранные. Будет жаль. Поэтому запиши сейчас.
Писарь поклонился, аккуратно сложил на стол принесённые с собой письменные принадлежности, а затем сел, взял очинённое перо и приготовился записывать.
Я продиктовал письмо, нарочно придуманное для этого случая, и велел показать, что получилось, а дальше с улыбкой наблюдал, как юноша подходит ко мне и почти с закрытыми глазами протягивает лист.
– Что тебя смущает? – спросил я. – Ты ведёшь себя так, будто пришёл в покои к чьей-нибудь жене. Но ты не Иосиф, а я не жена Потифара, которая пытается тебя соблазнить. Мы оба мужчины.
Он открыл глаза, окинул меня взглядом с головы до ног, весь вспыхнул и, потупившись, пробормотал:
– Я не поэтому смущён, господин. Ты пригласил меня в покои, куда ходят немногие. А в такое позднее время – почти никто. Поздно вечером приглашают лишь людей доверенных.
– Да. И что же? – спокойно произнёс я.
– Значит, господин, я твой доверенный человек? Но вдруг я ошибся? Может, ты пригласил меня случайно, а не потому, что благоволишь? Я сомневаюсь и потому смущён.
– А ты не сомневайся, – всё так же спокойно произнёс я. – И дай мне уже этот лист.
Как всегда ровные строчки и чёткие буквы. Но рука, подавшая лист, чуть подрагивала.
Я с напускной задумчивостью прочитал письмо, а затем сделал знак юноше ещё приблизиться и встать возле моего правого плеча, чтобы смотреть в лист одновременно со мной.
– Вот здесь, – я ткнул пальцем в строчку, – допишешь... – и продиктовал длинную фразу, которая заняла бы не менее полутора строк.
Было слышно, как Милко чуть посапывает носом: от волнения дыхание участилось и сделалось более шумным.
– Да не робей ты так передо мной! – я чуть толкнул писаря правым локтем в бок и весело хмыкнул. – Знал бы ты, как я устал видеть кругом склонённые головы и опущенные взгляды! Кругом одно почтение, а я хочу, чтобы на меня смотрели с любовью.
– Я...
– На, допиши то, что я сказал.
Милко бегом кинулся к столу и принялся торопливо чиркать пером по бумаге, но когда вернулся, то смотрел на меня уже смелее и даже чуть улыбался:
– Вот, государь, – он протянул письмо.
Я ещё раза четыре гонял его что-то дописывать, а затем сказал:
– Вот теперь хорошо. Можешь идти.
Мой писарь собрал письменный прибор, поклонился и, пятясь, вышел из комнаты, а на самом выходе чуть не споткнулся о порог.
"Нескладный", – подумал я, но этот явный недостаток поклонника не досаждал мне, а забавлял и даже умилял. Когда не принимаешь поклонника всерьёз, то многое ему прощаешь.
* * *
Странно, но стоило мне, находясь на постоялом дворе в Велико Тырново, избавиться от лишней растительности на лице и теле, как я почувствовал себя уверенно, будто такой мой внешний вид мог чему-то помочь. На протяжении всего пути в Эдирне, то есть в старую турецкую столицу, я чувствовал лёгкость, хотелось весело улыбаться, а особенно радовала мысль, что султана в городе нет, так что можно пока не беспокоиться о том, как меня примут, и не бояться обычного укора: "Ты стареешь".
Мехмед находился в новой столице, в Истамбуле, где за минувшие десять лет почти достроили дворец, поэтому наибольшую часть времени султан проводил там, и следом переехало большинство чиновников, а в Эдирне остались лишь некоторые из них, которые отвечали за управление европейской частью Турции, то есть Румелией.
Именно в новую столицу, в Истамбул теперь следовало доставить деньги, которые я вёз с собой как дань, и там же мне следовало показаться на глаза своему повелителю, чтобы не возникло подозрений, будто мои чувства верноподданного ослабли. Однако я, помня о том, что придётся ехать в Истамбул, думал прежде всего не о султане, а о том, что, возможно, мне улыбнётся удача и по дороге попадётся хороший попутчик.
В Эдирне время от времени приезжали визиры, а затем возвращались в Истамбул, и вот однажды мне посчастливилось проделать весь путь из старой столицы в новую вместе с одним из визиров, которого звали Ахмед-паша. Но я счёл себя удачливым вовсе не потому, что этот человек был визиром, а потому что он был поэтом – лучшим в Турции, и это не только моё мнение. То, что Ахмед-паша – лучший, признавали все, и даже султан.
Разумеется, дар к стихосложению предполагает нечто большее, чем просто умение складывать слова в строки. К этому дару прилагается живой ум и остроумие, а также умение вести беседу. Вот и Ахмед-паша оказался прекрасным собеседником, умеющим нравиться, и этот его талант был настолько ярок, что делал своего обладателя красивым даже внешне, хотя, если уж судить со всей строгостью, внешне этот человек был не особенно красив.
Говорили, что Ахмед-паша – один из потомков пророка Мохаммеда, а пророк, если верить мусульманам, отличался несравненной внешней красотой. Следовательно, и потомкам должно было перепасть что-то из этой красоты, но Ахмеду-паше досталось не очень много. Он даже на араба не был похож, хотя борода его была чёрной.
"Гордая осанка, холёная борода, холёные руки и дорогой кафтан – слишком мало для красоты", – так сказал бы тот, кому не доводилось слышать речи Ахмеда-паши, а лишь видеть его, однако стоило Ахмеду-паше начать говорить, как его лицо менялось. Глаза, светившиеся умом, невозможно было назвать некрасивыми. И невозможно было назвать некрасивым рот, произносивший прекрасные фразы, где прозу то и дело перемежали стихи.
Ахмед-паша славился тем, что сочинял стихи почти во всякую минуту, так что за ним всегда следовал слуга, который их записывал, но сочинитель был строг к себе, поэтому наибольшая часть из записанного нещадно сжигалась. К счастью, не всё. А то, что сохранялось, со временем приобретало идеально отточенную форму и в таком виде становилось достоянием окружающих, которые переписывали себе каждый стих и копили эти стихи, как богатство, чтобы перечитывать на досуге.
Каждый сколько-нибудь образованный человек при дворе был рад раздобыть новое стихотворение Ахмеда-паши. Я тоже собирал эти стихи и тоже радовался, когда мне удавалось пополнить "копилку", а ведь до встречи с Ахмедом-пашой не особенно любил поэзию.
Я ещё в отрочестве по воле Мехмеда начал читать восточных поэтов. Читал и персидских сочинителей, и турецких, но по-настоящему любимыми у меня в то время стали лишь четыре-пять стихотворений и среди них, конечно, не было ни одного, которое сочинил бы сам Мехмед.
Признаваться в том, что не любишь стихи, не следовало, но всё же я частично признался, когда мы с Ахмедом-пашой неспешно ехали по пыльной дороге, ведшей через поля.
Всё началось с того, что он, глядя на селян, работающих в поле, задумчиво произнёс пару двустиший, посвящённых жатве и осени. Что-то вроде:
Холодным ветром осень мне сердце остудила.
То, что ценил я раньше, теперь уж мне не мило.
Пусть в житницах богато, но в сердце – оскуденье.
Зачем же мне богатство, когда любовь остыла?
А затем он попробовал выразить ту же мысль иначе:
Богаты мы, когда по осени обилен урожай,
Зато оскудевает сердца благодатный край.
Горели страсти в сердце – скоро будет пепел.
Богатства чувств исчезнут, как ни сберегай.
Я до сих пор помню, как Ахмед-паша выглядел в ту минуту. Лёгкий всадник в тяжёлых длиннополых одеждах, восседавший на гнедом тонконогом жеребце. Этот всадник как будто забыл, что сидит не на софе в своём доме, а в седле. Взгляд, обращённый куда-то вглубь сознания, не позволял всерьёз заподозрить, что стихи, которые я услышал, сочинены заранее и теперь преподносятся как только что родившиеся.
Даже конь, начавший беспокойно жевать железо и ронять пену изо рта на дорогу, не мог вывести сочинителя из задумчивости, поэтому я нарочито громко сказал:
– Мне кажется, что первое более удачно, уважаемый Ахмед-паша.
Он оглянулся на меня и серьёзно спросил:
– Те строки тронули твоё сердце, Раду-бей?
Тогда я ответил, что поэзия трогает меня не так сильно, как иных людей, но Ахмед-паша оказался нисколько не смущён таким поворотом дела. Он внимательно посмотрел на меня:
– Неужели, нет совсем ничего, что по-настоящему вызывает душевный отклик?
Я прочёл одно из своих любимых стихотворений, а Ахмед-паша вслушивался, после чего спросил, есть ли ещё что-то.
Я прочёл ещё три стиха, а затем вдруг услышал, как мой собеседник произносит строки, мне незнакомые и не похожие по содержанию на то, что я только что читал, но созвучные моим мыслям, которые в нашем разговоре не высказывались.
– Тебе нравится, Раду-бей? – спросил визир-поэт.
– Да, – с некоторым удивлением ответил я.
– А насколько я сумел тебе угодить?
– Настолько, что я не могу не спросить: это твои стихи? Если да, то мне хотелось бы услышать стихотворение целиком, а ещё лучше – получить его на бумаге.
Ахмед-паша засмеялся:
– Да, это моё. И если оно понравилось, его тебе запишет мой секретарь, – он небрежно кивнул через плечо на человека, ехавшего на коне позади и недавно закончившего записывать строки об обильном урожае на нивах и об оскудении чувств.
– Но как ты догадался, что мне понравится? – недоумевал я.
– У всех стихов, которые ты назвал своими любимыми, один и тот же ритм... У всех, кроме одного. Разве ты не замечал?
– Я больше обращал внимание на смысл.
– О! Ритм тоже очень важен, – поэт выразительно покачал головой. – И вот доказательство: я прочёл стихотворение с тем же ритмом, и тебе понравилось. Как видно, этот ритм созвучен музыке, которую создают струны твоей души.
– Значит, мне понравится любое стихотворение, где ритм тот же? – с явным сомнением спросил я.
– Любое хорошее стихотворение, – поправил Ахмед-паша.
– Нет, это невозможно, – улыбнулся я. – Иначе у меня было бы много любимых стихов, но их всего несколько.
– Сила любви к тому или иному может быть разной, – с видом знатока сказал мой собеседник. – Тронуть сердце – ещё не значит завладеть им полностью. Есть стихи, которые повелевают нами, как истинный возлюбленный, а есть те, которые лишь подогревают нашу кровь, но о тех и других мы говорим "люблю".
– О нет, уважаемый Ахмед-паша, – на моих губах снова промелькнула улыбка. – Я не так влюбчив, как ты полагаешь, и не говорю "люблю" всем подряд.
– А мне кажется, ты влюбчив, Раду-бей. Хочешь, мы это проверим?
– Это будет интересно.
– Но ты должен обещать, что будешь честным, когда я попрошу тебя говорить о твоих пристрастиях. Если стихотворение понравится хоть отчасти, ты не должен говорить "не нравится".
– Хорошо, – я в который раз улыбнулся, после чего Ахмед-паша начал читать мне стихи, но к моему великому удивлению я не смог сказать "не понравилось" ни про одно.
До сих пор не понимаю, в чём была причина, ведь некоторые из услышанных стихов я читал прежде сам – прочёл и позабыл. Конечно, слушать стих, декламируемый самим сочинителем – совсем не то же, что видеть этот же стих на бумаге, и всё же...
Нет, я не понимаю, что меня пленило, ведь за мной даже не ухаживали, но стихи читались так, будто все они сочинены для меня. Когда Ахмед-паша произносил "краса", то будто обращался ко мне. Когда он хвалил глаза, белое лицо, волнистые локоны, то мне очень хотелось принять это на свой счёт, а мой собеседник словно не заметил, что мне нравятся стихи-восхваления, и начал читать другие.
Теперь это были стихи о страдании от неразделённой любви или от разлуки. Ахмед-паша говорил об умирании души, которая теряет способность ощущать что-либо кроме скорби, и мне снова казалось, что это про меня. А ведь тема была не нова. Все поэты затрагивали её. Я и раньше читал множество подобных стихов, читал в минуты печали, но подобная поэзия почему-то тронула моё сердце только сейчас.
Слушая Ахмеда-пашу, я порой говорил себе: "Это слишком. Вот сейчас снова прочтёт стихи о страдании, и я с полным правом скажу, что мне не понравилось, ведь всему нужна мера. Не хочу, чтобы на меня нарочно нагоняли тоску". Однако ощущение тоски всё не приходило, а была лишь лёгкая печаль, которая может показаться приятной.
В стихах часто повторялось слово "идол", идол красоты, и я невольно почувствовал себя идолом, но не таким, как в поэзии, а старым деревянным идолом, с которого облетела наибольшая часть золотых пластинок. Будь я идолом, то собрал бы с себя всё золото, ещё оставшееся, и протянул в ладонях Ахмеду-паше, сказал бы: "Возьми, здесь не так мало".
Мне захотелось, чтобы наступила ночь – безлунная, и чтобы нигде не горел ни один светильник. Мне представилось, что мы с моим чудесным попутчиком остановились на ночлег на одном и том же постоялом дворе. А дальше я вообразил невозможное – что беспрепятственно прихожу в комнаты Ахмеда-паши, как если бы не существовало ни бдительных слуг, ни запертых дверей.
В своих мечтах я разделил с ним ложе, и он, в темноте не видя моего лица, не спрашивал, кто я и почему пришёл. Поэт просто принимал от меня то удовольствие, которое я хотел ему подарить. А затем мне представилось, что он засыпает, а я так же молча и беспрепятственно возвращаюсь в свои комнаты, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось. Казалось, что такой исход лучше всякого другого, ведь ни один поэт не верит, что осенью может разгореться яркое чувство.
Мне хотелось просто отблагодарить этого человека за его стихи, но я слишком хорошо видел, что ему ничего от меня не нужно. Когда я искренне, без всякого кокетства сказал, что не слишком чувствителен к поэзии, это стало вызовом для Ахмеда-паши, ненадолго пробудило его интерес, но стоило мне открыть для поэзии своё сердце, как интерес поэта угас, ведь я стал таким же как все, слился с толпой почитателей. Это казалось очевидно, но мне уже не хотелось становиться прежним.
За мной не ухаживали, но я оказался покорён. Меня пленил голос, который произносил строки в том самом ритме, "схожем с музыкой моего сердца", хотя я по-прежнему не верил, что дело только в ритме, а Ахмед-паша настаивал на важности таких вещей.
Я отчаялся разгадать загадку чужого обаяния, но, наверное, это оказалось даже к лучшему. Постигнешь суть волшебства – и оно исчезнет, а я не хотел, чтобы оно исчезало, хоть и не давал воли мечтам.
После совместной поездки, трёх замечательных дней, проведённых в дороге рядом с лучшим поэтом Турции, я сказал себе, что мне не на что надеяться, поэтому ни к чему страдать, но всё же я позволял себе радоваться больше положенного, когда мне удавалось раздобыть новые стихотворения Ахмеда-паши.
В моём дворце в Букурешть, в библиотечной комнате теперь лежала пухлая кожаная папка с любимыми стихами. Я не прятал их, потому что кроме меня и моих слуг почти никто при моём дворе не мог читать по-турецки, а даже если бы прочёл эти строки, то не понял бы, почему я их так ценю.
* * *
Размышляя о давнем путешествии, я с досадой сознавал, что всё было бы иначе, если б мы с Ахмедом-пашой ехали по дорогам моей страны, а не по турецким дорогам. В Турции у меня не было никого, за чью судьбу я чувствовал бы себя ответственным, а вот в Румынии нёс ответственность за каждого подданного, а особенно за тех, кого к себе приблизил. В Турции султанский визир Ахмед-паша был приятный попутчик, а в Румынии стал бы опасным гостем, который может навредить моим подопечным.
Никому из моих малолетних воспитанников я не позволил бы даже показаться на глаза такому человеку. Восхищение талантом поэта, которое я чувствовал, сменилось бы беспокойством и тревогой, ведь Ахмед-паша среди прочего сочинял стихи и про юную красоту, а я слишком хорошо знал, что это означает. И точно такую же тревогу я испытал в один из летних дней, когда, выглянув в окно, заметил, что на моих воспитанников, играющих на задворках дворца в догонялки, смотрит Милко. Он сидел на ступеньках дворцового крыльца и наблюдал за чужой беготнёй.
"Что же я наделал? – вдруг подумалось мне. – Зачем привёз сюда такого человека? Ведь я знаю, кто он. Знаю его тайные склонности. Что если он, не получив ничего от меня, обратит внимание на тех, кто младше?"
Вместе с мальчишками бегала моя дочь – единственная девочка, которую они приняли в игру – и я, видя, как среди белых рубашек и кудрявых голов мелькает её розово-жёлтое платье и длинная тёмно-русая коса, решил выйти на крыльцо якобы затем, чтобы посмотреть на Рицу. На самом же деле мне хотелось получше вглядеться в лицо своего писаря, чтобы угадать его мысли, и если бы я заметил хоть что-нибудь подозрительное, то сразу же отослал бы в монастырь, из которого забрал.
Стараясь ступать бесшумно, я спустился по ступеням деревянной лестницы и выглянул в коридор, в конце которого находилась дверь на улицу. Тёмная фигура Милко, сидевшего на крыльце, была хорошо видна сквозь дверной проём, и даже лицо казалось можно разглядеть, если сделать несколько шагов вперёд, вдоль стены.
Кажется, впервые в жизни мне довелось идти по собственному дворцу крадучись, но сейчас было важно не это. Я сделал шаг, ещё шаг, как вдруг Милко обернулся, вскочил и поклонился, а игра во дворе тут же остановилось, потому что мальчики тоже замерли в поклоне.
Рица, стоявшая среди них, воскликнула в досаде:
– Отец! – и больше ничего не сказала. Лишь развела руками и вздохнула. Дескать, ты же знал, что все остановятся и будут кланяться. Зачем же мешать игре?
Я виновато улыбнулся:
– Играйте-играйте, – а затем посмотрел на Милко и жестом велел следовать за мной.
Пусть у меня не получилось подсмотреть, как он смотрит на детей, но я всё же не оставлял надежды уличить его, если есть, в чём.
Поглядывая на писаря, почтительно шедшего чуть поодаль, я начал подниматься по лестнице обратно в свои покои и нарочито непринуждённо произнёс:
– Вот уж не ожидал от тебя подобного.
– Чего, господин? – спросил Милко без всякой настороженности, которая, если б была, могла стать признаком недостойных помыслов.
– Странно, что ты проявляешь интерес к детским забавам, – так же непринуждённо пояснил я и добавил: – В твои годы смотрят на девиц и женщин, а не на детские игры.
– Я почти монах, господин, – напомнил Милко. – Смотреть на женщин мне нельзя.
Я резко остановился и обернулся, так что мой собеседник, поднимаясь следом, чуть не налетел на меня:
– А если б было можно, смотрел бы? – я весело улыбнулся, но Милко не разделял моего веселья и очень серьёзно ответил:
– Нет, господин. Я женщин не люблю.
– И девиц не любишь? – на моём лице сохранялось весёлое выражение.
– Не люблю, господин.
Я хмыкнул и молча продолжил подниматься по лестнице, а затем всё так же молча проследовал через комнаты своих покоев, пока не остановился в библиотеке, где сейчас не было никого из слуг.
Милко шёл за мной, а когда я, остановившись, снова посмотрел на него, то увидел, что он всё так же серьёзен и не разделяет моего веселья. Тема беседы ему явно не нравилась.
– Закрой дверь, – теперь так же серьёзно произнёс я, усаживаясь в резное кресло возле стола, а когда моё повеление исполнили, спросил: – Значит, поэтому ты решил стать монахом? Ты полагал, что если не любишь женщин, то быть монахом тебе окажется просто?
Я рассчитывал услышать "да", поэтому удивился, когда Милко, стоя передо мной, произнёс совсем иное:
– Я ушёл в монастырь не по своей воле, господин.
– А почему же?
– Потому что меня хотели женить, но не сладилось.
– Ты не согласился жениться? – спросил я.
– Нет, я согласился. Сделал, как велели родители, а они велели жениться, – последовал ответ, который окончательно меня запутал:
– Тогда я ничего не понимаю. Объясни толком, что же случилось.
Милко осторожно спросил:
– А зачем тебе знать, господин? Если ты спрашиваешь ради развлечения, то может быть, мне будет позволено не отвечать?
– Я должен знать, кого принял на службу, – твёрдо произнёс я. – И вопросы о твоей прошлой жизни мне следовало задать тебе раньше, но я всё откладывал... Так что теперь отвечай.
– Свадьбу сыграли, но когда дело дошло до брачной ночи, то я... не сумел.
Пусть мне по-прежнему было мало что понятно, но рассказчика следовало ободрить:
– Что ж. Такое случается.
– Я и после не сумел, – тихо продолжал Милко, – и тогда мои родители решили, что всё из-за того, что я неопытен и имею дело с девственницей, а с девственницами трудно.
– Соглашусь. С ними трудно.
– Поэтому они попросили одну женщину, чтобы... – Милко смущался, рассказывая это, и потому не договорил. – Но с ней я тоже ничего не сумел.
Теперь мне стало понятнее, поскольку я знал, что бессилие одного из новобрачных может стать причиной для объявления, что недавно проведённое венчание недействительно. Да и весь рассказ меня втайне обрадовал. Мне было бы спокойнее, если бы этот юноша оказался вообще не способен ни к чему.
Пусть причина неудач моего собеседника заключалась в том, что женское тело его не привлекало, это отнюдь не означало, что с мальчиком у Милко могло что-то получиться. Иметь дело с мальчиком, который не хочет, чтобы им овладели, это ещё труднее, чем иметь дело с девственницей, то есть за своих воспитанников я мог не беспокоиться.
Меж тем Милко принялся оправдываться. Очевидно, взыграла гордость:
– Это всё из-за волнения. Если б я не волновался так, у меня бы получилось, но я никак не мог справиться с собой.
Мне не удалось удержался я от замечания:
– Когда ты пишешь – тоже волнуешься, однако получается хорошо.
Милко пожал плечами:
– Когда я пишу, то знаю, что, как бы ни волновался, перо в моей руке всё равно останется твёрдым, а тут... А ещё очень трудно, когда смотришь на женщину и чувствуешь, что она не особенно хочет, чтобы я сумел. Она не противится, но и не хочет, а даже если говорит со мной ободряюще, то притворяется.
– Ты уверен, что умеешь читать в чужих сердцах? – спросил я.
Мне вдруг показалось, что Милко сейчас смотрит на меня, как в открытую книгу. И знает все мои мысли. И поэтому обманывает, притворяется неопасным. Однако такое его искусное притворство не вязалось с его обычным поведением: он вечно волновался и не мог побороть это волнение до конца. Даже сейчас, посмотрев мне в глаза, он, только что казавшийся спокойным, заволновался и неосознанно сжал в правом кулаке край правого рукава подрясника.
– Да там и читать было нечего, – меж тем сказал Милко, отвечая на мой вопрос. – Той женщине просто заплатили, а про мою невесту я с самого начала знал, что она не за меня хотела выйти, но наша семья считалась богатой, и эту девицу выдали за меня. А когда оказалось, что у меня никак не получается... и не только с ней не получается, то она решила не молчать. Мои родители говорили ей: "Молчи. Поживёте вместе, и само всё устроится". Она обещала, но в следующее воскресенье рассказала священнику на исповеди, а затем, как вышла из церкви, пошла и рассказала своей родне. И всем, кого по дороге встречала, тоже громко рассказывала, потому что кто-то ей объяснил, что раз я бессилен, то и венчание не считается. И она решила, что теперь сможет выйти замуж за того, кого хочет. А ей очень хотелось. Она с самого начала хотела выйти за другого жениха, не за меня, но мои родители были богаты и уговорили её родителей...
– Да-да, я понимаю, – кивнул я, представив, какое это унижение для мужчины, когда женщина рассказывает о его бессилии во всеуслышание. Я бы, случись со мной такое, тоже говорил: "Женщин не люблю".
– А раз вся деревня узнала, – продолжал Милко, – то священнику нашего прихода ничего не оставалась кроме как отправить письмо в епархию, чтобы там решили, как быть. И из епархии пришёл ответ, что мой брак несуществующий, а меня благословили жить в монастыре. В письме и название монастыря было.
– Той самой обители, откуда я тебя забрал?
– Да, – кивнул Милко, а затем вздохнул. – Епископ, когда принимал решение, конечно, заботился обо мне. Он думал, что если отправить меня в монастырь, то я смогу избежать насмешек. И мои родители решили, что тоже сумеют избежать насмешек, если я стану монахом. И я стал жить в обители.
Я не мог придумать, о чём ещё спросить своего собеседника, но Милко, стоя передо мной, вдруг сам перевёл разговор на другое:
– В обители мне поначалу было спокойно. Но здесь лучше, веселее. Здесь много детей...
Я невольно насторожился от слов о детях. Мне опять начало казаться, что Милко очень искусно лжёт и притворяется, а он меж тем сделался мечтательным:
– И те мальчики, которых ты воспитываешь, господин, они лучше, чем... те, которые были у нас в деревне.
– Вот как? Почему же? – я ещё больше насторожился, а Милко рассеянно улыбнулся и рассказал:
– В детстве меня никуда не пускали со двора, а когда мне исполнилось одиннадцать или около того, я стал частенько убегать, потому что было скучно. И нашёл себе друзей, таких же мальчишек. Но они не называли меня другом, потому что мне, чтобы стать среди них своим, следовало пройти много разных испытаний. К примеру, перебежать поле туда и обратно, ни разу не остановившись. А ещё – втайне нарвать на чьём-нибудь огороде горох. Я исполнял, что просили, хоть и подозревал, что испытание мне дают затем, чтобы посмеяться над моей неуклюжестью. Но я всё равно был доволен, когда те мальчики хвалили меня, а затем говорили: "Скоро ты уже станешь нашим товарищем. Совсем скоро".
Я не перебивал и мысленно радовался, что мой писарь не спрашивает меня, почему должен рассказывать ещё и об этом. А он, казалось, был рад рассказать, потому что до этого никому не рассказывал:
– А однажды они мне поручили влезть на дерево. Влезть, чтобы достать из гнезда птичьи яйца, но я не смог это выполнить, упал и довольно сильно ушибся. Пусть я сумел подняться и даже дошёл до дому сам, но на следующий день мне стало хуже, а затем родители заставили меня сказать, где я ушибся и как. Я пробыл дома около недели, а когда поправился и снова сбежал, то мои приятели-мальчишки встретили меня обозлённо, – говоря это, Милко заметно погрустнел. – Я никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь так злился. Они замахивались на меня кулаками, кривили рты, кричали: "Не ходи больше за нами!" Я поначалу ничего не понимал и всё равно пытался идти следом. Вот тогда они объяснили, что им из-за меня попало, и теперь им запрещено со мной водиться. Я уговаривал их дружить со мной потихоньку, чтобы взрослые не знали. Я всё равно ходил за ними, но мои приятели больше не хотели меня видеть даже издали. Наконец они поколотили меня, чтобы я не мог за ними идти, и оставили.








