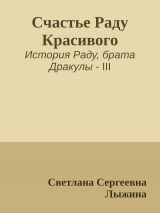
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Меня охватило странное чувство, когда я услышал, как купцы из Трансильвании, пришедшие ко мне с жалобами, рассказывали, что Штефан творил страшные дела, ведь это было очень похоже на то, что когда-то рассказывали о моём брате:
– Он никого не жалел, – говорили купцы, стоя посреди приёмной комнаты моего маленького путевого дворца. – Никого в живых не хотел оставлять, даже ребёнка во чреве матери. А если видел беременную, то приказывал, чтобы ей вспороли живот и привесили нерождённого младенца к её шее.
– Этого не может быть, – хмурился я.
– Мы готовы поклясться, что так и было, – отвечали жалобщики. – Защити нас от этого изверга, господин.
Конечно, я обещал защиту, но всё же надеялся, что до выполнения обещаний не дойдёт, однако мои бояре уверили меня, что воевать со Штефаном придётся:
– Если волк залез в овчарню один раз, он вернётся. Не в этот год, так на следующий.
"Господь, зачем ты посылаешь мне испытание, которого я не смогу выдержать?" – мысленно вопрошал я, но по настоянию бояр отдал приказ готовиться к войне и наладить разведку, чтобы при первой вести о приближении молдавского войска к нашему северо-западному рубежу, быстро подтянуть туда наши силы.
На боярских советах теперь часто обсуждались военные расходы, качество снаряжения, военные хитрости, но я каждый раз ловил себя на мысли, что нисколько не верю в победу. "Меня сломят, – говорил я себе. – Всякое войско под моим началом обречено".
Повелевать войском и отвечать за жизни людей – совсем не то же самое, что просто находиться в рядах воинов. Когда я много лет назад участвовал в завоевании румынского трона, находясь в турецком войске, то чувствовал себя смелым и даже на время забыл, что мне страшно убивать. А теперь мной овладел страх, который давил на меня, как каменная глыба, мешал мыслить и действовать.
Временами мне снилось, что война уже началась. Снилось некое ночное сражение, где я пеший стоял посреди поля битвы. На мне был добротный юшман – турецкий кольчужный халат с металлическими пластинами на груди, который застёгивался спереди на крючки. На голове – турецкий остроконечный шлем. В руке – хорошая сабля. Казалось, я был готов к бою, но вдруг оказывалось, что я не могу поднять руку – ни правую, ни левую, – а между тем ко мне приближался воин в доспехах рыцаря. Он явно собирался сразиться со мной, но я по-прежнему не мог поднять руку, а затем вдруг обнаруживал, что кольчужное плетение моего доспеха само собой разваливается, как ветхая одежда. А затем оказывалось, что и ноги отказались мне служить. Я падал на колени и не мог подняться, хотя к тому времени почти весь мой доспех уже валялся вокруг меня кусками и, значит, я, не отягощённый его тяжестью, мог бы легко встать. Увы, нет. А между тем рыцарь уже заносил меч над моей головой, но я не просил пощады – лишь думал: "Вот и всё". И просыпался.
Хотелось просто забыть о войне, не предпринимать совсем ничего и на время почувствовать себя беззаботным, хоть разум и говорил, что эта беззаботность неминуемо обернётся бедой. "Хуже не будет, ведь я всё равно проиграю. Что бы ни делал, проиграю", – говорил я себе, но никому из окружающих не мог этого сказать, ведь если бы хоть частично признался в подобном, стало бы ещё хуже. Уныние овладело бы всеми. Как же идти в бой вместе с государем, не верящим в победу!
Порой мне казалось странным, что бояре не чувствовали моё настроение. Казалось, что даже Штефан, который никогда меня не видел, чувствует мою слабость. Чувствует, что меня легко сломить, а любой полководец воспользовался бы слабостью противника.
Возможно, я допустил ошибку ещё тогда, когда только узнал о разорении Брэилы. Я стерпел это и занялся восстановлением города вместо того, чтобы отомстить: в свою очередь разграбить южные окраины молдавских земель, а ещё лучше – подговорить турок, чтобы они ограбили. Я мог бы заключить сделку одним из турецких начальников, управляющих землями, примыкающими к моим: помог бы его людям переправиться через Дунай и пропустил бы через свою территорию в Молдавию, а взамен турки поделились бы со мной добычей. Так я мог бы уберечь своих воинов, если б Штефан дал отпор грабителям, но главное – такой мой поступок показал бы Штефану, что я коварен и злопамятен. Однако я ничего подобного не сделал и вместо этого думал о людях, потерявших имущество, а также о восстановлении сожжённого города.
"Не следовало оставлять безнаказанным разграбление Брэилы, а ты оставил, молча стерпел эту пощёчину, и тогда Штефан понял, что можно бить ещё и ещё", – так думал я во время советов, а бояре, сидевшие на скамьях перед моим троном, поочерёдно вставали и докладывали о том, как готовятся к войне.
Мне отчаянно хотелось, чтобы все приготовления оказались ненужными, и чтобы Штефан не пришёл, но, увы, он пришёл – явился на следующий год, а я получил эту весть в конце февраля. В те дни уже повеяло весной, и временами казалось, что порывы сырого ветра опять доносят до меня запах гари.
– Главное – снова не допустить Штефана до Брэилы, а уж дальше, как Бог даст, – повторяли мои бояре, пока мы, в доспехах, препоясанные мечами, рысили по раскисшим весенним дорогам, продвигаясь к молдавской границе.
Разведка была налажена хорошо, поэтому мы встретились с войском Штефана ещё до того, как он оказался в Румынии.
Наше войско продвигалось по торговому тракту, который сначала вёл нас по равнинам, а затем мы оказались в неровной местности, где леса перемежались пастбищами. Снег к тому времени уже сошёл, поэтому поля были серо-бурыми, а леса – чёрными. Холмы, плоские и вытянутые, складывались в странный узор, который хотелось разгадать, будто тайный знак.
По утрам всё часто застилалось густым серым туманом, и тогда я чувствовал себя неуютно, ведь наши разведчики могли пропустить приближение неприятеля, и вот, в одно из таких утр, возле селения Соч, мы и наткнулись на Штефана, хотя, судя по всему, он точно так же наткнулся на нас, но сумел быстрее прийти в себя после неожиданного известия и построить людей.
Конницы у него оказалось чуть больше, чем у нас, и это во многом решило исход битвы. А ещё у него были лёгкие переносные бомбарды – такие, которые мы предпочли не брать, положившись на меткость стрел и длину копий. Зря положились.
Помню, как я, находясь вместе с боярами на склоне одного из ближних холмов, вглядывался в поле битвы, расположенное в низине. Не до конца развеявшийся туман перемешивался с дымом огнестрельных орудий, и каждое новое облачко дыма заставляло меня сожалеть об отсутствии пушек в нашем войске.
– Возможно, мне следует самому вступить в бой, чтобы поддержать воинов? – спросил я, но спросил больше для того, чтобы никто не заподозрил, насколько мне страшно.
– Не надо, государь, – ответили бояре. – Штефан тоже сам не принимает участие в битве. Во-он его стяг. – Они указали на алое полотнище на одном из холмов, издалека кажущееся совсем маленьким.
Я не помню, как развивалась битва. Помню, что на холм приезжали гонцы, что-то докладывали, а бояре предлагали, как поступить, и я соглашался с мнением большинства, а в это время думал о том, что несколько лет назад Штефан одержал победу над венгерским королём Матьяшем и его рыцарями, пришедшими в Молдавию. Пришедшими, как мы сейчас. А ведь у венгров было снаряжение куда лучше нашего, и всё же они оказались с позором изгнаны. На что же нам было надеяться?
Затем стало видно, что дела для нас в битве оборачиваются плохо, и тогда бояре сказали, что главное теперь – достойно отступить. И опять упирали на то, что надо не допустить Штефана к Брэиле, как в прошлый раз, потому что убытки будут слишком велики.
Я невольно подумал, что это не война, а избиение. Сильный избивает слабого, а слабый уже не стремится дать отпор, а прикрывает самое чувствительное место. У каждого оно своё: живот, голова или что другое. Избиваемый мысленно повторяет: "Только вот туда не надо, а остальное я стерплю". Вот как было со мной и моими боярами: "Только бы не грабил Брэилу, и только бы нам самим не попасть в плен".
Конечно, нас разбили. Мы с боярами уехали с места сражения ещё до того, как всё окончательно решилось, а в течение следующих дней собирали по окрестностям разрозненные части разбежавшегося войска. Мы больше не вступали со Штефаном в битву, уклоняясь, даже когда он нам её предлагал, но всё равно оставались поблизости от него, поэтому молдаване не решились разграбить ни один крупный город. Знали, что тогда мы нападём на них с тыла.
И всё же Штефан грабил мелкие селения и боярские поместья, взял в плен больше пятнадцати тысяч цыган, живших осёдло, и увёл их, чтобы поселить в Молдавии. Он грабил, а мы наблюдали, и я думал: "Хоть бы это скорее кончилось".
* * *
Мне могло бы показаться, что Бог оставил меня, но когда я смотрел на свою малолетнюю дочь, то начинал верить, что не оставлен: "Всю силу духа, которую Он не дал мне, получила моя Рица. Бог обделил меня, зато её наградил вдвойне".
Мы с женой особенно не баловали свою дочку и нянькам не позволяли, но уже лет в шесть Рица поняла, что способна повелевать всеми нами, и что если она чего-то не хочет, то мы не можем её заставить, а можем лишь уговорить.
– Нет, – спокойно, но твёрдо произносила моя дочка, и все вокруг чувствовали себя тюфяками, не способными ей так же твёрдо возразить.
Это казалось удивительно и странно, но никто не сомневался, что у Рицы дар повелевать. Она никогда не хныкала, не кричала, не дула губы, не задирала нос и не топала ногой. Она просто говорила, чего хочет или не хочет. И все слушались. Попробуй-ка поспорь с маленькой девочкой, которая ниже тебя ростом раза эдак в два, но ты почему-то чувствуешь, что это она смотрит на тебя сверху вниз, а не наоборот. Рица ни мгновения не сомневалась, что всё будет именно так, как она сказала, и эта глубокая неподдельная уверенность, которая неизвестно откуда взялась, побеждала всех!
– Дар Божий, – говорили няньки. – А при её-то красоте она мужа своего подкаблучником сделает, кто б на ней ни женился.
Я улыбался, слушая эти слова, а затем с лёгкой грустью думал, что не могу разгадать тайну необыкновенного дара, как ни стараюсь. Ах, как бы пригодился он мне самому! Вот почему я хотел понять его природу.
К примеру, на свете есть много людей с несгибаемой волей, которые, если сталкиваются с принуждением, то замыкаются в себе, как воины затворяются в крепости, чтобы выдержать длительную осаду. А вот Рица вела себя не так. Произнеся своё спокойное и твёрдое "нет", она смотрела вокруг не так, будто окружена врагами. Она верила в доброту людей и в то же время верила, что права, поэтому не сомневалась, что добрые люди сейчас откажутся от прежних намерений и предложат что-нибудь, с чем она наверняка согласится.
Натыкаясь на этот спокойный открытый взгляд, все вокруг невольно начинали сомневаться, так ли уж надо заставлять Рицу надевать именно это платье, вплетать в косу именно эту ленту или есть именно эту кашу. Ведь ничего дурного не случится, если заменить одно на другое, потому что капризной Рица не была. Капризными бывают те дети, которые сами не знают, чего хотят, а моя дочь твёрдо знала, что ей нравится, а что не нравится, и к тому же она отличалась умом, поэтому понимала, что возможно исполнить, а что – нет, и не требовала невозможного.
Конечно, здравый смысл иногда всё же подводил её. К примеру, так случилось однажды летом, когда ей почти исполнилось семь. Рице не хотелось гулять, но под непрекращающиеся уговоры её всё же вывели в сад, потому что в дворцовых комнатах требовалось помыть полы, и играть было бы совершенно негде.
Моей дочери пришлось согласиться, но через полчаса она сбежала от нянек и начала искать, как бы проникнуть обратно в хоромину. Дверь, в которую можно прошмыгнуть незаметно от слуг, Рица не нашла и потому решила влезть в открытое окно. В этом она почти преуспела, взобралась на выступ фундамента, ухватилась руками за подоконник, подтянулась, уже наполовину влезла, но тут в комнату, куда Рица пыталась попасть, пришла одна из служанок.
Пришлось моей дочери сползти обратно, как вдруг она обнаружила, что юбка платья зацепилась за подоконник со стороны комнаты и задралась почти до самых подмышек, а вслепую отцепить никак не получается. Нужно было посмотреть, что там, а посмотришь – твою макушку увидит служанка, и это ещё не главная беда. Если увидит – выглянет в окно, и обнаружит девочку в таком нелепом положении, и растрезвонит на весь дворец о том, что видела.
Так Рица и стояла на выступе фундамента – стояла, считай, в одной нижней сорочке, пока происходящее не заметил тринадцатилетний Миху, шагавший куда-то по делам. Это был тот самый Миху, которому я когда-то обещал, что устрою его в дворцовую стражу, а пока определил на конюшню.
Он помог Рице отцепить платье и сказал что-то вроде:
– Эх, ты! А ещё государева дочь, – после чего молча отвёл её к нянькам, а она была так смущена из-за всего произошедшего, что даже не возразила.
Миху ничего не рассказал про то, где обнаружил мою дочь, и как она при этом выглядела, но в тот же вечер Рица рассказала мне сама, а затем спросила, что среди мальчишек считается самым большим позором для девочки.
Я ободряюще произнёс:
– В этом нет для тебя позора. Всё забудется. Ты ведь ещё маленькая, а в малом возрасте всякое случается, поэтому это прощают и забывают, – но она не могла успокоиться, и с тех пор ей стало очень важно, что Миху о ней подумает.
Только так нам с женой теперь удавалось на неё влиять – мы призывали Миху в судьи, но старались пользоваться этим средством не часто, а только в самых крайних случаях, и такой случай наступил, когда Рице исполнилось уже почти восемь.
Мы с женой решили, что пора учить дочку грамоте, ведь государева дочь должна быть образованна, однако Рица изрекла своё обыкновенное "нет" и нам пришлось прибегнуть к помощи Миху, чтобы рассказал ей о пользе знаний.
Миху сделал то, что мы просили, однако по простоте сболтнул, что надо "ходить в школу", то есть в ту школу в первом этаже дворцового здания, куда ходили все мальчики, являвшиеся моими воспитанниками, и где вскоре должны были сесть на ученическую скамью оба моих подрастающих сына: Мирча и Влад.
Миху ведь не знал, что мы с женой собирались обучать нашу дочь отдельно, а Рица помолчала полминуты и сказала ему:
– Ну, раз ты ходишь, то и я буду ходить.
Так моя дочь вопреки всем правилам начала учиться вместе с мальчишками, ведь после того, как сам Миху сказал ей про школу, никто не сумел бы убедить Рицу, что можно обучаться грамоте где-то ещё. Увы, сказанное слово – как камень, катящийся с горы. Назад его не вернёшь. Но в глубине души я радовался, что моя дочь именно такая, и что её нельзя сбить с выбранного пути.
* * *
На турецком берегу Дуная меня встретили люди султана, которые были призваны обеспечить мне охрану во время проезда по турецким землям, ведь дань, которую я вёз, являлась ценным грузом, да и я сам считался весьма важной персоной.
Даже теперь, когда я не имел власти над сердцем Мехмеда, он огорчился бы, если б со мной что-нибудь случилось. Вот почему ещё месяц назад я отправил в старую турецкую столицу – Эдирне – письмо, где указал, в который день меня ждать, а когда выехал из Букурешть, то отправил гонца с посланием в турецкую крепость Джурджу, стоявшую возле Дуная на румынской стороне.
Из Джурджу весть о моём прибытии быстро перебралась на другой берег реки, где напротив Джурджу находилась ещё одна турецкая крепость – Рущук. Именно в Рущуке дожидался конный отряд, который встретил меня, когда я совершил переправу.
Стоило мне подняться по откосу берега и оставить за спиной раскидистые ивы, клонившиеся к воде, как я увидел, что от крепости, серевшей вдали, по дороге меж жёлтыми полями, ко мне едет около пятидесяти всадников. Топот был слышен прекрасно, а облако пыли было таким большим, что отряд мог показаться гораздо многочисленнее, чем в действительности.
Не прошло и нескольких минут, как эти всадники подъехали ко мне и тут же спешились, а их начальник – загорелый, с тёмными усами, – спешившись одним из первых, подошёл, поклонился и произнёс по-турецки:
– Доброго тебе дня, Раду-бей.
Разговаривая с этим турком, я невольно вспомнил, что много лет назад, когда румынским князем являлся мой брат Влад, крепость Джурджу принадлежала румынам. Мой брат захватил её, потому что не желал терпеть ни одной турецкой крепости на румынской стороне, а Рущук он повелел сжечь и, пока оставался у власти, следил, чтобы укрепления не были восстановлены.
Влад, конечно, очень огорчился бы, узнав, что я вернул Джурджу туркам и не мешал восстановлению Рущука. Но я был вынужден! А теперь так же вынужденно ответил улыбкой на приветствие начальника отряда.
Мы были знакомы не первый год, поэтому я одобрительно сказал:
– Ты, как всегда, приехал быстро. Но всё же нам придётся подождать, пока высохнут спины моих лошадей. Пока спины мокрые, нельзя ни седлать, ни вьючить.
Турок ещё раз поклонился, а затем, быстрым движением пригладив усы, пошёл к своей лошади. Ничего необычного в этом не было, но мне вдруг показалось, что усы он пригладил потому, что хотел сказать: "Скоро я увижу то же, что и всегда, Раду-бей".
Этот человек сопровождал меня в путешествиях по турецким землям уже не первый раз, поэтому знал, что у меня есть что-то вроде обычая: по дороге в Эдирне обязательно сбривать усы, а на обратном пути, в Румынию, снова отращивать их.
Судя по всему, турок считал такой обычай глупым, ведь для многих мужчин усы – настоящее украшение, а без них лицо выглядит простоватым, однако я был уверен, что меня это "украшение" не делало ни лучше, ни хуже.
Возможно, лет в двадцать восемь без усов я больше походил на юношу, чем будучи усатым, но теперь ничего не менялось. Пусть я выглядел моложе своих лет, но никто не дал бы мне меньше тридцати. Не мальчик. Хоть с усами, хоть без.
Многие, особенно женщины, полагали, что я по-прежнему красив, но это была уже не юношеская красота, а красота зрелости. Султан такую мало ценил, хоть и обмолвился однажды, что я напоминаю ему кое-кого, кому он в прежние времена дарил свою любовь.
Мехмед упомянул о том давнем увлечении, когда мы коротали ночь в султанских покоях. Сидя друг напротив друга на просторном возвышении, заваленном подушками, мы пили вино, когда он вдруг взглянул на меня очень внимательно и спросил:
– У тебя никогда так не бывало, что ты смотришь на кого-нибудь, а видишь другое лицо? Видишь знакомые черты, но другие.
Я истолковал это по-своему:
– Ты хочешь сказать, повелитель, что я всё ещё напоминаю тебе того Раду, которым был много лет назад? Если так, то и у меня бывают подобные видения. Я смотрюсь в зеркало и вижу себя юношей, а затем – себя нынешнего.
Султан чуть скривился, и это означало, что я не угадал направление его мыслей:
– Нет, я не это хотел сказать. Я спрашивал, бывает ли, что ты смотришь на человека, а видишь в нём другого. Другого человека, которого давно не встречал.
Я задумался:
– Нет, повелитель. По счастью у меня есть возможность регулярно видеть всех, кем я дорожу. Значит, у меня нет повода для тоски по ним. Поэтому и для видений нет причины.
Мехмед вздохнул:
– В одном ты прав. Я тоскую по человеку, которого ты мне сейчас напоминаешь. И я дорожил им. Даже больше: я любил его. А в последний раз видел его, когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь тебе. Я понимал, что его красота понемногу увядает, но это было почти не заметно, и он продолжал вызывать во мне желание. И даже мои придворные смотрели на этого человека с восхищением. Я знал, что многие дорого бы дали, чтобы повстречать его раньше – в ту пору, когда он был мальчиком.
Я нахмурился, спрашивая себя, должен ли сейчас изобразить лёгкую ревность, но затем безмятежно улыбнулся:
– Повелитель, если своими воспоминаниями ты хочешь заставить меня ревновать, то напрасно. Я давно смирился, что твоё сердце не может принадлежать мне одному.
Султан тоже улыбнулся в ответ и произнёс по-гречески:
– Поцелуй меня.
Я свесился с возвышения и поставил чашку с вином на пол, потому что другие подходящие поверхности находились слишком далеко. Мехмед терпеливо ждал, а я, когда уже ничто не мешало опираться на руки, передвинулся ближе к нему – правда, не очень ловко. Мне мешало выпитое вино и мягкость ложа, не дававшая надёжной опоры, но наконец наши с султаном лица оказались достаточно близко.
Мне не хотелось целовать так, чтобы вызвать страсть. Всё, о чём я в ту минуту думал – как бы не потерять равновесие и не завалиться вперёд, ведь если с размаху ткнуться носом в щёку того, кого целуешь, или удариться зубами о зубы, ощущение не слишком приятное. По счастью, ничего этого не случилось.
– Ты целуешь без страсти, а скорее с благодарностью, – всё так же по-гречески произнёс Мехмед.
– Почему мы беседуем по-гречески? – спросил я.
– Хочу проверить, насколько хорошо ты помнишь язык, когда-то выученный по моему повелению, – сказал Мехмед. – К тому же мне нравится, как звучит эта речь. Неужели, ты забыл?
Я отпрянул, потупил взгляд и еле сдержал вздох разочарования, ведь уже в те времена моё место на ложе султана занимал Хасс Мурат-паша, и вот мне намекнули, что он помимо своей молодости имеет передо мной ещё одно преимущество. Он родился греком, и тот язык, который мне дался не без труда, для нового фаворита не представлял никакой трудности.
Хасс Мурат-паша был племянником последнего греческого императора – Константиноса. Попал в плен ещё тогда, когда Мехмед захватил Константинополис, но в тот год султан не проявил к мальчику интереса, поскольку пленник оказался слишком мал – около трёх лет от роду.
Как и следовало ожидать, мальчика обратили в ислам и воспитали как мусульманина, но Мехмед нарочно распорядился, чтобы новообращённому мусульманину не дали забыть греческий язык. Султан считал это знание весьма полезным, и к тому же ему действительно нравилось, как звучит эта речь, а я, разговаривая по-гречески, то есть подстраиваясь под вкусы султана, с горечью сознавал, что, как ни подстраивайся, а влияния на Мехмеда у меня почти не осталось.
"Ох уж этот Хасс Мурат-паша!" – думал я, когда видел восхищённые взгляды, которые Мехмед бросал на своего юного фаворита. Особенно часто я видел это восхищение, когда фаворит, неизменно облачённый в долгополые одежды, полагавшиеся высоким придворным чинам, шёл по дворцовому коридору или по дорожке сада навстречу своему повелителю.
Хасс Мурат не просто жил при Мехмеде, как я когда-то, а занимал высокий придворный пост. Чиновнику такого ранга полагалось бы носить бороду, но юный красавец брил лицо начисто, и над этой привычкой султанского фаворита все тихо посмеивались, но только не я. Возможно, я, когда сбривал усы, подражал ему, чтобы хоть немного почувствовать себя прежним "мальчиком".
А ещё мне хотелось хоть разок пройтись по дворцу так, как Хасс Мурат-паша, то есть очень плавно, чуть-чуть покачивая плечами и бёдрами. Мехмед был без ума от этой походки, а я, подражая ей, показал бы, что не только Хасс Мурат-паша умеет так двигаться. Я бы мог сделать вид, что поддразниваю юного фаворита... или нет, не мог бы. Если б я вздумал его передразнивать, то смеяться начали бы надо мной, а не над ним: "Не слишком ли стар Раду-бей, чтобы так кривляться?"
Ах, неумолимое время! Его не победить. Что бы я ни делал, все видели, что расцвет моей юной красоты был очень давно. И закат юности уже догорел, наступила зрелость. Но эта зрелость не казалась мне рассветом нового, другого дня, который принесёт свои радости. Я чувствовал себя так, как будто моя зрелость – ночь, полная опасностей, а ночная темнота так же непроглядна как темнота могилы, и мне очень повезёт, если из-за туч выглянет луна.
С этими мыслями я два дня ехал по пыльным дорогам Болгарии, давным-давно завоёванной турками. Путь вёл через поля, на которых уже наполовину собрали урожай.
Поля были почти такие же, как в Румынии, а на горизонте виднелась полоска пологих синеватых гор, и это тоже чем-то напоминало мою страну, в которой меня теперь называли князем. Вот почему я невольно вспоминал, как десять лет назад ехал по румынским землям в составе турецкого войска, которое должно было посадить меня на румынский трон.
Десять лет назад я чувствовал себя несчастным, приехавшим туда, где меня никто не ждёт, а теперь мне хотелось вернуться в те времена, ведь тогда я был молод, и казалось, что у меня всё впереди.
Десять лет назад несмотря на холодный приём моих будущих подданных я не оставлял надежду, что обрету счастье, ну а сейчас, когда значительная часть жизни осталась позади, мне хотелось думать, что я хоть немного похож на того юного Раду, полного надежд. Может, сбривая усы, я подражал прежнему себе, а не новому фавориту Мехмеда?
Меж тем синеватая полоска гор на горизонте становилась всё заметнее, а её концы уже не терялись где-то вдали, а отчётливо виднелись справа и слева. Она как будто хотела сомкнуться вокруг меня и моих спутников в кольцо, а затем нас обступил лиственный лес. Дорога некоторое время вела нас сквозь гущу зарослей, как вдруг нашему взору открылся город Велико Тырново, белевший почти у самого подножья невысокой горной гряды, которая теперь стала не синей, а тёмно-зелёной.
Проезжая по улицам, я уже привычно отметил, насколько здесь бедно живут, или только хотят казаться бедными, чтобы их лишний раз не трогали. Всё те же мусор и грязь на улицах перед домами. Хлипкие деревянные изгороди, обшарпанные стены мазанок, замшелая черепица на крышах. Тощие собаки во дворах, заходящиеся злобным лаем. И так же не в первый рая я видел настороженное любопытство во взглядах горожан, в любую минуту готовое смениться неприязнью.
К счастью, город был довольно велик, а в большом городе всегда есть хоть один хороший постоялый двор, где хозяин – болтливый весельчак, а не угрюмый молчун. На этом дворе можно разместиться достойно своего высокого положения и забыть об окружающей бедности, ведь это бедность не твоих подданных.
Вот почему я, поднявшись в просторные покои, призванные стать мне пристанищем на ночь, даже не смотрел в окна на улицу, чтобы больше не видеть обшарпанные стены жилищ и замшелые крыши.
Вместо этого казалось лучше улечься на кровать, прикрыть глаза и, прислушиваясь к суетливой беготне слуг, попытаться думать о приятном. О том, что совсем скоро посреди комнаты появится большая бадья, наполненная горячей водой с ароматом розового масла. Я посижу в этой бадье часок, а затем один из слуг-греков привычно спросит: "Прикажешь побрить тебя, господин?" Я, конечно, скажу "да" и добавлю "усы тоже сбривай", а после этой процедуры посмотрю в зеркало и, возможно, обнаружу, что почти не изменился за последний год.
Конечно, все ухищрения были напрасны. Как говорится, ничто так не выдаёт истинного возраста молодящейся кокетки, как постаревшее лицо её служанки: глядя на своих челядинцев, которые служили мне вот уже более двадцати лет, я не мог не видеть, сколько времени прошло. Когда они только начали мне служить, то большинству из них было примерно столько же лет, сколько мне исполнилось сейчас. Так что теперь почти все они стали людьми пожилыми.
Иногда мне даже приходила мысль прогнать их и заменить молодыми, но затем я говорил себе, что это слишком себялюбиво. Где они нашли бы себе новое место, если б я отказался от их услуг? А ведь они служили мне хорошо.
"Нет уж, – говорил я себе, – пусть остаются со мной до конца". К тому же за много лет они научились понимать меня с полуслова, и это было приятно. А ещё они умели заботиться обо мне, как никто.
К примеру, только им я бы доверил не очень приятную процедуру: удалять мелкие волосы, растущие по всему телу. За время жизни в Турции я привык так делать и даже теперь делал на всякий случай, если предстояла встреча с султаном.
Увы, просто сбрить было нельзя, ведь иначе по прошествии двух-трёх дней моя кожа стала бы колючей из-за отросших волосков. Значит, следовало выдёргивать.
Это было не то чтобы больно, но неприятно, а я, стараясь казаться терпеливым, всё же покусывал себе кулак, но делал это как бы в шутку, после чего улыбался с деланным весельем. Мужчине следовало относиться к боли с презрением.
* * *
Когда я разделся, чтобы погрузиться в воду, и когда вылезал из неё, заворачиваясь в простыню, поданную слугой, то будто смотрел на себя со стороны, потому что раздумывал, кому сейчас мог бы понравиться в таком виде.
Я хотел, чтобы мной восхищались. С годами мне всё больше этого не хватало и потому, когда я привёз из монастыря в Букурешть молоденького послушника и устроил к себе на службу в канцелярию, то поначалу был очень доволен. Я лгал самому себе, когда задавался вопросом, отчего чернец хочет быть подле меня. Я сразу понял причину, но предпочёл притворяться непонятливым даже перед собой. Это гораздо удобнее, чем смотреть в глаза правде и всерьёз раздумывать: а что же дальше?
Зачем раздумывать, если можно просто наслаждаться чужим восхищением! Мне нравилось, что я получаю столько и не даю взамен почти ничего. Я давно устал всем угождать, и мне была очень приятна мысль, что на этот раз я никому не угождал, не завоёвывал ничьё сердце – всё случилось само собой. К тому же я мог, наконец, позволить себе быть тем Раду, который ценит мужское внимание. Ведь я видел особый взгляд, не оставлявший сомнений, что это "та" любовь, та самая, которая считается грехом.
"Главное – не выказывай воздыхателю благосклонность слишком явно, – говорил я себе. – Тогда не придётся ни за что расплачиваться".
Это было нечто другое по сравнению с тем, что я чувствовал, глядя на своих мальчиков-воспитанников: мне не делалось мерзко от самого себя. А ведь если бы я соблазнил влюблённого в меня юношу, переступил черту, то меня в случае огласки осуждали бы так же, как если бы я соблазнил невинного мальчика. И всё же для меня это ощущалось по-другому. Ведь послушник, которого, кстати говоря, звали Милко, был слишком взрослым, чтобы стать невинной жертвой. Если бы я соблазнил его, то не думал бы, что грех на мне одном. Я бы думал: "Мы виноваты оба. Ведь он и сам был не прочь".








