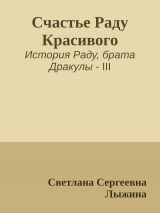
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Господин, эта тревога как будто гложет тебя изнутри. Скажи мне и станет легче.
– Откуда ты знаешь, что станет? Ты ничем не сможешь помочь.
– Когда исповедуешься, священник обычно тоже ничем не может помочь, только выслушать, – сказал Милко, – но становится легче.
– А если я скажу, что мне страшно? – спросил я. – Ты тоже начнёшь бояться. И мне, глядя на тебя, легче не станет.
– Скажи, чего ты боишься, господин, – произнёс мой писарь почти повелительным тоном и притянул к себе чуть сильнее, а затем снова погладил по волосам.
– Боюсь потерять то, что у меня есть.
В ответ я услышал счастливый вздох:
– Я тоже боюсь потерять то, что приобрёл, господин. Но этот страх не мешает мне. Он помогает мне сильнее любить приобретённое.
– А мне мешает, – сказал я.
Милко ничего не ответил. Он поцеловал меня в макушку, и мне опять подумалось, что этот юноша временами обращается со мной, как мать обращается с ребёнком – думает, поцелуй излечит от тревоги и всё пройдёт.
* * *
Порой мне казалось странным, что Милко несмотря на все очевидные внешние перемены почти не переменился внутренне. Всё тот же застенчивый юноша, которому всегда сложно решиться на значительный поступок. Например, такой, который сделал бы его мужчиной в том смысле, как это понимают, когда речь идёт о способности к соитию. Мужчина – этот тот, кто хотя бы раз обладал кем-то, а у Милко не было подобного опыта и даже не было стремления его получить. Он с необычайной покорностью отдавался и, казалось, ничего другого не желал.
Поначалу, когда наша связь только началась, я совсем не задумывался об этом. Позднее начал задумываться и ждал, когда мой возлюбленный исподволь попытается взять верх надо мной. Я даже продумывал практическую сторону и решил, что, если всё случится неожиданно, не буду отказывать, но предложу отложить до другого раза, чтобы иметь возможность подготовиться, то есть соблюсти особую чистоту, которую я требовал от возлюбленного, но не соблюдал её сам, потому что не было необходимости.
Мне даже хотелось, чтобы необходимость появилась, ведь тогда я мог бы сказать себе, что, позволив будущему монаху сбиться с истинного пути, сделал для него кое-что хорошее: "Зато юноша стал мужчиной. Без меня он никогда бы им не стал".
Увы, но попыток стать мужчиной он не предпринимал, и в итоге я сам решил действовать – в один из вечеров подготовился, как нужно, а затем, утолив своё желание и улегшись рядом на постели, полушутя спросил, не хочет ли Милко утолить страсть таким же образом, как я минуту назад.
Мой возлюбленный тем временем ждал, пока я немного отдохну, после чего прикосновениями доведу его до состояния высшего блаженства. И вдруг этот мой вопрос:
– Хочешь сам обладать мной? Если хочешь, я буду только рад.
Казалось, что время для вопроса самое подходящее, но Милко весь напрягся:
– Нет, господин. Давай лучше, как мы прежде делали.
– Но почему ты не хочешь? Попробуй... – мне казалось, что найдены верные слова: – Я хочу, чтобы ты попробовал. Для меня это будет удовольствие. Я не хочу всегда быть только тем, кто владеет. Хочу, чтобы владеющим побыл и ты.
Милко улыбнулся смущённой улыбкой, а затем и вовсе отвернулся, пробормотал, уткнувшись носом в подушку:
– Нет, господин. Лучше в другой раз.
Я стал настойчиво уговаривать и не сразу заметил, а он уже не просто лежит, отвернувшись от меня. Милко подтянул колени к подбородку и обхватил их руками, будто хотел спрятаться или защититься, но не мог. Его спина выглядела такой беззащитной, что мне стало совестно:
– Хорошо, если не хочешь, то не буду просить об этом, – мягко произнёс я и поцеловал возлюбленного в плечо, а затем погладил по предплечью, по бедру. – Ну что ты? Я же совсем не настаиваю.
А ведь недавно настаивал! Наверное поэтому Милко поверил не сразу, но постепенно распрямился, а затем повернулся ко мне и вдруг принялся с жаром оправдываться:
– Господин, не думай, что ты...
"...уже не так молод и притягателен, как был когда-то", – мысленно докончил я, а Милко всё пытался объяснить:
– Не думай, что я брезгую. Я просто не хочу. Прошу тебя: не сердись.
Юноша, приподнявшись на локте, сам потянулся ко мне, поцеловал в губы, а затем в подбородок, в ключицу и ещё ниже, и ещё, доказывая, что ни одной из частей моего тела он не брезгует, но, увы, это не было похоже на ласку мужчины.
Мужчина, когда ласкает чьё-то тело, стремится распалить в этом теле чувственные страсти, чтобы затем оно охотнее подчинилось, когда придёт время для соития. Мужчина постоянно думает об этом, и это чувствуется в его действиях, а вот Милко ни о чём таком не думал. Несомненно, ему было приятно прикасаться к моей коже губами и кончиками пальцев, но он делал всё без мысли о будущем, которое может наступить через несколько минут. Этот юноша явно думал о прошлом – о тех годах, когда хотел сделать то, что делает сейчас. Он мечтал прикасаться к кому-нибудь так, как теперь стал прикасаться ко мне. Милко утолял давнее желание, претворял в жизнь робкие мечты, навёрстывал упущенное – вот что чувствовалось в прикосновениях.
Мне хотелось сказать своему возлюбленному: "В этом твоя ошибка. Ты думаешь о прошлом, когда надо думать о будущем, о цели. Именно это и мешает тебе стать мужчиной: ты забыл о цели", – но я также понимал, что сейчас ничем не могу помочь: ни словами, ни по-другому.
* * *
Летом я получил новые вести из Турции. Человек, возглавлявший воинов, отправленных мной султану, прислал мне письмо, в котором сообщал, что поход для турок оказался успешным. В письме оказались и другие сведения, которые отправитель посчитал интересными для меня, а я, несколько раз перечитав послание, не знал, радоваться или печалиться.
«Великий и самодержавный господин мой. С поклоном сообщаю тебе, что милостью Бога вседержителя султан Мехмед одержал победу, а твой верный слуга этому способствовал».
На этих словах я невольно улыбался, потому что странно было читать, что Мехмед, которого многие считали главным врагом христианского мира, одерживает победы "милостью Божьей". И всё же в этих строках был смысл, ведь Бог не мог не помогать румынам, верящим в Него, а раз румыны выступили в поход на стороне турок, то Бог помогал и туркам.
«В августе 11 дня султан встретился со своими врагами близ реки, которая называется Карасу и впадает в Евфрат. За неделю до этого было другое сражение, в котором ни султан, ни твой верный слуга не участвовали, и оно обернулось плохо для турок, те бежали. Но после той неудачи Бог даровал султану великую победу. Вражеское войско было разбито и рассеяно, а в руки туркам попало много знатных пленников. Почти все твои люди живы, и хотя раненых много, они, даст Бог, излечатся».
Эти новости следовало считать хорошими, однако дальнейшее содержание письма настораживало.
«В лагере своих врагов султан захватил большую добычу, оделил ею всех своих людей и твои люди тоже не были забыты. Турецкий государь не был щедр только в отношении своего главного сановника Махмуда-паши, потому что сильно на него гневается, хотя в битве, которая обернулась победой, этот сановник очень хорошо проявил себя, начальствуя над пушкарями. Всему виной предыдущая битва, когда турки бежали, потому что султан уверен, что виновен в том поражении Махмуд-паша. А ещё султан очень опечален гибелью одного из своих людей, румелийского бейлербея Хасс Мурата-паши, и говорит, что в этой смерти тоже повинен Махмуд-паша, ведь бейлербей погиб как раз в той неудачной битве».
Казалось бы, мне следовало позлорадствовать из-за того, что Мехмед остался без возлюбленного, и что теперь некому греть султанскую постель, однако мой житейский опыт подсказывал, что последствия случившегося могут проявиться позднее, причём не самым благоприятным для меня образом. "Нечему радоваться", – сказал я себе, потому что Махмуд-паша казался мне человеком, с которым удобнее вести дела, чем с кем-либо другим. И вот этот человек снова терял благоволение султана.
Я помнил, как одиннадцать лет назад Мехмед отправился вместе с Махмудом-пашой в Румынию добывать для меня трон. В итоге всё удалось, но до этого была кровопролитная ночная битва, когда мой старший брат, являвшийся в то время румынским государем, неожиданно напал на турецкий лагерь и убил многих турецких воинов, а также покалечил много лошадей и верблюдов. Султан расценивал ту битву как поражение и, кажется, считал главным виновником Махмуда-пашу, занимавшего в то время (как и сейчас) пост великого визира.
Как ни старался Махмуд-паша выслужиться после этого, он не избежал немилости. Несмотря на то, что поручение султана добыть для меня трон оказалось выполнено блестяще, Махмуд-паша очень скоро лишился своего поста.
И вот теперь история повторялась. Мне было ясно, что несмотря толковое командование пушкарями, которое, наверняка, стало одной из причин победы, султан не простит Махмуду-паше предыдущего поражения. Особенно если погиб юный фаворит.
В письме говорилось, что все повторяют лишь одно: "румелийский бейлербей пал жертвой собственной смелости".
«Султан отправил его и Махмуда-пашу с многочисленной конницей, чтобы разведать, где находится вражеское войско, однако враги приготовили ловушку. Они оставили свой лагерь почти незащищённым, а сами отошли подальше, чтобы их не было видно. Хасс Мурат-паша подъехал к Евфрату и увидел лагерь на другой стороне реки, но вместо того, чтобы возвращаться и доложить обо всём султану, велел конникам переправиться, потому что удобная переправа была неподалёку. Хасс Мурат-паша решил принести султану и сведения, и добычу, но когда турки переправились, надеясь захватить лагерь, появилось вражеское войско. Одна его часть напала на турок, а другая разрушила переправу, чтобы никто не мог уйти. Хасс Мурат-паша бросился обратно к реке, потому что врагов было слишком много, но лучше бы он остался. Враги пощадили бы его, чтобы получить выкуп, а река не пощадила и утопила вместе со многими воинами. Махмуд-паша отступал в другую сторону и, хоть его преследовали, сумел скрыться, когда наступила ночь. Враги потеряли его в темноте».
"Так погибнуть мог только глупый мальчишка", – думалось мне. И ведь Махмуд-паша наверняка отговаривал его от нападения: добыча выглядела слишком доступной, и это не могло не настораживать. Однако Хасс Мурат, конечно же, хотел доказать всем вокруг, что его таланты не исчерпываются умением доставлять султану удовольствие.
"Глупый мальчишка, – мысленно повторял я, – и кто же теперь займёт его место? Может, тот юный боснийский принц, с которым Мехмед на пирах часто играл в нарды?"
Принц оказался при турецком дворе ещё мальчиком, попал в плен во время завоевания турками Боснии, но в последние годы стал считаться вовсе не пленником, а почётным гостем, потому что не смотрел на султана как на врага. Правда, этот юноша не проявлял особых склонностей, однако имел странную привычку постоянно шутить об отношениях между мужчинами. Однажды, проиграв в нарды несколько раз подряд, он в раздражении толкнул доску с фишками и сказал Мехмеду что-то вроде:
– Опять ты надрал мне зад!
Это было грубо, а сам проигравший был в ту минуту сильно пьян, поэтому все вокруг притихли, ожидая, что султан сейчас закричит: "Как смеешь ты, юнец, так со мной разговаривать?!" Но султан вместо этого расхохотался и сказал:
– Я и в следующий раз так поступлю, мой друг.
С тех пор принц стал подшучивать над султаном после каждого проигрыша, а ведь слышал об особых пристрастиях Мехмеда. Так зачем же шутил так вызывающе? Один раз сказал "опять ты меня завалил на обе лопатки", в другой раз сказал "опять твой верх", а Мехмед всё смеялся, ободряюще хлопал юношу по плечу, и в глазах у султана я видел тот особый блеск, так хорошо мне знакомый.
"Султан быстро найдёт утешение", – рассуждал я, читая письмо. – Жаль только, что Махмуду-паше от этого не станет легче. Гроза всё равно разразится над его головой".
«Поначалу султан надеялся, что румелийский бейлербей жив, но когда после второй битвы туркам удалось захватить вражеский лагерь и освободить многих людей, попавших в плен неделю назад, среди пленных не нашлось Хасс Мурата-паши. Тогда султан очень разгневался и сказал, что Махмуд-паша виноват во всём».
На этом месте я отложил письмо и не стал снова перечитывать дальнейшее, а ведь не менее подробно мой человек рассказывал про вторую битву, и даже ещё подробнее, ведь сам принимал в ней участие. Среди прочего рассказывалось, как хорошо проявили себя сыновья султана: Баязид и Мустафа. Особенно отличился старший – Баязид, но я вдруг подумал: "Доживу ли до того времени, когда мне придётся иметь дело не с Мехмедом, а с его наследниками?"
* * *
Полученное из Турции письмо я зачитал на ближайшем боярском совете. Вернее – отрывки из письма: то, что касалось положения моих воинов, и описание второй битвы, которая обернулась победой. О Хасс Мурате мне показалось стыдно читать. Я вдруг забеспокоился, что мой голос выдаст меня – выдаст, что я знаю о погибшем гораздо больше, чем говорю.
И всё же мне хотелось поделиться с кем-то своими мыслями о нём, а наиболее подходящим для этого человеком, конечно же, являлся Милко. Наконец-то появился собеседник, с которым я мог совсем не таиться, но, несмотря на это, я избегал говорить с ним о многом. Он продолжал казаться мне чистым, и я не хотел портить его лишними знаниями... но в то же время ждал случая, достаточную причину, чтобы перестать беречь чужую чистоту.
"Если мне не быть самим собой даже тогда, когда я наедине с ним, то зачем же всё это?" – мелькала мысль. Вот почему в один из вечеров, когда мой писарь опять пришёл в мои покои якобы для дела, а через несколько минут оказался в моей постели, я вёл себя без всякого стеснения.
Из головы не шёл византийский сборник законов под названием "Номоканон", в Румынии называемый "Правила", где среди прочего подробно рассказывалось, сколько лет епитимьи положено за те или иные недозволительные ласки. "За один этот вечер по правилам пришлось бы каяться лет пятьдесят", – думал я с усмешкой, а когда устал нарушать запреты, то спросил у "соучастника" моих "преступлений":
– Скажи правду: ты совсем-совсем не осуждаешь меня за то, что я делаю с тобой?
Юноша казался ошеломлённым от всего того, что узнал только что. На лице читалось: "Значит, можно ещё и так? И эти причудливые действия и позы тоже приносят удовольствие..." Однако, услышав мой вопрос, Милко очень быстро совладал с собой, а затем твёрдым голосом ответил:
– Господин, я не осуждаю.
– Но ведь ты же понимаешь, что наибольшей части этого я научился у султана?
Юноша на мгновение задумался:
– Да, господин, понимаю.
– И тебе не противно сознавать, как много я узнал в его постели?
– Нет, мне не противно, – всё так же уверенно произнёс Милко. – Почему ты спрашиваешь, господин?
– Хочу удостовериться, что ты понимаешь, кем я стал за годы султанской школы. Иногда мне кажется, что я слишком опытен. Слишком. То, чего мне временами хочется, это слишком изощрённо даже для грешника. Разве нет? Некоторые вещи, которые я делал с тобой, даже в "Правилах" не упомянуты, потому что законодатели не знали, что такое возможно, а если бы знали, то запретили бы и это.
Милко как всегда чувствовал моё настроение:
– Господин, что-то случилось?
Вот тогда и настало для меня время поделиться мыслями, которыми я больше не мог ни с кем поделиться:
– Я узнал о смерти своего сменщика. Юноша, который занял моё место на ложе султана, умер недавно. Погиб. Утонул в реке. И я думаю: может, ему повезло? Я ублажал султана одиннадцать лет. Это не были счастливые годы, и временами мне казалось, что я схожу с ума, потому что меня заставляли не только делать то, чего я не хотел, но и чувствовать то, чего я не хотел чувствовать. Я уже не мог понять, где мои желания, а где чужие. Это очень тягостно, когда у тебя нет воли, нет разума – за тебя всё решают. А тот юноша грел султанскую постель лет пять, то есть вдвое меньше моего. Даже если он не тяготился своими обязанностями, теперь ему лучше. Он больше не подвержен влиянию султана и не ведёт себя, как хочется султану. Может, его разум не так пострадал, как мой? Жаль только, что теперь кто-то другой займёт освободившееся место. А затем ещё кто-то...
– Господин, – осторожно произнёс Милко, – ты не хочешь, чтобы я научился всему тому, что умеешь ты?
– А ты сам хочешь научиться? Тебя ничего не смущает?
– Нет, не смущает.
– Почему? Помнишь, ты читал мне Златоуста, и там говорилось, что любовь между мужчинами похожа на безумие, ведь даже у псов такого нет.
Милко вдруг улыбнулся:
– Господин, Златоуст неправ. У псов это тоже бывает. Я сам видел. В деревне. Это было ни с чем не спутать.
Он оглядел нас обоих, лежащих рядом и обнажённых. Свечи в комнате, зажжённые якобы для того, чтобы возиться с письмами, хорошо освещали происходящее.
– Господин, ты не безумец, – сказал Милко. – И я не безумец. Неужели, ты нарочно делаешь на ложе что-то, что может показаться странным? Стремишься выглядеть безумным, потому что считаешь себя безумным? Если так, то не делай. Делай только то, что хочешь делать ради удовольствия. А Златоуст неправ, потому что отцы церкви сами же говорят, что грех делается осознанно, а если он совершён неосознанно, то прощается. Значит, безумцы не могут по-настоящему грешить. А мы ведь грешники. Значит – не безумцы.
Только что мне казалось, что моё сознание заволоклось свинцовыми тучами. Но теперь они рассеялись. Я снова почувствовал, что моя двойственность – не проклятие, а дар, поэтому крепко обнял своего возлюбленного:
– Нет, я всё же безумец. Потому что хорошо знаю, что случится, если о моей связи с тобой станет известно. Но мне всё равно. А ведь мне не должно быть всё равно. Разве это не безумие?
Милко опять улыбнулся и произнёс противоположное тому, что говорил недавно. Но опять казался прав:
– Значит, мы безумцы, господин. Но любая пара, уличённая в сластолюбии, ничем не лучше нас. Они все безумны. Безумны от любви.
Мне тоже захотелось улыбнуться, и сам собой вырвался вопрос:
– Значит, я люблю тебя?
Если Милко так хорошо угадывал моё настроение, то мог угадать и более глубокие чувства. Я смотрел на него, и мне было очень любопытно, что он скажет, а юноша в свою очередь вглядывался мне в лицо, словно искал подсказку. Наконец он отвернулся и пробормотал:
– Господин, прошу тебя: не шути так.
Я опять принялся изощрённо нарушать "Правила", а про себя подумал, что Милко теперь выучился поддерживать интересную беседу: "Было время, когда этот юноша уверял, что никогда не научится говорить красиво и убедительно, и вот научился. Со временем он так же научится другому, что ему полезно. То есть это будет благо. И кто сказал, что я учу его только плохому?"
* * *
Наступил сентябрь. Прошёл ровно год с тех пор, как я переменил свою жизнь, стал жить по-новому. Не хотелось терять ощущение обновления, ощущение непривычного счастья, пусть даже оно омрачалось воспоминаниями о прошлом и тревогами за будущее.
Именно поэтому я решил, что раз мне не нужно в нынешнем сентябре ехать в Турцию, это к лучшему. Там, за Дунаем многое напоминало о прошлой жизни. Слишком многое. А я не хотел к этому возвращаться. И уже не хотел, чтобы Мехмед хоть когда-нибудь пригласил меня к себе на ложе. Конечно, постоянством султана обеспечивалось моё спокойствие и спокойствие моей страны. Но я уже не хотел платить такую цену. Вернее – мог бы отказаться. Я сам не знал, что случится, если Мехмед опять скажет: "Проведём вместе ночь любви". А вдруг я ответил бы: "Нет, повелитель". Впервые за многие-многие годы! Я чувствовал, что могу ответить так. И мне становилось страшно, но в то же время радостно от этих перемен во мне.
Помню, когда-то я тоже чувствовал себя похожим образом. Чувство внутренней свободы пришло, когда я перестал думать: "Если прогневаю султана, от этого пострадает мой брат". В то время Влад приезжал к турецкому двору часто и кланялся Мехмеду, как слуга, но затем перестал приезжать, и я тогда сказал себе: "Теперь султан, если разгневается, то накажет только меня, а не того, кто мне дорог".
В прошлый раз это необыкновенное чувство так и не сподвигло меня на бунт, потому что Мехмед обещал мне румынский трон, и обещание означало, что я скоро перестану исполнять обязанности "мальчика". Разумеется, мне не имело смысла бунтовать, если мои мучения должны были скоро закончиться. А затем я оказался на троне и легко смирился, что раз в год, когда нужно отвозить дань, мне всё равно следует притворяться, что скучаю по своей прежней роли и жажду оказаться в султанской постели.
Притворство сделалось таким привычным, что стало моей второй натурой. Я хотел, чтобы Мехмед благоволил мне хоть немного, а вот теперь стало ясно, что именно это во мне изменилось. Теперь могло случиться, что я не захотел бы покоряться Мехмеду даже ради своей семьи: жены, дочери и сыновей. Даже если б я узнал, что моя страна может подвергнуться разорению, а моя семья – оказаться в плену, то и тогда мог взбунтоваться.
Никогда прежде я не чувствовал себя настолько свободным, и это окрыляло, но тем страшнее мне становилось, потому что стремление к свободе заставило бы меня разрушить собственную жизнь. И дело было не только в возможном турецком набеге. К примеру, могло случиться, что я рассказал бы жене о своей тайной жизни. Признался бы, даже не надеясь на понимание. Раньше, если б до Марицы дошли слухи о моих особых услугах султану, и она спросила бы меня: "Это правда?" – я бы изобразил возмущение и ответил: "Нет! Кто рассказал тебе такую мерзость?" А вот теперь мог вместо этого с грустной улыбкой спросить: "А если правда, то что? Скажешь, что тебе противно даже смотреть на меня?"
Я не знал, как поведу себя. Но не надеялся услышать благоприятный для себя ответ. Поэтому, обнимая жену, думал: "А ведь могу больше никогда не почувствовать её рядом", – и в итоге крепче сжимал объятия, говорил:
– Марица, я люблю тебя.
Она, конечно, не понимала, в чём причина, поэтому смеялась и отвечала:
– Ух ты как! Если дальше так пойдёт, то не миновать нам четвёртого ребёнка, и никакой лекарь не поможет.
Тем временем из турецкой столицы приехало моё посольство, которое ездило туда без меня и отвозило дань. Оно привезло новости о том, что султан Мехмед прибудет в Истамбул поздней осенью, то есть во второй половине октября или даже в ноябре.
Заодно это посольство привезло очередное письмо от начальника моих воинов, которые по-прежнему находились в султанском войске. В письме начальник выражал надежду, что возвращение состоится до холодов.
«Надеюсь, к тому времени по Дунаю ещё не поплывут льдины, и мы сможем переправиться на нашу сторону без помех».
Я тоже надеялся на это, потому что по-прежнему ожидал Штефана в гости, и пусть тот по-прежнему не собирался в поход, но двенадцать тысяч воинов в случае чего оказались бы мне совсем не лишними.
Я уже не боялся предстоящей битвы, почти желал её, и мне опять снились сны про поле брани, но теперь всё происходило не так, как в давнем сне, когда перед лицом противника не удавалось даже подняться с колен.
В новых снах всё опять происходило ночью. Я опять был облачён в турецкие доспехи, но теперь не стоял с саблей в руках посреди поля, а восседал в седле, и сабля пока что оставалась в ножнах. Справа и слева от меня находились мои бояре, тоже конные. Вся конная часть войска была позади нас. Впереди – пешие воины, которых я видел лишь потому, что свет луны бросал отблески на их шлемы. Мы все знали, что Штефан рядом, и ждали, откуда же он появится. Никто не боялся. А причина, наверное, заключалась в том, что я сам не боялся и мысленно повторял: "Ну же! Покажись! Покажись, чтобы мы знали, в которую сторону метать стрелы". Лучники были наготове, и я сам чувствовал себя, как натянутая тетива. Долго это продолжаться не могло. И вот вдали раздавался некий странный звук, похожий на волчий вой. Бояре принимались спрашивать: "Это Штефан? Его боевой клич? Господин, прикажешь пускать стрелы?" Я не был уверен, не хотел тратить стрелы попусту, поэтому напряжённо вслушивался в непонятный звук... и просыпался.
* * *
В последний месяц осени мои воины, участвовавшие в турецком походе, наконец вернулись домой. Я посчитал нужным встретить их, поэтому находился возле Дуная, когда они в лодках переправлялись на мой берег. Небо закрылось серыми тучами, вода тоже казалась серой, ивы возле берега пожелтели, да и листва наполовину облетела. Ветви с остатками былого убранства покачивались на ветру.
Я сидел в седле и смотрел, как лодки – будто тёмные скорлупки, наполненные муравьями, – двигались по серой реке. Теперь следовало волноваться прежде всего о том, что вернувшиеся воины потребуют оставшуюся часть жалования, обещанную им ещё весной, когда они отбывали в Турцию.
Разумеется, деньги я приготовил, однако приказа расходиться по домам так и не отдал. Не отдал, потому что в тот же день ко мне из Букурешть приехал гонец на взмыленной лошади и привёз "очень важное письмо". В моё отсутствие в столицу пришла тайная весть, которую я ждал больше года – Штефан выступает на меня в поход.
"Но почему сейчас?" – думал я, а затем вдруг понял, что Штефан выбрал это время не случайно. Ведь султан теперь, после возвращения с войны, мог бы гораздо быстрее узнать, что происходит в моих землях, но помочь мне ничем не смог бы. Его воины устали и не пошли бы в новый поход немедленно. Им требовалось отдохнуть хотя бы месяц, а лучше – полгода. И вот Штефан решил подразнить турецкого льва, сплясать перед самой его мордой, потому что сознавал, что лев ничего не сделает. Удачное завершение этого предприятия должно было вселить в молдавских воинов особенное воодушевление.
"Ещё посмотрим, удастся ли тебе победить меня, – думал я. – Мы тут не теряли даром времени. Подготовили большое войско, которое соберётся по первому моему слову. Я призову под свои знамёна семьдесят тысяч, не считая тех воинов, которые вернулись ко мне из-за Дуная. Их я оставлю охранять столицу. Мой брат, когда вёл войны пятнадцать лет назад, мог только мечтать о такой многочисленной рати. Я одолею Штефана. Непременно. Не умением, так числом".
Марица, когда узнала, что я отправляюсь на войну, внешне осталась спокойна. Когда я вошёл в комнату, чтобы сообщить новость, жена уже всё знала, ведь это только что обсуждалось на боярском совете, а когда двери залы открылись, эта новость, будто сама выпорхнула в коридор и понеслась на женскую половину дворца, обгоняя меня. Я ещё не успел произнести ни слова, а Марица уже спросила:
– Снова война, да?
– Да, – ответил я. – Выступаю совсем скоро.
Жена подошла, ободряюще улыбнулась и, погладив меня по щеке, сказала:
– Главное: береги себя.
Так было и три года назад, когда я ходил воевать со Штефаном: Марица излучала спокойствие, а дети были слишком малы, чтобы понимать всю серьёзность происходящего. Они и теперь, повзрослев на три года, как будто не понимали.
Девятилетние Мирча и Влад просили взять их на войну и долго выспрашивали, почему нельзя, а десятилетняя Рица сказала, чтобы я непременно "проучил этих молдаван и отбил у них охоту грабить". Говоря это, она чуть хмурила брови, и это напомнило мне, как временами хмурился Миху. Возможно, дочь сейчас повторяла его слова, но меня это уже не беспокоило: были заботы посерьёзнее.
Заботы разом навалились на меня. Прежде всего следовало думать о снабжении войска, потому что люди и кони должны что-то есть, причём каждый день. И чем больше становится войско, которое собирается в назначенном месте, тем больше забот у того, кто призвал его собраться.
Отдавая бесконечные распоряжения, просматривая отчёты и одновременно готовясь к отъезду, чтобы присоединиться к своим воинам и возглавить поход, я так погрузился мыслями в эти дела, что даже испытал лёгкое раздражение, когда меня отвлекли и спросили про другое.
– Господин, – робко спросил Милко, как всегда помогавший мне с бумагами, – а на войне я тебе точно не нужен?
– Нет. Ты же говорил, что не умеешь ездить верхом. Поэтому я возьму с собой письмоводителя, который умеет.
– А если меня привязать к седлу покрепче?
– Перестань.
– Господин, а с тобой на войне точно ничего не случиться? – не отставал Милко.
– Три года назад ничего не случилось, – ответил я, пожав плечами. – Почему же теперь должно?
Юноша вздохнул:
– Три года назад тоже могло случиться всякое.
– Однако я не помню, чтобы ты так беспокоился.
– Три года назад я не имел права показать беспокойства, – последовал ответ, и это было сказано так просто и искренне, с такой неподдельной заботой, что мне ничего не оставалось кроме как привлечь юного возлюбленного к себе. Он устроил голову на моём плече, а я погладил его по волосам:
– Ничего со мной не случится.
Впрочем, своих слуг-греков я тоже не собирался брать с собой, потому что почти все они были уже людьми пожилыми и плохо перенесли бы походные тяготы. Всё, что так или иначе напоминало мне о моей прошлой жизни и о моей двойственности, я оставлял в Букурешть, а в поход отправлялся будто другим человеком.
* * *
Моё войско двигалось на восток, в сторону молдавской границы. Я и мои бояре ожидали, что Штефан пересечёт её где-то между Брэилой и Фокшани, но, возможно, мы смогли бы пересечь её первыми и дать бой молдаванам на их землях. Хорошо бы, если б удалось. Но особенно надеяться на это не стоило.
Я часто размышлял об этом в седле – пока мой конь мерно шагал в центре войска, следовавшего по широкому торговому тракту. Под ногами людей и лошадей чавкала ноябрьская дорожная грязь, но этот звук почти заглушался скрипом телег, разговорами, конским ржанием и множеством других звуков, обычных в толпе.
Даже закрыв глаза, я слышал всё и мысленно хвалил себя за то, что собрал такое огромное войско, но одно обстоятельство не давало мне покоя – мне не удавалось почувствовать себя частью этого сборища.
На первый взгляд – ничего страшного, но мне казалось, что истинный полководец всегда должен чувствовать себя единым со своей армией. Так ею проще управлять, ведь люди охотнее подчиняются, когда знают, что военачальник им как родной отец или как старший брат, но я не ощущал себя ни отцом, ни братом воинов и даже не был уверен, что у нас у всех есть общая цель.








