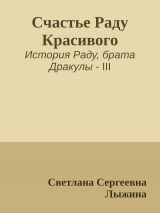
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Мне казалось, я давно смирился и со своим старением, и с тем, что отношение ко мне при турецком дворе меняется. И вот теперь оказалось, что не смирился, и этот гнев прорывался исподволь. Прорывался в упрёках, которые казались несправедливыми даже мне самому: "Как вы смеете быть безразличными!? Я заслуживаю от вас если не любви, то просто тёплых чувств. Заслуживаю!"
Стоило только вспомнить знакомое лицо, и сразу становилось ясно, что к этому человеку я не могу обращаться так, потому что он не проявляет безразличия. Мехмед оказывал мне знаки благоволения – в том числе на ложе. Ахмед-паша называл другом. И даже ближайшее окружение султана относилось ко мне уважительно и приветливо, а если они и думали, что я – всего лишь старый мальчик, то никак не показывали такого отношения.
Наверное, во мне говорили амбиции. В глубине души я так и не смирился, что перестал быть фаворитом султана. Особое положение при Мехмеде не было для меня ценно, пока я оставался в фаворе, но стоило перестать быть "мальчиком", как сразу обозначились все выгоды прежнего статуса. Я только говорил себе, что не могу тягаться с молодым Хасс Муратом. Но всё же пытался. И лелеял тайную надежду найти себе более достойного любовника, чем султан.
Ахмед-паша казался мне таким любовником, ведь он был и оставался лучшим поэтом Турции, а перед поэтическим мастерством склоняются в почтении даже султаны. Я знал, что Ахмед-паша ценит юную красоту, а если бы поэт обратил взор на меня, это означало бы, что я всё ещё юн. Его внимание стало бы доказательством.
Всеми способами я старался заполучить это доказательство. Но в то же время хотел угодить султану, чтобы чувствовать – бывший "мальчик" всё ещё имеет власть над сердцем своего повелителя.
И вот игра оказалась проиграна. А я чувствовал досаду и раздражение, потому что вдруг понял, насколько сильно обманывал сам себя. Я надеялся на некую удачу, на чудо. Надеялся, что получу больше, чем то, на что действительно могу претендовать в своём нынешнем положении.
Последняя поездка показала, что мечта не исполнится – люди, которые не считают моё тело привлекательным и желанным, не станут относиться ко мне по-другому, как бы я ни старался угодить им, оказать услугу. А ведь я так надеялся, что получится наоборот!
А самое обидное состояло в том, что в погоне за мечтой я пренебрегал тем, что имею. "Ведь есть же люди, которые искренне любят тебя, восхищаются, желают, – напомнил я себе. – Сейчас они ждут тебя в Румынии за Дунаем".
Но вот беда – тех, которые любили меня, я не любил. А ждал восхищения от тех, которые меня не любят. В Евангелии я однажды прочёл, что легко любить людей, которые тебя любят, и трудно любить врагов. Эти слова сказал Христос, когда призывал: "Любите врагов своих". Но теперь мне хотелось спорить с Ним.
"Почему же мне так легко любить людей, которые не любят, а лишь используют меня для своих целей? Султан пользуется мной. И всегда так было – он не любил меня, а лишь пользовался. И Ахмед-паша пользовался, играя на моих чувствах. Люди, которые так поступают со мной, это враги. Но я стремлюсь быть ближе к ним, а любящих меня отвергаю. И от этого мои несчастья. Почему же я не могу наоборот? Ведь Ты же говоришь, что любить любящих – очень просто! Ты говоришь, что это не требует усилий и потому не является заслугой. Но почему же я тогда не могу сделать такой простой вещи?"
И вдруг мне показалось, что я всё-таки могу это сделать – разорвать цепь несчастных судеб. Я вспомнил про Милко. Этот юноша полюбил меня, а я полюбил Ахмеда-пашу, который в свою очередь полюбил пажа, не имеющего особых склонностей и желающего, чтобы его оставили в покое. И все несчастны, потому что никто не получает желаемого.
"Возможно, Ахмеду-паше всё-таки улыбнётся удача, – подумал я, – но моя удача не в нём, и чем раньше я с этим смирюсь, тем счастливее буду".
Опять вспомнилась минувшая весна, когда я сильно простудился, а Милко читал мне по-гречески, чтобы развлечь, но после нашего откровенного разговора он при всякой встрече со мной очень волновался, боясь нарушить данное мне обещание.
Ещё окончательно не выздоровев и оставаясь в постели, я всё так же хотел, чтобы мне читали что-то из Иоанна Златоуста, и просил, чтобы отрывки выбирались наугад. Милко брал первую попавшуюся книгу из собрания сочинений святого, открывал на первой попавшейся странице, но однажды ему подвернулось рассуждение Златоуста об Иуде. Святой говорил, что Христос несмотря ни на что скорбел об ученике, погубившем свою душу и своё тело. Спаситель сострадал всем и каждому.
Когда Милко понял, о чём читает, то осёкся и со страхом посмотрел на меня, будто говорил: "Я не нарочно это выбрал". Отрывок ясно напомнил нам обоим о недавней беседе, но я притворился, что не вижу взаимосвязи, и махнул рукой:
– Продолжай.
Мой писарь продолжил чтение, но вскоре голос дрогнул. А затем ещё раз.
Я уже хотел приказать "читай что-нибудь другое", но тут дверь отворилась и в комнату вошла Марица:
– Пришла тебя проведать, – сказала жена, лукаво улыбнувшись. – Лекарь уверяет, что ещё дня два, и ты будешь совсем здоров.
– Да, – ответил я и тоже улыбнулся, потому что мне была приятна чужая забота.
Марица подошла к моей постели и, оглянувшись на Милко, сказала:
– Выйди.
Она произнесла это без всякого высокомерия, но также лукаво, будто показывая, зачем хочет остаться со мной наедине, поэтому мне стало немного жаль Милко. Он, всё поняв, сразу помрачнел, послушно положил книгу и вышел, а жена присела на край моей постели и погладила меня по голове:
– Я редко приходила последнее время. Прости.
– Тебе не за что просить прощенья, – ответил я, а она, ободренная моими словами, наклонилась к моим губам.
Я всё ещё думал о Милко – о том, как он помрачнел, когда ему напомнили, что у него нет никаких прав быть подле господина. Чтеца и сиделку могут в любую минуту отослать. И именно поэтому мне не захотелось принять от жены поцелуй.
Я закрыл рот ладонью:
– Не нужно. Вдруг моя хворь всё ещё заразная.
Марица помрачнела, но ничего не сказала. Она снова погладила меня по голове, а затем быстрым движением поцеловала в макушку, как будто боялась, что и это запретят.
"Я огорчал и Милко, и Марицу, двоих любящих меня людей, – подумалось мне, – огорчал своими "нет". Но я ведь могу сказать "да" и ему, и ей. Могу".
Мне вдруг показалось, что пресловутая двойственность – вовсе не проклятие, а дар, потому что позволяет ответить любовью на любовь каждому, кто бы это ни был. Почему же не следовало использовать этот дар?
Вдруг вспомнилась папка со стихами о любви, которая хранилась в моих покоях в библиотечной комнате, и другие стихи, которые ехали сейчас в Бухарест в одном из моих дорожных тюков. "В этих стихах всё совсем не так, как в действительности, – подумал я. – Там сказано, что осенью не может зародиться любовь. Но вот сейчас осень. И что же? Может, в Турции это время расставаний, но в Румынии – время свадеб. Все румынские крестьяне играют свадьбы осенью, после сбора урожая, и для них это праздник любви. Я и сам женился осенью. И также ничто не мешает мне осенью найти себе любимого друга".
* * *
Поначалу я, рассуждая о том, что должен перемениться, понимал это лишь умом, а сердце по-прежнему сожалело о несбыточности иных желаний, но когда болгарские земли уже почти закончились, и мне осталось совсем не много до Дуная, моё сердце переменилось тоже.
Это оказалось удивительно, потому что я готовился убеждать себя и уговаривать. И даже заставлять: "Ты должен любить тех, кто тебя любит!" Но заставлять себя не пришлось. Подъезжая к Дунаю, я вдруг обнаружил, что тороплю коня, и вовсе не потому, что надеюсь снова увидеть мальчика-перевозчика. Он стал мне безразличен. Я стремился именно в Букурешть и предвкушал радость встречи с теми, кого хорошо знаю.
После переправы, то есть оказавшись на своей земле, я не выдержал. Снова усевшись в седло, бросил почти всех слуг, обременённых тяжёлой поклажей, и с несколькими провожатыми припустился вскачь в сторону своей столицы: "Если поспешить, то как раз успею до вечера, пока городские ворота не закрылись, а даже если опоздаю, то государя впустят в город даже ночью".
К Букурешть я подъехал уже в вечерних сумерках. Стражники, которые узнали меня, удивились, что со мной так мало слуг, и поэтому осмелились спросить, не случилось ли чего, но я лишь счастливо улыбнулся:
– Остальные приедут завтра.
Схожий вопрос мне задали и тогда, когда я доехал до своего двора. Жена, вышедшая меня встречать во главе толпы, вглядывалась в моё улыбающееся лицо. Она чувствовала, что беспокоиться не о чем, но не могла не спросить:
– Всё хорошо? Я ждала тебя завтра днём, а ты приехал сегодня. Почему?
– Соскучился. Где наши дети?
– Ужинают.
Через несколько мгновений в дверях главного входа показались моя дочь и два сына. Вприпрыжку преодолев ступеньки крыльца, они добежали до середины двора, где стоял я с женой:
– Отец, ты уже приехал!
Я обнялся с ними, а Марица, внимательно оглядев всех троих, строго сказала:
– А ужин? Вы не доели? Идите доедайте.
Дети оглянулись на меня, а я кивнул:
– Идите. Про путешествие расскажу завтра.
– А ты сам есть хочешь? – спросила жена.
– Хочу сегодня ужинать с тобой, – ответил я. – И ночевать у тебя останусь.
Уже много лет она не слышала, чтобы муж говорил так и не обращал внимания на то, что за день сегодня: постный или непостный. И не узнавал ни о чём у лекаря.
Даже в сумерках я заметил, что Марица вдруг зарделась, но она быстро совладала с собой и сказала:
– Тебе надо вымыться с дороги. Весь пыльный, – она провела ладонью по моей щеке.
– Госпожа, прикажете топить баню? – спросил кто-то из слуг.
– Нет, это долго, – ответила Марица и, чуть подумав, сказала мне: – Приходи через четверть часа. Я придумаю, как тебя наскоро отмыть, а затем сядем за стол.
Я направился к себе в покои, чтобы скинуть запылившийся в дороге кафтан и хоть немного отдохнуть, ведь на всём пути от Дуная до Букурешть почти не отдыхал и только сейчас заметил, как ноют ноги, требуют присесть.
Проходя по дворцовым коридорам, я вдруг задумался, видел ли своего писаря в толпе встречавших. Среди челяди были все мои воспитанники и воспитанницы, которые радовались моему приезду. А он? Он наверняка был там, но чёрная одежда сделала его почти невидимым в сумерках. Хотелось спросить о нём, но я сдержался. Вдруг подумалось, что это может быть подозрительно, если я спрошу о нём просто так.
* * *
Марица всегда была не похожа на других женщин, с которыми мне доводилось иметь дело. В других слишком глубоко укоренилось представление о том, что удел женщины – подчиняться. Даже женщины из дома терпимости в греческом квартале в Эдирне были уверены, что женщина должна вести себя именно так. Она должна привлечь, распалить в мужчине страсть, но затем просто отдаться, не делая ничего и лишь плывя по течению.
Марица была не такова, хотя поначалу, когда мы только поженились, казалась самой обычной. Скромность и застенчивость у неё пропали уже в первую брачную ночь, и в этом не было ничего особенно удивительного, но дальше началось нечто особенное, а на все мои вопросы, почему это происходит, жена отвечала: "Потому что я люблю тебя".
Оказалось, что моя супруга стремится не подчиняться, а повелевать. Всеми своими ласками, каждым движением, которым я сам же её и научил, она не просто стремилась распалить во мне страсть. Она будто говорила, что мне делать и как делать.
Я даже сам не сразу заметил, что на ложе с ней ни мой разум, ни моё тело мне не принадлежат. Повелевает жена. Она выбирает, как всё начнётся и чем закончится, а у меня нет времени даже задуматься о том, чего хочу я сам. Этот вихрь страсти по имени Марица кружит тебя и кружит, и невозможно противостоять вихрю.
Кого-то из мужчин возмутило бы такое положение вещей. С такой женщиной ты являешься мужчиной лишь формально, а на самом деле мужчина – это она. Ведь это она повелевает. Она забирает у тебя то, что ты можешь дать, а не сама отдаётся.
Но мне нравилось не быть мужчиной в полной мере. Чтобы подчиняться, нужно намного меньше душевных сил. Не буду лукавить – подчинять я не привык и никогда особенно не стремился к этому. Я хотел иметь возможность подчинять, но часто пользоваться такой возможностью казалось мне утомительно. А Марица это как будто понимала. И брала весь труд на себя. И ей это не казалось в тягость.
Будь у меня жена, которая только и могла бы, что лечь на кровать и сказать: "Владей мной", – я бы охладел к ней уже через месяц. А с Марицей получилось совсем иначе. Моё влечение угасало в течение нескольких лет. Я постепенно забывал, что меня в ней привлекает, но теперь с недоумением спрашивал себя: как я мог забыть!? Как!?
Придя в её покои через четверть часа, как было условлено, я увидел, что жена встречает меня на пороге. Целует и говорит:
– Заходи скорей, – то есть уже повелевает.
Посреди комнаты стояла бадья с подогретой водой. На столе был накрыт ужин.
– Раздевайся, – сказала Марица, – я помогу тебе вымыться, – то есть опять повелевала.
Оставалось только слушаться, а затем сидеть в бадье, блаженно закрыв глаза, и ощущать, как меня осторожно трут мягкой мочалкой.
– Брить я тебя не буду, – моей щеки коснулась женина ладонь, – я это плохо умею.
– Это долго к тому же, – я поймал её руку и поцеловал.
Когда я вылезал из бадьи, а Марица подавала мне простыню, в которую я мог завернуться и тем самым вытереться, от меня не ускользнуло, что жена исподволь оценивает мои стати. Так обычно мужчина смотрит на женщину, а не женщина на мужчину, но для Марицы такой взгляд был естественен.
"Вот восхищение, которого ты ждал и искал", – сказал я себе и почувствовал себя как в старой сказке, которую мне рассказывала в детстве нянька: витязь Фэт-Фрумос отправился в далёкие земли счастья искать, а счастье дома.
– Марица, как же я по тебе соскучился, – сказал я, но обнять жену не мог, потому что мешала простыня, в которую меня завернули.
Жена сама обняла меня и потянула к кровати.
* * *
На другой день, выйдя утром из жениных покоев, я направился к себе якобы затем, чтобы приняться за государственные дела: почитать челобитные, которых за месяц моего отсутствия должно было накопиться достаточно, а также письма, которые регулярно приходили мне из-за гор, из Трансильвании.
Однако тратить день на дела было вовсе не обязательно. Если бы вчера я вдруг не заторопился доехать от Дуная до Букурешть и вернулся бы тогда, когда изначально намеревался, то добрался бы до дворца лишь сегодня к полудню, а затем отдыхал бы и отмывался от дорожной пыли. Да, всё в итоге сложилось иначе – ещё не пробило и девяти, а я уже находился во дворце, но никто от меня не ждал, что сегодня я буду что-то решать и рассматривать. Выгаданный день я мог провести, как хотел, поэтому с удовольствием отметил: "Ещё и девяти нет, а я уже дома".
Придя в свои покои, казавшиеся почти безлюдными, потому что мои челядинцы-греки ещё находились в пути, я велел, чтобы мне принесли из канцелярии письма и прочие бумаги, для меня предназначенные:
– Пусть Милко принесёт, – сказал я.
Он вскоре явился, с подносом, на котором лежала куча свёрнутых в трубку грамот:
– Доброго утра, государь, – сказал мой писарь, поставил поднос на стол и, чуть помедлив, уже тише проговорил: – Хорошо, что ты приехал. Много дел накопилось.
Очевидно, он не знал, имеет ли право сказать, что рад видеть меня после того, как целый месяц не видел. "Бедняга", – подумал я, а затем, оглянувшись на дверь и убедившись, что она закрыта, поманил юношу пальцем:
– Иди-ка сюда. Ближе. Ближе.
Милко понял, что что-то должно случиться. Я опять поймал себя на мысли, что он прекрасно чувствует моё настроение, читает меня, как открытую книгу, и лишь нехватка жизненного опыта не всегда позволяет правильно истолковать "прочитанное". Он не смог угадать, что затевается, поэтому очень заволновался и шёл неуверенно. А когда остановился от меня в трёх шагах, я сам шагнул навстречу, сжал ему ладонями голову, притянул к себе и крепко поцеловал в губы.
Милко никак не ответил на мой поцелуй, а когда я, наконец, отстранился и вгляделся юноше в лицо, то увидел, что он ошарашен.
По правде говоря, я ожидал, что будет иначе, поэтому сам пришёл в лёгкое замешательство и проговорил:
– В Турции я ещё раз обдумал твои давние слова и решил, что человек вроде тебя мне и вправду нужен. Теперь я верю, что могу положиться на твоё молчание. Нам вместе не будет плохо... Что такое? Или ты передумал?
Мой писарь так же ошарашено смотрел на меня, поэтому на мгновение мне показалось, что он действительно передумал. И я почти испугался, что всё может закончиться так. А затем тот вдруг упал на колени и крепко обнял меня, прижавшись щекой к пуговицам моего кафтана:
– Господин.
Этого я тоже совсем не ожидал, и потому всё происходящее показалось мне неуместным:
– Ну, зачем? Не нужно. Подымись с колен.
Он как будто не услышал и не замечал, что я пытаюсь тянуть его вверх, поэтому я оставил попытки, снял с него монашескую шапку и погладил по голове.
Милко поднял на меня глаза:
– Господин, я тебя люблю.
Я улыбнулся, ухватил этого юношу подмышки и теперь уже настойчивее потянул вверх. Мне хотелось ответить, что со временем я и сам, наверное, смогу полюбить его. Но о любви не говорят, глядя свысока.
* * *
Когда мои челядинцы-греки наконец доехали до столицы и увидели своего господина, то с некоторым неудовольствием обнаружили, что он опять стал безрассуден, как когда-то в молодости. Если от обычных дворцовых слуг я мог легко скрыть, что у меня появился возлюбленный, то слуги-греки знали, на что обратить внимание. Только увидев, как я поглядываю на своего писаря, и как тот смотрит на меня, они поняли всё. А ведь ничего ещё по сути не произошло – только намечалось.
Когда я, улучив время, подозвал старшего слугу, он уже знал, о чём я собираюсь с ним говорить. Пожилой грек нисколько не удивился, когда услышал:
– Вы должны позаботиться об этом юноше. Объяснить ему правила особой чистоты и помочь её соблюдать. А сегодня вечером приведите его ко мне.
Теперь я начал оценивать свои поступки с точки зрения того, насколько подозрительными они могут показаться, поэтому мысленно представил, как мои челядинцы ведут Милко в баню: "Нет, это не подозрительно. Ведь все знают, что государь Раду помешан на физической чистоте и не станет терпеть, если от секретаря исходит запах пота. Все подумают, что я велел отвести юношу в баню именно поэтому".
Об истинной причине никто и впрямь не догадался. И, конечно, никого не удивило, что тем же вечером Милко отправился ко мне в покои. Во дворце уже привыкли, что по вечерам я диктую письма. Иногда до глубокой ночи.
Разумеется, в тот вечер я ничего не диктовал. Даже для вида. Мой секретарь был настолько взволнован, что не сумел бы нанести на бумагу ни одной буквы – дрожали руки. Когда он, стоя посреди спальни, избавлялся от своего подрясника, пуговица на вороте оторвалась.
И вот передо мной стоял не будущий монах, а просто крестьянский юноша в белой холщовой рубахе и таких же штанах. На ногах поверх холщовых обмоток была обычная крестьянская обувь – остроносые кожаные опанки с верёвочными завязками.
А впрочем, даже в такой одежде его при ближайшем рассмотрении не получилось бы принять за крестьянина. Это раньше взгляд больших серых глаз казался простоватым, как у обычного сельского жителя, но Милко уже не первый год находился при моём дворе и за это время изменился. Глядя в глаза своему новому возлюбленному, я перестал чувствовать себя ответственным за его судьбу. Он уже выбрал дорогу в жизни. Независимо от меня. Выбрал, полностью осознавая последствия.
От остальной одежды я избавил его сам, а при виде чужого обнажённого тела во мне пробудилось чувство собственника. "Моё, моё", – мысленно повторял я, впиваясь в это тело поцелуями.
В тот раз я чувствовал себя мужчиной в гораздо большей степени, чем тогда, когда проводил ночи с женой. Ведь именно мужчине свойственно обладать, подчинять, властвовать. Милко полностью покорился моей воле, а я, избавив возлюбленного от одежды, увлёк его в свою постель, как хищный зверь затаскивает в логово свою добычу, а в мыслях шептал: "Моё".
Это казалось удивительно, что вот со мной находится юноша, которого можно целовать, мять в объятиях, а он ведёт себя настолько покорно, будто в самом деле является добычей, которую придушили, как это принято у многих хищников, чтобы не сопротивлялась. Его губы были очень мягкими, как у спящего, и он едва отвечал на мои поцелуи.
Я просил:
– Обними меня, – но руки юноши, смыкавшиеся на моей спине, уже через минуту безвольно падали на простыню. Он совсем ничего не делал и мог только счастливо вздыхать.
Я вдруг понял, почему Милко, когда я объявил ему о том, что он станет возлюбленным, повёл себя так странно. Захотелось сказать ему: "Ты совсем как женщина, если от одного поцелуя у тебя подгибаются колени, и ты можешь только отдавать своё тело в чужое владение". Но и эта способность казалась ценной.
Поначалу я собирался обойтись без проникновения, потому что боялся нечаянно причинить боль. Никогда прежде мне не доводилось иметь дело с неопытным юношей, а неопытный может не суметь расслабиться, как нужно. "Лучше не спешить, – думал я, – ведь первый опыт обязательно должен оставить только хорошие воспоминания". И вот обнаружилось, что Милко неосознанно делает то, что опытный делает осознанно. Я даже усомнился, возможна ли такая податливость, если нет опыта, но заставил себя отбросить сомнения.
Этот юноша и вправду оказался больше похож на женщину, чем моя жена. Но если её я любил именно потому, что она вела себя больше по-мужски, а не по-женски, то в Милко мне понравилось то, что женское начало в нём оказалось неожиданно сильным.
* * *
Впервые за долгое время я стал обращать внимание на погоду за окнами. Раньше мне достаточно было лишь мимолётного взгляда, чтобы понять, солнечно на улице или пасмурно, и как это должно отразиться на моей одежде, а теперь я вдруг сделался мечтателен и смотрел в окна просто так.
Я радовался, что день ясный, а ведь для конца сентября это считалось редкостью, а затем испытал лёгкое сожаление, что не могу в эту хорошую погоду поехать кататься, потому что был уже созван боярский совет.
На этом совете, состоявшемся вскоре моего приезда из Турции, я рассказал о том, что султан Мехмед собирается в поход на своего азиатского соседа – Узун-Хасана, и что мы должны дать двенадцать тысяч воинов для султанского войска.
Как я и ожидал, бояре поначалу оказались недовольны. Они не хотели давать своих людей, но успокоились, когда услышали, что я предлагаю отправить к султану наемников да ещё и выплатить им почти всё жалование за счёт своей казны:
– Две трети выплачу я, а треть – вы.
Бояре согласились, а на пиру, который состоялся после совета, поднимали здравицы за "справедливого государя, радеющего о своих подданных".
Я улыбался, мне было приятно чужое одобрение, а вино приятно горячило кровь. Опять захотелось бросить всё, выйти из душной хоромины во двор и велеть, чтобы поседлали коня для прогулки. Пришлось уговаривать себя: "Пир скоро закончится. Тогда и сделаешь, как задумал", – но предвкушение уже радовало, как вдруг моё приятное времяпровождение нарушила одна мысль, от которой ни в коем случае не следовало отмахиваться.
"А что будет, когда молдавский князь Штефан тоже узнает о намерениях султана? – подумал я. – Если султан с войском надолго уйдёт к южным границам своего государства, то моя страна, находящаяся у северных границ, останется без поддержки. Во время моего правления ещё никогда не случалось подобного: Мехмед не уходил на юг так далеко. Значит, молдаване снова могут прийти, чтобы грабить и жечь. Они понимают, что венгры меня не защитят, а вот турки, которые могли бы прийти на помощь, окажутся слишком далеко".
Сколько мог продлиться султанский поход? Полгода или больше? И всё это время мне предстояло жить в опасениях? А меж тем за окнами потемнело. Солнце временно зашло за облака, и пусть я понимал, что это всего лишь досадное совпадение, а не дурной знак, внутри поселилась тревога.
На следующий день я поговорил об этом с несколькими самыми доверенными своими боярами, и мы решили в ближайшее время отправить в Сучаву, молдавскую столицу, разведчика под видом купца. Он должен был выяснить, собирается ли Штефан в поход, ведь намерения Мехмеда скоро стали бы известны всем.
Также я настоял, чтобы мы потихоньку начали готовить войско, которое сможет собраться по первому приказу, если из Сучавы придёт плохая весть. Для начала следовало купить сталь, чтобы ковать новое оружие, а заодно не помешало бы запастись порохом, понаделать стрел...
* * *
За время своего десятилетнего правления я не раз задумывался, что будет, если потеряю власть. И уже давно решил, как стану действовать: за власть бороться не стану, а поселюсь с семьёй в гостеприимной Трансильвании. Мне рассказывали, что там много лет жил мой отец, и я собирался последовать этому примеру.
Венгерскому королю я по-прежнему оставался угоден, так что мне охотно предоставили бы убежище в любом из трансильванских городов. О своих намерениях оставить борьбу за трон я бы никому не сказал, на все вопросы отвечал бы уклончиво, но меня в конечном итоге оставили бы в покое. И настала бы тихая жизнь. Для меня и моих родных. Оставалось только копить деньги, чтобы их хватило на весь остаток моих дней и ещё – на достойное приданое для дочери.
Временами я представлял, что именно там, в Трансильвании встречу старшего брата, которого когда-нибудь всё же должны были освободить из венгерской тюрьмы. Он наверняка явился бы ко мне в дом. А если нет, я сам разыскал бы брата, и мы бы тепло обнялись, потому что не казались бы друг другу врагами. Борьба за трон не разделяла бы нас. Конечно, мой брат стремился бы снова сделаться правителем Румынии, но не я. Я бы лишь помог ему, если б потребовалось. И сказал бы, что в моём доме в Трансильвании он в случае чего всегда найдёт помощь и поддержку.
Так я мечтал до недавнего времени, а теперь начал задумываться, что такая жизнь может мне не подойти, ведь трансильванский дом весьма тесен по сравнению с дворцом в Букурешть. Пусть мой дворец никогда не считался роскошным, а в Трансильвании можно было купить или построить весьма просторное жильё, разница оказалась бы заметной. А если так, то смог бы я в Трансильвании скрывать то, что сейчас скрывал с лёгкостью? Мои ночные бдения с юным секретарём стало бы уже не так просто облекать в благовидную форму.
Жена во дворце жила на женской половине, то есть весьма далеко от моих личных покоев, а в доме стала бы жить где-то рядом, так что можно дойти за минуту. Женины служанки и мои слуги постоянно сталкивались бы в коридорах, переговаривались, обменивались новостями о том, где господин и где госпожа. И я сам наверняка бы начал сталкиваться с супругой чаще, а она стала бы чаще заходить в мои комнаты просто так, без причины.
Марица рано или поздно принялась бы спрашивать, почему у меня по вечерам так много дел с перепиской, если я уже не правитель. И почему мне непременно надо запираться. И почему мои слуги-греки сторожат меня, как цепные псы. "Она бы догадалась. Рано или поздно она бы догадалась", – думал я, и мне не хотелось, чтобы случилось так.
Раньше мне не давало покоя то, что жена знает обо мне не всё, а если б узнала, то с отвращением отвернулась бы. Я говорил себе, что если она не способна полюбить меня целиком, а любит только ту половину, которую знает, то это не истинные чувства.
Теперь же я стал рассуждать иначе: мне было достаточно, что Марица любит лишь одну мою половину. Ведь для другой половины тоже нашёлся любящий человек. И этому любящему не нравилось, что у меня жена. Он предпочёл бы, чтобы её не было. Пусть Милко никогда этого не высказывал, но на его лице всё читалось ясно. Он слегка досадовал. Как и жена досадовала, что муж проводит с ней не все ночи. Пусть я опять стал частенько нарушать пост, как было в первые годы брака, но вычисление неплодных дней продолжал.
Да, Милко и Марица досадовали, а вот мне сделалось очень хорошо. Я оказался согрет любовью с обеих сторон и хотел, чтобы всё оставалось так. Именно поэтому переселение в Трансильванию теперь меня беспокоило. В Трансильвании жизнь непременно оказалась бы иной. А я не желал перемен – перестал стремиться к ним, потому что впервые за много лет почувствовал, что по-настоящему доволен и счастлив.
* * *
Солнце ярко светило в окна библиотечной комнаты, где сидели мы с Милко и действительно занимались делами. Я диктовал – он записывал.
Мой писарь выводил на бумаге заключительную фразу, когда я оглянулся по сторонам и подумал: "Вот счастливая минута. Ты живёшь счастливо, Раду. Почаще осознавай это".
Мир вокруг начал казаться особенно прекрасным. Прекрасна была прозрачность стёкол, пропускавших золотистый солнечный свет. Прекрасной казалась комната с белёными стенами, покрытыми незатейливой росписью. Прекрасными выглядели толстые кожаные переплёты книг, стоявших в приоткрытом шкафу. И сами шкафы из тёмного дерева с глухими дверцами, украшенными резьбой, тоже были прекрасны. Алое сукно, покрывавшее стол, шероховатая желтоватая бумага письма, ярко-белое гусиное перо в руках Милко – всё меня восхищало.
А затем я посмотрел на руку с тонкими пальцами, державшую то самое перо, и чёрный рукав подрясника. Краешек рукава показался чуть-чуть обтрёпанным. Раньше, когда в комнате не было такого яркого солнца, я этого не замечал, а теперь заметил, и мне стало стыдно. "Что за скупость, Раду! – укорил я себя. – Почему ты позволяешь, чтобы твой возлюбленный носил потрёпанные вещи. Он должен одеваться в самое лучшее. Пусть он станет таким же прекрасным, как и всё, что тебя окружает".
Я вспомнил крестьянскую одежду, которая скрывалась под подрясником, и мне стало ещё более стыдно: "Нет, так нельзя". Однако Милко отличался скромностью, и потому его было не так просто одарить. Следовало схитрить.








