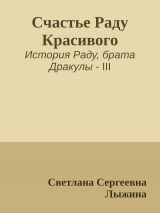
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
"Нет, султан мне уже не благоволит, – думал я. – То, что он сделал недавно, он сделал не для меня, а для себя. Хотел доказать себе, что сам ещё в силах".
А затем мне вспомнился сын рыбака – красивый мальчик, которого я хотел обманом увезти в Турцию. Вдруг подумалось: "Как хорошо, что намерение не осуществилось! Если бы Мехмед увидел этого мальчика рядом со мной, то разочаровался бы во мне так же, как в своём друге-поэте".
Раньше мне казалось, что тот давний поход в особую таверну означал, что у меня теперь есть право найти себе возлюбленного, поскольку сам я уже не фаворит. И вот оказалось, что таким правом я не обладаю. Султан в итоге посчитал бы это изменой, потому что по натуре был собственник, которому можно менять возлюбленных, но возлюбленные, даже оставленные, должны принадлежать только ему.
Над головой Ахмеда-паши, нарушившего правило, начали сгущаться тучи и я беспокоился за него, но в то же время радовался, что тучи сгущаются не над моей головой.
* * *
Я подумывал о том, чтобы предупредить Ахмеда-пашу – отправить анонимное письмо и посоветовать: "Забудь о пажах, даже не смотри на них". Но отправить такое письмо у меня смелости не хватило, ведь если бы Мехмед узнал о моём поступке, то разгневался бы, и неизвестно, насколько тяжёлым было бы наказание. А если бы он наказал не только меня, но и моих подданных, обложив мою страну более тяжёлой данью или устроив набег? Кто знает...
В итоге я рассудил, что Ахмед-паша – очень разумный человек и потому происшествие на охоте должно стать для него предупреждением само по себе. А затем мне вовсе стало казаться, что я преувеличил опасность, потому что Мехмед проявил к своему другу-визиру благоволение.
Во дворце был устроен пир, который, как часто бывало, продлился до глубокой ночи, поэтому особо знатным его участникам было предложено остаться во дворце, дабы избежать лишнего беспокойства и не ехать домой в темноте. Приглашение остаться получил и Ахмед-паша.
Я не сомневался, что султан хотел уединиться с ним после пира в своих покоях, поэтому весьма удивился, когда утром, примерно во втором часу после рассвета, ко мне пришёл слуга из личных покоев султана и сказал, что я должен немедленно явиться в дворцовые бани:
– Мы пойдём так, чтобы нас никто не видел, – сказал слуга.
"Если султан тратил силы, веселясь на пиру, и после пира тоже бодрствовал почти до рассвета, то сейчас должен спать, как убитый, – думал я, наскоро одевшись и следуя за слугой по пустым незнакомым мне коридорам: – Почему же он не спит в такую рань? Что-то случилось?"
От влажного горячего воздуха дворцовых бань мой лоб сразу покрылся испариной. Я также почувствовал, как по спине под кафтаном вниз стекает струйка пота, поэтому надеялся, что скоро смогу избавиться от верхней одежды, которая в бане казалась неуместной, однако раздеться мне не предложили.
Вместо этого меня провели в одно из небольших помещений, где цветочные узоры на плитке, покрывавшей стены и пол, были особенно затейливы. Посреди помещения располагался маленький круглый бассейн с горячей водой, от которой поднимался пар, то есть здесь кого-то ждали, причём скоро. Чьих-либо вещей, оставленных на каменной скамье, я не заметил, а меня тем временем отвели за ширму, зачем-то стоявшую весьма далеко от скамьи, в противоположном от неё углу.
За ширмой я обнаружил Мехмеда, который, полностью одетый, сидел в раскладном кресле и утирал платком пот с лица.
Увидев, что я в недоумении, султан улыбнулся и, тряхнув платком, который уже был насквозь мокрым, тихо произнёс:
– Такова цена правды, но я готов платить.
– Повелитель, я не понимаю. Мне казалось, что ты сейчас должен находиться в своих покоях. И не один.
– В эту ночь я спал один, – сказал султан. – А точнее – дремал в ожидании утра.
– Что же должно произойти этим утром, повелитель?
– Ты не знаешь, а я знаю, что Ахмед всегда просыпается с рассветом. И приказывает приготовить ему баню. Он скоро должен прийти сюда, и тогда я узнаю правду. Останься здесь со мной. Я хочу, чтобы ты тоже увидел, как правда явит себя.
– Повелитель, имею ли я право спросить о том, что же произойдёт?
– Нет, – снова улыбнулся Мехмед. – Просто смотри, а после скажешь, насколько хитрым был мой замысел.
Мы с султаном ждали ещё около получаса и почти всё время молчали. Я уже подумывал сесть на пол, поскольку устал стоять, как вдруг возле входа послышались шаги, и один из банщиков нарочито громко произнёс:
– Прошу сюда, уважаемый Ахмед-паша. Всё уже готово.
Мехмед, сидя в кресле, весь подался вперёд, так что почти упёрся носом в сетку ширмы, сделанную так, что через неё можно было всё видеть, а самому оставаться почти невидимым.
Ахмед-паша не заметил, что в помещении ещё кто-то есть. Он даже не взглянул в сторону ширмы, а просто разделся и зашёл в бассейн, где уровень воды оказался чуть выше колен. Затем этот визир сел, опершись спиной о край бассейна, и закрыл глаза, чтобы помечтать или подремать, как вдруг в дверях появился знакомый мне паж-сокольничий. Тот самый, за которым визир-поэт пытался ухаживать на охоте.
Подобно банщикам этот юноша был облачён только в шаровары и в особые сандалии на деревянной подошве. Торс ничто не прикрывало, и поэтому паж казался ещё более красивым и притягательным. Но почему он вдруг стал исполнять обязанности банщика?
В руках пажа был серебряный поднос, на котором стояла серебряная чашка, явно предназначенная Ахмеду-паше. Юноша двинулся к бассейну, прошёл вдоль края, остановился возле того места, где сидел визир, и опустившись на колени, сказал:
– Господин, это шербет. Для тебя.
Однако Ахмед-паша, уже успевший открыть глаза и с удивлением взиравший на своего гостя, даже не потянулся к чашке, а с беспокойством спросил:
– Что случилось? У тебя новая должность? Почему? И где твои локоны? Ты чем-то прогневал султана, и он тебя разжаловал?
Сквозь сетку ширмы было всё же не очень хорошо видно, поэтому я только сейчас заметил, что у юноши нет длинных прядей, которые несколько дней назад, на охоте казались мне похожими на женские височные украшения. Тюрбан был, а прядки на висках исчезли, и это означало, что красавец уже не принадлежит к пажам. Однако сокольничий, неожиданно ставший банщиком, не ответил на вопросы Ахмеда-паши и, смущённо потупившись, по-прежнему протягивал ему на подносе чашку.
Визир-поэт, не выдержав, взял у юноши из рук поднос, поставил на край бассейна, а сам всё пытался поймать ускользающий взгляд красавца:
– Не смущайся. Скажи, что случилось. Я попрошу за тебя султана. Он благоволит мне, поэтому послушает. Он вернёт тебе твою прежнюю должность. Я же вижу, что быть сокольничим тебе нравилось, а должность банщика не нравится совсем. Посмотри же на меня!
Ахмед-паша рывком поднялся на ноги и, сев на край бассейна, сжал голову юноши ладонями. От этого прикосновения тюрбан пажа, судя по всему, немного сдвинулся. Я не видел, что произошло, но услышал изменившийся голос визира, радостный и взволнованный:
– Ах! Они никуда не делись! Вот твой локон. А вот второй, – я увидел, как тюрбан падает на плиточный пол. – Значит, ты нарочно спрятал их от меня. Зачем? Ты хотел проверить, замечу ли я?
Паж, стоя на коленях у края бассейна, по-прежнему молчал и по-прежнему избегал смотреть на Ахмеда-пашу, сидящего рядом. Визир, на котором были лишь исподние штаны, насквозь мокрые, оказался всё равно что голым, и юношу это очень смущало, но он не мог отвернуться, ведь Ахмед-паша по-прежнему сжимал ему голову ладонями:
– Не смущайся. Если не хочешь говорить, молчи. Я и так догадался обо всём. Ты хотел убедиться, что мои ухаживания – не шутка, да? Ты подумал, что если я неравнодушен к тебе, то должен буду проявить к тебе сострадание, когда ты окажешься в беде. Поэтому ты явился сюда в костюме банщика, хотя на самом деле – по-прежнему сокольничий. Ты всё так же сокольничий?
– Да, – еле слышно произнёс паж.
– Но я выдержал твоё испытание, – взволнованно продолжал Ахмед-паша. – Я доказал, что в моём сердце есть любовь. Не смущайся. Я знаю, что у тебя это впервые. Прежде ты стремился казаться для всех недоступным и никого не любил, поэтому сейчас боишься ошибиться. Но я не обману твоего доверия. Клянусь! Отныне для меня существует только твоя красота! Красоту других я даже не замечу, потому что ты затмеваешь всех. Любовь моя!
Ахмед-паша внезапным рывком притянул голову пажа ближе, приник к его губам страстным поцелуем. Казалось, может произойти и нечто большее, как вдруг я услышал рядом с собой разгневанный возглас Мехмеда:
– Ну, хватит!
Султан толкнул ногой ширму, и эта сетчатая перегородка упала на пол с оглушительным грохотом. Ахмед-паша невольно оглянулся. В его глазах появилась растерянность, а паж тут же высвободился из его рук, вскочил и бросился прочь, с отвращением вытирая губы тыльной стороной руки.
– Повелитель? – только и мог произнести визир.
– Не говори ничего. Я и так догадался обо всём, – язвительно произнёс султан.
– Повелитель... – кажется, это был первый раз на моей памяти, когда Ахмед-паша, превосходный собеседник, не находил слов. Слишком большое потрясение он пережил. Только что ему казалось, что тайная любовь взаимна, но вдруг выяснилось, что всё подстроено и паж пришёл в бани отнюдь не по своей воле.
– Изменник, – прошипел султан. – Значит, ты обманывал своего повелителя, а когда визир обманывает своего повелителя, то уже не важно, в чём заключается обман. Измена султану – измена государству, и я поступлю с тобой соответственно. Стража!
В помещение тут же вбежала стража и схватила Ахмеда-пашу под руки.
– Повелитель, позволь хотя бы одеться, – пробормотал потрясённый визир.
– Пусть оденется, – усмехнулся султан, – а после этого приказываю посадить его в Семибашенный замок. В той тюрьме ему самое место. Изменник останется там, пока я не решу, что с ним делать дальше.
Произнеся приговор, Мехмед поднялся с кресла и быстрым шагом направился к выходу, а я поспешил следом, но в дверях решился оглянуться на Ахмеда-пашу и выразительно посмотреть на него.
В моём взгляде были извинения и сожаление. Мне не хотелось, чтобы поэт думал, будто я причастен к тому, что сейчас произошло, и потому я без слов просил прощения за то, что не смог помочь, и сожалел, что всё так закончилось.
* * *
Никто как будто не заметил исчезновения Ахмеда-паши. Когда я в тот же вечер, находясь в свите султана, гулял по дворцовому саду, то ни разу не услышал, чтобы кто-нибудь в саду удивился, что Ахмед-паша не сопровождает своего повелителя на прогулке. Очевидно, все уже всё знали. И такое же молчание сохранялось в последующие дни, на пирах и охотах. Поэт, чьё имя ещё недавно было у всех на устах, уже не упоминался.
Конечно, в коридорах и дальних углах дворцовых залов, которых не достигали взоры и слух Мехмеда, придворные шептались, но вокруг султана – никто. И, наверное, даже на очередном заседании дивана, которое проходило дважды в неделю, никто из визиров и других сановников, обязанных там присутствовать, нарочито не обращал внимания, что место Ахмеда-паши пустует.
Разве что Хасс Мурас-паша, возлюбленный султана, подобно визиру-поэту занимавший при дворе должность и обязанный присутствовать на заседаниях, мог смотреть на пустующее место с довольной улыбкой. Несмотря на то, что Ахмед-паша был давно не юн, юный фаворит Мехмеда считал этого человека соперником, а теперь соперника не стало.
"Как быстро все забыли его! Как быстро!" – думал я. Мне хотелось помочь Ахмеду-паше, замолвить за него слово перед султаном, просить о милости, но всё не удавалось придумать убедительную речь. Я представлял себе возможный разговор с Мехмедом, но эта беседа в моём воображении каждый раз заканчивалась одинаково – как только султан понимал, что я хочу просить за "изменника", то обрывал меня: "Не говори мне о нём. Не желаю слушать".
А между тем близился день моего отъезда. "Если не поговорю с Мехмедом сейчас, то в следующий раз смогу это сделать только через год, – думал я. – А кто знает, что будет через год?"
Мне стало бы спокойнее, если бы я знал, что за лучшего поэта Турции есть, кому вступиться, кроме меня. Именно поэтому я так старательно прислушивался к разговорам вокруг – надеялся услышать, что кто-нибудь произнесёт слова сочувствия опальному стихотворцу. Тогда я подошёл бы к этому человеку и сказал: "Мне тоже жаль его. Мне тоже". Однако никаких подобных разговоров вокруг не звучало.
Прошла почти неделя с тех пор, как Ахмед-паша оказался заключён в Семибашенный замок, и вдруг ночью, когда весь дворец уже готовился погрузиться в сон, в дверь гостевых покоев, которые я занимал во дворце, постучали.
Один из моих слуг пошёл узнать, в чём дело, но за дверями никого не оказалось, зато возле порога лежало письмо. Оно было большое, пухлое: много листов, свёрнутых в трубку, перевязанных шёлковым шнурком и запечатанных. На этой трубке от одного края до другого тянулась разборчивая турецкая надпись: "С дружеским приветом для Раду-бея", – и потому слуга отнёс письмо мне.
"Письма от друзей не приносят так, – подумал я. – Или приносят?" И в то же мгновение мне стало понятно, кто автор послания.
Я распечатал письмо очень бережно. Бережнее, чем обращался со стихами Ахмеда-паши, скопированными для меня его секретарём, потому что послание было куда ценнее: "Ахмед-паша вывел эти строки своей рукой".
Почти все листы были заняты стихами. Лишь на одном листе была проза. С него я и начал чтение:
"Мой друг Раду-бей,
позволь обратиться к тебе так. Обратиться с надеждой.
С недавних пор всякий, кого я назову своим другом, подвергается опасности, и если ты полагаешь, что опасность для тебя слишком велика, брось это письмо в огонь и пусть оно исчезнет так же бесследно, как я сам исчез из круга придворных. Мне уже нечего терять, а ты можешь потерять многое, если вызовешь на себя гнев нашего повелителя, и всё же я решился просить тебя об услуге".
Листки со стихами, которые я поначалу отложил в сторону, оказались одним большим произведением – поэмой, в которой Ахмед-паша, как всегда искусно сплетая слова, обращался к султану и просил о помиловании. Сочинитель надеялся, что я смогу устроить так, чтобы Мехмед прочёл это, однако даже сейчас Ахмед-паша оставался самим собой, то есть был очень строг к себе.
"Полагаюсь на твой вкус, мой друг. Если ты увидишь, что сочинение не удалось, то сожги его, потому что незачем мне позориться перед нашим повелителем неудачными стихами.
Если они не достаточно хороши, в своё оправдание могу сказать лишь то, что в крепости, где поэт ограничен даже в бумаге и чернилах, очень трудно сочинить что-то достойное".
Я не сразу заметил, что у меня дрожат руки. Меня назвали другом, мне доверяют, на меня полагаются – от этой мысли сердце полнилось восторгом, хоть я и повторял себе, что ещё совсем недавно Ахмед-паша вёл себя иначе. Вспомнились первые дни моего пребывания при дворе в этом году – дни, когда визир-поэт ещё не попал в опалу, и всё шло как обычно. В те дни Ахмед-паша, конечно, говорил со мной, но не больше, чем с другими приближёнными султана. И другом не называл. А теперь всё переменилось, потому что ему понадобился друг, который протянет руку помощи.
Я не мог радоваться, сознавая, что Ахмед-паша сейчас в большой беде, но в то же время был счастлив оттого, что всё так случилось, ведь начали сбываться давние мечты – стать хоть чуть-чуть ближе к этому замечательному человеку... поэту... Да что уж там! Я хотел стать хоть немного ближе к предмету своих тайных мечтаний – к тому, кого запрещал себе любить, потому что не надеялся на взаимность. И вот теперь чувство, старательно подавляемое, начало прорываться наружу, и я уже не мог ничего с этим поделать.
"Помоги", – просило письмо, и если раньше я раздумывал, возможно ли что-то сделать, то теперь говорил себе: "Я должен помочь. И не просто попытаться, а именно помочь. Совершить невозможное. А иначе во что же оценивается моя любовь, если позволяет мне оставить человека, которого люблю, в беде!"
Я ещё раз взял в руки листки с поэмой и внимательно перечитал начало:
О, доброта! Когда ты океан, то капля от него – великая, как море, милость.
Как туча оросит дождём поля, мне добрая рука дарует вскоре милость?
Преступником зовётся ль раб, когда сам шахиншах его прощает?
Кровь на моих руках. А позволенье смыть её, не быть в позоре – милость.
Задумав грех, надеешься на милость. Потому грешить не страшно.
А есть ли грех, свершив который, не получишь ты себе на горе милость?
Вода не топит, а питает те ростки, которые стремятся кверху.
Зачем же топят меня там, где есть великая, как море, милость?*
* Начало «Касыды (поэмы) о помиловании», действительно сочинённой Ахмедом-пашой
Метафора об океане и море наверное пришла на ум Ахмеду-паше потому, что Семибашенный замок стоял на берегу моря. Возможно, что поэт даже видел синие волны из окна своей темницы, а по ночам, когда всё в крепости смолкало, слышал шум прибоя и именно этот шум стал символом надежды на освобождение – дескать, напишу поэму, где в первой строке будут слова о море, и султан меня простит.
В своей поэме Ахмед-паша восхвалял милосердие султана, называя своего повелителя на персидский лад – "шахиншах", то есть шах над всеми шахами – а себя именовал ничтожным рабом.
Восхваление было не вполне искренним, поэтому поэт невольно сделался высокопарным. Лёгкость и простота, которыми отличались стихи Ахмеда-паши, куда-то исчезли, но зато получившиеся строки вполне отвечали вкусам Мехмеда. Султану всегда нравились сложные метафоры и вычурность.
Особенно должны были ему понравиться слова об окровавленных руках. Разумеется, Ахмед-паша никого не убивал, но, назвав себя виновным в кровопролитии, он тонко намекнул на причину султанской немилости. В стихах о любви часто встречалась метафора о том, что возлюбленный ранит поклонника своим жестоким поведением. Отказывая в любви или изменяя он проливает его кровь. Вот почему поэт, ранив сердце своего повелителя, вполне мог сказать "кровь на моих руках", а смыть её получилось бы только водой милосердия и прощения. Удачная метафора.
Мне хотелось немедленно отнести эту поэму Мехмеду. Если бы я сейчас направился в покои султана и сказал, что прошу уделить мне время, меня наверняка пустили бы. И всё же я не стал злоупотреблять остатками своего влияния, решил выждать.
На следующий день я как обычно в числе прочих придворных сопровождал султана во время прогулки по дворцовому саду. Мы шли по дорожкам среди розовых кустов, и вот мне удалось улучить минуту, когда Мехмед ни с кем не говорил, и подойти к нему:
– Повелитель, я принёс для тебя сокровище.
– Что за сокровище? – спросил он.
– Поэтическое и, что особенно важно, оно новое. Его никто ещё не читал кроме сочинителя, – на моём лице появилась таинственная улыбка. – Даже я не читал, чтобы ты, повелитель, мог стать первым читателем. Это нетронутая девственная красота поэтического слова.
– Но если ты не читал, то откуда знаешь, что сочинение достойно моего внимания? – удивился Мехмед.
– Я знаю, потому что сочинитель, который передал мне эти стихи, всегда пишет превосходно. Он не мог оплошать.
– Кто же он? – спросил султан.
– Я думаю, повелитель, ты угадаешь это с первых же строк, когда начнёшь чтение.
Поэтов при дворе хватало. Ахмед-паша был далеко не единственным, кто мог сочинить хорошие стихи, поэтому Мехмед не заподозрил подвоха и преисполнился любопытства:
– А где же сокровище?
– Здесь, повелитель, – я сунул руку за пазуху.
Мехмед сделал знак сопровождающим чуть отстать, а сам вошёл в ближайшую беседку и уселся на скамью:
– Давай сюда это сокровище, – сказал мне султан, но я, подавая ему листы, нарочито смутился:
– Повелитель, возможно, мне всё же следует назвать тебе имя сочинителя до того, как ты начнёшь читать.
– А что такое? – насторожился султан, но листки уже оказались у него в руках, и он, бросив на них взгляд, невольно прочитал первые строки. И понял, кто сочинитель, однако не бросил чтения сразу, потому что оно увлекало.
Мехмед прочитал весь первый лист и только после этого поднял на меня недовольный взгляд:
– Так вот, в чём дело! И как же эти стихи к тебе попали?
– Ахмед-паша прислал их мне с просьбой передать тебе, повелитель, – честно ответил я, прямо глядя в глаза султану.
– А почему ты ему помогаешь? – всё так же недовольно продолжал спрашивать Мехмед. – Тебе прекрасно известно, насколько я разгневан, но ты напоминаешь мне об этом человеке.
– Повелитель, – я всё так же прямо и смело смотрел на султана, – я вовсе не говорю, что ты должен перестать гневаться. Ты прав, а Ахмед-паша заслуживает наказания. Но зачем же тебе наказывать ещё и себя? Повелитель, ты видишь, что новые стихи, которые я принёс тебе, хороши. Но что если Ахмед-паша ничего больше не напишет? Сочинять стихи в Семибашенном замке весьма затруднительно.
Мехмед как будто начал понимать, куда я клоню, но он молчал, а мне следовало продолжать с той же убеждённостью в голосе:
– Повелитель, ты будешь лишён возможности наслаждаться новыми стихами лучшего поэта Турции. Зачем тебе самого себя обкрадывать? Соловья сажают в клетку, чтобы он пел, а не для того, чтобы он умер от тоски.
Султан хотел было возразить, но я сделал вид, что перебил его нечаянно:
– Повелитель, я не прошу, чтобы Ахмеда-пашу освободили. Но сделай условия его заключения более мягкими – достаточно мягкими для того, чтобы он продолжал сочинять стихи. Много ли нужно поэту! Уютная комната, в которой в жаркие месяцы не жарко, а в холодные месяцы не холодно. Вдоволь бумаги и чернил. Хорошее вино на столе. Сад за окном.
– Да, совсем не много, – вдруг улыбнулся султан, а затем опустил глаза к листам с поэмой и углубился в чтение.
* * *
Я едва мог скрыть свою радость, когда Мехмед, прочитав поэму, решил не просто улучшить условия содержания Ахмеда-паши. Султан решил освободить его, но сместить с поста визира и отправить в Бурсу. Там Ахмеду-паше предстояло занять весьма скромную должность с жалованием, составлявшим всего тридцать акче в день. Это означало, что доходы бывшего визира сократились примерно в сто раз, но денег на хорошее вино ему как-нибудь хватило бы.
Меж тем моё пребывание при дворе приближалось к концу. Слуги уже начали потихоньку упаковывать вещи для отъезда.
Меня не отпускала лёгкая грусть, потому что настала пора уезжать, но я не мог повидаться с Ахмедом-пашой, попрощаться. Мне следовало ехать в Румынию, ему – в Бурсу, и это означало, что если не произойдёт чуда, и Мехмед не решит вернуть опального поэта ко двору, мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Конечно, мне хотелось попрощаться основательно, но для Ахмеда-паши и для меня было бы лучше не видеться, чтобы султан не подумал, что я больше забочусь об интересах разжалованного визира, а не об интересах своего повелителя.
Вот почему я очень удивился, когда в воскресенье утром, шагая по шумной улице в направлении одного из немногих оставшихся в Истамбуле православных храмов, вдруг заметил знакомую фигуру.
"Нет, не может быть", – подумал я, увидев, как изящно сложённый человек с тёмной холёной бородой, только что стоявший в тени, у стены, направляется ко мне.
Да, ко мне приближался Ахмед-паша, но теперь не в пример прошлым временам он был одет весьма скромно, в простой зелёный кафтан без узора и невысокий белый тюрбан, а на холёных пальцах не осталось ни одного перстня.
Тем не менее, недавний визир выглядел очень счастливым, весело улыбался:
– Приветствую тебя, Раду-бей, – сказал он и, нарочито смутившись, добавил: – Мне сказали, что по утрам в седьмой день недели ты ходишь этой дорогой, чтобы посетить храм. Я не мог не воспользоваться таким обстоятельством, чтобы лично отблагодарить тебя за услугу.
Мне подумалось, что Ахмед-паша мог бы выразить благодарность письменно, и этого оказалось бы достаточно, но я и сам был рад его видеть, и на моём лице сама собой появилась ответная улыбка:
– Ахмед-паша, своим порывом ты можешь всё испортить. Если султан узнает о нашей встрече и истолкует как-нибудь превратно...
– Значит, ты не согласишься выпить со мной? – спросил бывший визир. – А я надеялся, что всё же согласишься, ведь другого случая не представится. Завтра я, повинуясь повелению, уезжаю из города и, возможно, уже никогда не вернусь.
Мне вдруг показалось, что внутри меня проснулся некий другой Раду, юный и неискушённый, и что в это самое мгновение он пляшет и скачет от восторга. "Ахмед-паша приглашает выпить! О, да! Да! Соглашайся! – кричал этот Раду. – Ведь это наверняка предлог для чего-то большего. Вы выпьете вместе, а затем... всякое может случиться".
Напрасно я успокаивал наивного юнца: "Вовсе не обязательно, что приглашение выпить имеет особый смысл. Вовсе не обязательно. Для Ахмеда-паши я – лишь друг, который помог ему в трудную минуту".
"Мехмед тоже называл Ахмеда-пашу другом, – не унимался восторженный Раду, – однако они проводили ночи на ложе. Прими приглашение! Прими! А если не примешь, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь".
"А если весть о встрече дойдёт до султана?" – раздумывал я.
"Ты упускаешь своё счастье!" – возражала юная часть моей души.
– Так что же? – спросил Ахмед-паша, пытаясь поймать мой взгляд, ведь я смотрел куда-то в сторону и смущённо улыбался.
Хотелось сказать "да", но я медлил, а мой собеседник, заглядывая мне в лицо, продолжал:
– Позволь угостить тебя очень хорошим вином. Хозяин таверны – мой давний знакомец, поэтому мы получим самое лучшее.
Мне вспомнилась таверна, куда я однажды ходил вместе с Мехмедом. Её, как утверждал султан, Ахмед-паша посещал неоднократно:
– Если это таверна, о которой я думаю, то не слишком ли дорого тебе обойдётся вино? – настороженно спросил я.
Ахмед-паша, наконец, поймав мой взгляд, добродушно рассмеялся:
– Таверна с персидскими мальчиками? Нет-нет, туда мы не пойдём. Это и впрямь было бы неразумно. И не только из-за цен, но и потому, что в этом случае о нашей с тобой встрече наверняка станет известно султану, а я предпочёл бы сохранить её в тайне. Ну же, мой друг! Не отказывайся.
Упоминание о тайне снова заставило меня смущённо улыбнуться. Казалось, это намёк на что-то. А ещё одним намёком была лукавая улыбка поэта, который, ухватив меня за рукав, потянул в переулок.
Я не мог противиться, а юный Раду, который вдруг проснулся во мне, как будто кричал: "Веди меня, поэт! Пойду за тобой, куда бы ты ни отправился!"
– Хорошо, – наконец произнёс я, уже успев сделать шаг. – Но куда мы идём?
– Это недалеко. Там мы сможем поговорить, и нам никто не помешает, – произнёс Ахмед-паша, и это опять показалось мне намёком.
* * *
Я ничего не мог с собой поделать. Мой жизненный опыт говорил мне, что не следует верить в чудесное неожиданное счастье, и что в таких случаях лучше проявлять осторожность, но эти слова не могли заставить меня успокоиться. Радость переполняла всё моё существо, голова кружилась, и я едва мог удержать на лице задумчивое выражение. Не хотелось ни о чём думать!
Ещё полчаса назад я шёл на воскресную обедню в греческий храм и настраивал себя на молитвенный лад, но вот на моём пути появился поэт-искуситель, и я поразительно легко отказался от намерения быть благочестивым. Спасение души меня уже не заботило, а заботило лишь удовольствие, которое я воображал, пока следовал за Ахмедом-пашой по узким многолюдным переулкам торговой части города.
Вот мы вошли в двери некоей дешёвой таверны. В большой комнате первого этажа сидело множество людей. Одни, занятые беседами, ели и пили. Другие посетители, рассевшись у стен или по углам, молча курили кальян, наполняя помещение сладковатым дымом.
В этом дыму Ахмед-паша умудрился отыскать хозяина таверны и, кратко переговорив с этим человеком, сказал мне:
– Пойдём наверх, а твои слуги пусть подождут здесь.
Мы поднялись по узкой деревянной лестнице, прошли коридор и очутились в небольшом помещении, смотревшем окнами на улицу. Оно странным образом напомнило мне комнату в лавке благовоний, где я раз в год встречался с секретарём Ахмеда-паши, чтобы покупать стихи, переписанные специально для меня. Обстановка оказалась такой же уютной, а шум города сюда почти не долетал.
Сквозь сетчатые ставни на окнах пробивалось яркое солнце, но оно не могло осветить все углы. Например, в тени оставалось возвышение, заваленное подушками. Оно могло служить как сиденьем, так и ложем, поэтому я решил сесть именно туда и с нарочитым вниманием уставился на замысловатый рисунок одного из ковров, которыми были увешаны стены.
Я не мог смотреть на своего спутника, потому что в моём взгляде слишком явно проявилось бы ожидание, а мне не хотелось выглядеть совсем уж податливым.
– Неплохое место, Ахмед-паша, – сказал я, всё же глянув вскользь на собеседника. – А как скоро нам принесут вино? Увы, мне нельзя отсутствовать во дворце слишком долго. Там думают, что я ушёл в храм, и знают, во сколько мне следует вернуться. Конечно, я могу и опоздать, но провести здесь с тобой целый день – увы, это невозможно.
– Понимаю, Раду-бей, – ответил Ахмед-паша, садясь рядом. – На счёт вина я уже распорядился, а пока позволь ещё раз выразить тебе признательность за то, что ты, рискуя своим положением, помог мне. Узнику, который вдруг потерял всех друзей, так тяжело! Но для меня большая радость сознавать, что твою дружбу я не потерял. А когда я оказался в Семибашенном замке, то сразу подумал: "Если кто и согласится помочь мне, то только Раду-бей".
– Но почему ты так думал? – спросил я, опасаясь, что мой голос сейчас дрогнет. – Почему именно я? В последнее время мы с тобой не слишком часто говорили, а виделись только в присутствии множества людей. Друзья ведут себя иначе...
– Да, случая поговорить не представилось, – согласился поэт и хитро улыбнулся. – Но в этом году ты тоже покупал у моего секретаря копии моих новых стихов? Ведь так? По одному золотому за каждый лист. Я подумал, что раз ты продолжаешь ценить мои стихи, то продолжаешь ценить и нашу дружбу.
Я на несколько мгновений потерял дар речи, мне стало стыдно и в то же время сделалось так легко от того, что всё открылось:








