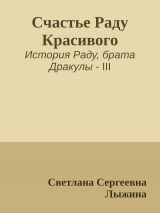
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Никополский бей, который с нетерпением ждал в Джурджу вестей о моём походе, действительно оказался очень разозлён, когда узнал, что поход закончился плохо, а из тринадцати тысяч воинов уцелело всего восемь. Он узнал об этом ещё до моего приезда, поэтому встретил меня весьма холодно, однако мешок с золотом вместе с моими глубочайшими извинениями быстро вернул ему доброе расположение духа.
– Хорошо, Раду-бей, – согласился турок, – пусть твои сыновья погостят у меня. Я позабочусь о них, как будто это мои собственные дети.
Мне хотелось верить, что я принял верное решение, и что в итоге всё будет хорошо, поэтому весьма обрадовался одному событию, которое могло стать предвестником удачи.
Двое моих молодых слуг-греков, которые сопровождали меня во время бегства из румынской столицы, а затем – в походе на столицу, внезапно нашлись в Джурджу, целыми и невредимыми, с конями и со всеми моими вещами. Когда молдавская конница разбила собранное мной турецко-румынское войско, эти двое, находясь на опушке леса, вовремя поняли, что надо спасаться. Они не знали, где меня искать, поэтому поехали в Джурджу, надеясь, что я рано или поздно объявлюсь там или появятся новости обо мне.
– Как же хорошо, что я вас нашёл! – вырвалось у меня при виде знакомых лиц. – Так надоело терять!
А эти двое слуг в свою очередь были рады, что нашёлся не только я, но и их старшие товарищи. Вся моя греческая челядь за много лет успела настолько сдружиться между собой, что вела себя как кровная родня. Я даже немного досадовал, что двое нашедшихся слуг мне лишь поклонились, а со своими товарищами обнимались, вместе смеялись от радости и чуть ли не плясали.
Наконец они заметили, что господин никуда не ушёл и продолжает смотреть на них, а я, чтобы не получилось неловкого молчания, произнёс:
– Надеюсь, вы также будете рады, узнав, что теперь все вместе должны сопровождать меня в Истамбул.
* * *
Я переправился через Дунай в первый день декабря. Будто знаменуя начало зимы, с неба сыпалась снежная крошка, но на земле этого снега почти не было заметно. Он терялся в жухлой траве, а вот на реке оседал на маленьких льдинках, плывших по течению, и Дунай, чья вода из-за ненастной погоды совсем потемнела, казался пёстрым.
В декабре нечего было и думать о том, чтобы лошади во время переправы плыли сами, но никополский бей дал мне кораблик, на котором обычно путешествовал по реке, и на нём мы смогли переправить всех лошадей и поклажу в два приёма. Услуги румынских рыбаков не потребовались.
Никогда прежде я не ездил в Истамбул в это время года, поэтому даже знакомая дорога казалась мне чужой, и не покидало чувство, что в самом Истамбуле мне не будут рады.
На постоялом дворе в Велико Тырново я остановился в тех же комнатах, что и всегда, но теперь не испытывал никакого удовольствия при мысли о том, что скоро приму горячую ванну и стану "наводить красоту".
Вместо этого были странные опасения: "Каждый год, когда ты возвращаешься в Турцию, твои слуги стараются сделать тебя похожим на прежнего, юного красавца Раду, и с каждым годом эта задача всё труднее. А получится ли у них хоть что-то в этот раз?"
Последний раз, когда я смотрел на своё отражение, мне совсем не понравилось то, что я увидел, поэтому теперь перед погружением в бадью я даже не стал заранее смотреться в зеркало, велев слугам:
– Сделайте всё, как обычно. Сбрейте мне усы и удалите все лишние волосы.
Один из молодых слуг напомнил:
– А седые волосы на голове?
Я досадливо скривился:
– Тоже. Надеюсь, после этого не облысею.
Показались такими смешными собственные недавние рассуждения о том, что ответить султану, если опять велит делить с ним ложе, "провести вместе ночь любви". Всего два с половиной месяца назад, в сентябре, думалось, что мне всё это настолько опротивело, что я, даже сознавая последствия, могу сказать: "Нет, повелитель". А теперь пришла другая мысль: "Не беспокойся, Раду. Мехмеду теперь даже в голову не придёт, что такого старика как ты можно использовать для утех".
В этот раз слуги как-то очень долго трудились надо мной, но, судя по всему, не зря. Кожа рук и ног, теперь лишённая волос, стала как будто мягче... А что же лицо? Я попросил зеркало, но увы – оттуда на меня смотрело хоть и безусое, но совсем не юное лицо. Тщательно выбритая, но лишённая юношеской свежести кожа щёк. Около углов рта горькая складка, а в глазах, окружённых лучами морщин, такой груз печали, которого у молодых людей не бывает.
Я попытался улыбнуться так, как собирался улыбаться султану при встрече, и полагал, что улыбка сделает меня моложе, но в Истамбуле Мехмед, взглянув на меня, воскликнул:
– Что случилось, Раду? Я не видел тебя год, но за это время ты постарел так, будто тебе уже сорок лет!
"Благодарю за заботу, – мысленно проворчал я. – Хорошо, что приём проходит в личных покоях султана, где никого нет, а не в тронном зале, где полно народу. Хорошо, что придворные не слышат этих рассуждений о том, как стар Раду Красивый. А то бы все смеялись".
Разумеется, вслух ворчать не следовало, а лишь вздохнуть:
– Ах, повелитель! Я столько пережил и на тебя возлагаю свои последние надежды. Я пришёл молить о помощи.
* * *
Казалось, султана так поразило моё постаревшее лицо, что он просто не мог перестать рассуждать о том, как быстротечно время.
Услышав о моей неудачной войне с молдаванами, Мехмед сказал, что подумает о том, как мне помочь, а пока я должен остаться у него в гостях как друг – например, сегодня разделить с ним позднюю трапезу:
– Я так долго не говорил с тобой. А твоё лицо напомнило мне, как быстро летят дни. Давай поймаем в силок хотя бы несколько часов, посадим их в клетку и не дадим улететь так просто.
И вот, в тот же вечер попивая подогретое вино, султан продолжал говорить о времени, допытываясь у меня:
– Признайся, Раду, ты часто задумывался о том, что время уходит?
– Чьё время, повелитель? – в свою очередь спросил я. – Твоё время утекает гораздо медленнее, чем моё. Сколько лет пройдёт прежде, чем кто-то назовёт тебя старым? А меня уже называют.
Мехмед отпил из своей чаши, а затем задумчиво посмотрел в неё, будто хотел поймать своё отражение:
– Хасс Мурат судил так же. Незадолго до того злосчастного похода спросил: "А через пять лет ты будешь меня любить?" Я ответил, что буду. Тогда Хасс Мурат спросил: "А через пятнадцать?" Я рассмеялся и сказал, что через пятнадцать лет стану стариком с седой бородой, и что ему будет всё равно, люблю ли я его, а Хасс Мурат ответил: "Нет, потому что через пятнадцать лет мы оба станем стариками". Я удивился, ведь он казался мне таким юным, а теперь понимаю. Через пятнадцать лет ему было бы столько же, сколько тебе сейчас. И он задумывался об этом...
Мне опять стало неприятно оттого, что мне вот так прямо говорят, что я – старик, а султан внимательно посмотрел на меня и вдруг с вызовом произнёс:
– Признайся, тебе ведь совсем не жаль его? Ты рад, что он умер?
Судя по всему, Мехмед начинал пьянеть, раз задирается, но за много лет мне удалось достаточно хорошо изучить его характер, чтобы понимать: моё нарочитое спокойствие лишь распалило бы его гнев. Поэтому следовало показать, что меня задели такие вопросы, и я позволил своему голосу дрогнуть:
– Хасс Мурат ничего дурного мне не сделал, хоть и не оказал ни одной услуги, за которую я мог бы быть благодарным. Он был юн, когда моя юность уже закончилась. Мы были как молодая и старая луна. Когда молодая луна всходит на небо, старой уже давно нет. Разве эти две луны ненавидят друг друга? Только вот беда, повелитель: на твой небосклон никто не всходит дважды. Если уж одна луна скрылась с глаз, то в следующий раз будет другая. Чему мне радоваться, если мне никогда не взойти на твой небосклон во второй раз? Я могу лишь спросить тебя: кто будет следующим?
Последний вопрос я задал с нарочитой горечью, а Мехмеду именно это и было нужно. Он улыбнулся и, подавшись вперёд, примирительно похлопал меня по плечу:
– Ай, мой друг, не обижайся, – но я сделал вид, что не могу успокоиться:
– И почему бы мне не пожалеть несчастного? Он пробыл на небосклоне гораздо меньше времени, чем я. Всего несколько лет. Я удачливее его, а удачливый охотно жалеет тех, кому повезло меньше.
Это я тоже произнёс с горечью, поэтому Мехмед ещё шире улыбнулся. Он будто пиявка, которая высасывает дурную кровь, напитался моими горестными мыслями, и стал доволен, благодушен:
– Прости, что заподозрил тебя в дурном. Причина не в тебе. Ты же знаешь, как я ценил Хасс Мурата. Как красив он был! И умён не по годам! Я бы завоевал город Константиноса за один день, если бы кто-нибудь предсказал мне, что этот красавец станет моей наградой за завоевание. Он был сокровищем. И вот его нет. Я печалюсь и чувствую, что одинок в своей печали. Кто меня утешит?
"Судя по всему, не тот, кто сейчас пьёт с тобой", – подумал я, а вслух проворчал:
– Как султан может быть одинок?
– Может, может, – покачал головой Мехмед. – Моё время тоже уходит. С годами находить возлюбленных, которые были бы искренни со мной, всё труднее. Вот, к примеру, Жиго.
– Жиго?
– Тот, с кем я часто играл в нарды на пирах. Ты видел его.
Султан имел в виду юного боснийского принца, которого звали Жигмонд. Тот, кого я и сам прочил в возлюбленные султана, когда узнал, что Хасс Мурат умер.
– Он разочаровал меня, – меж тем продолжал Мехмед. – Он оказался из тех, кто никогда не признается в своей двойственности даже самому себе. Он так любил шутить о том, что я мог бы с ним сделать. Когда проигрывал в нарды, говорил "ты взял надо мной верх", "ты мне задницу надрал". И ему было неприятно, когда я восхищённо смотрел на чью-то красоту. Я видел этот его взгляд, полный ревности.
Моя голова начала кружиться от выпитого вина, поэтому следовало отставить чашу, чтобы не потерять нить рассказа.
– Когда был жив Хасс Мурат, я думал, что Жиго просто боится его, потому что не искусен в интригах, – меж тем говорил султан. – Жиго всегда был прост и прям, как воин, а не лукав, как придворный. Я думал: "Ладно, посмотрим, что из этого выйдет". Но даже тогда, когда сама судьба устранила соперника и к моему сердцу открылась прямая дорога, Жиго не предпринял ничего, чтобы прийти к цели и стать хозяином моего сердца.
– И это говорит тот, кого прозвали Завоеватель? – удивлённо спросил я. – Почему же Завоеватель сам не дошёл до цели, а лишь ждал, как ждёт осаждённая крепость?
Мне стало очевидно, что выпито слишком много. Моя речь стала уж слишком смелой и развязной, но Мехмед, выпивший столько же, этого не заметил, да и его речь стала подобна моей.
– Ошибаешься, – сказал он. – До цели я дошёл, потому что однажды Жиго прямо в моём присутствии напился на пиру до беспамятства. И мне подумалось, что он сделал так нарочно, чтобы победить свою стыдливость. Поэтому я велел отнести его в свои покои. Он оставался почти в таком же беспамятстве, когда я делал с ним всё то, о чём давно помышлял. Но утром этот юноша так на меня посмотрел, как будто я разбойник и как будто я украл то, что мне не собирались отдавать. А зачем же тогда было напиваться? Ведь Жиго знал обо мне всё с самого начала. Зачем же тогда было шутить так смело? И зачем так ревниво смотреть? Он разочаровал меня, ведь я привык, что мою любовь ценят...
"Ты привык, что тебя обманывают более искусно, – мысленно возразил я. – А ещё ты привык думать, что султана все должны желать, поэтому не веришь, что юноша, имеющий особые склонности, тебя не желает".
Теперь стало ясно, что боснийский принц шутил не просто так, но этими шутками он стремился скорее подбодрить себя, а не раззадорить Мехмеда. Юноша с самого начала понимал, что соитие с султаном неизбежно, но вместо того, чтобы оттягивать, решил приблизить неприятную минуту и рассуждал о ней так, как будто всё уже случилось. Что касается вина, то оно и впрямь помогало победить стыдливость... или отвращение. А что до ревнивых взглядов, то здесь Мехмед выдавал желаемое за действительное. Я ещё в прошлом году, во время пиров сидя недалеко от султана, видел эти взгляды. А теперь подумал, что их можно было истолковать скорее как недовольные: "Кто там ещё преграждает мне дорогу, когда я почти переборол себя?"
Лишь в одном Мехмед был прав: боснийский принц оказался слишком прям и прост. У него не получилось притвориться счастливым, поэтому он не смог получить за свою покорность высокую плату.
Ах, как хотелось мне рассказать Мехмеду о своих догадках! Но вместо этого я лишь изобразил удивление:
– Что же это за глупец? Неужели он не понимал, что имеет возможность возвыситься. Ты мог бы сделать его придворным высокого ранга или дать в управление Боснию, как дал мне мою страну.
Султан вместо ответа молча протянул мне чашу, в которую следовало налить ещё вина, а я задумался над тем, что чайнички для вина придуманы очень удачно. Даже, когда руки не очень хорошо слушаются, из чайничка ничего не прольёшь. Жаль, что их использовали только для подогретого напитка – в них он медленнее остывал, – а для обычного вина всё же использовались кувшины.
Я напился и не заметил этого, а теперь стремился притвориться хоть немного трезвым. Интересно, если бы Мехмед повелел мне выйти, смогли бы мои ноги это исполнить? Возможно, они подогнулись бы, как только их обладатель попытался бы встать с возвышения, заваленного подушками, и пришлось бы звать слуг.
– Я ещё несколько раз давал ему повеление прийти ко мне, – наконец произнёс Мехмед, – и он покорялся, но с каждым разом разочаровывал меня всё сильнее. Ему же нравилось! Я знаю! Но он вёл себя так, будто делает мне одолжение, поэтому теперь я не хочу приглашать этого неблагодарного. Моё желание угасло, осталась одна досада.
– Это печально, повелитель, – сказал я, а Мехмед продолжал:
– Кто излечит меня от этого? Кто заставит вспомнить о радостях любви?
Султан смотрел на меня и в то же время сквозь меня. То есть я для него не был тем, кто может помочь ему "вспомнить". "Так и есть, Раду, – подумалось мне. – Мехмед даже мысли не допускает, что такой старик как ты может быть не только собеседником".
Ощущение, когда тебя не замечают, было не из приятных, поэтому я нарочно обратил на себя внимание вопросом:
– А как же пажи?
– Покорны, – усмехнулся Мехмед, а затем задумчиво положил голову на руку. – Такого как Хасс Мурат больше не будет. Он был так красив, а манеры его были так изящны!
"А ведь Хасс Мурат и впрямь начинал как простой паж", – подумалось мне, после чего пришло воспоминание о другом паже, тоже красивом, с изящными манерами, которого любил Ахмед-паша.
Спрашивать о нём не следовало, ведь воспоминание могло оказаться неприятным для султана, но я не смог удержаться:
– Кстати, а чем закончилась та история с сокольничим, из-за которого так обезумел Ахмед-паша? Неужели сокольничий сейчас в Бурсе?
Мехмед засмеялся, показывая, что воспоминание ему приятно:
– Нет, он здесь, при моём дворе. С чего бы ему быть в Бурсе? Как может юноша, не имеющий склонностей, оказаться благосклонным! Но хорошо, что ты вспомнил. Я расскажу тебе, и ты тоже увидишь, насколько прав я был. Так вот Ахмед-паша, когда узнал, что этот красавец станет сопровождать его в дороге, совсем обезумел. В пути с утра до вечера громко читал ему свои стихи о любви, прямо к нему обращаясь. Все смеялись, а красавец уже порывался развернуть коня и мчаться прочь, лишь бы ничего не слышать, но не мог нарушить моё повеление.
Я с грустью сознавал, что это очень похоже на правду. Именно так и должен был вести себя юноша, не имеющий склонностей, но ставший предметом упорных ухаживаний.
– Однажды на привале, – продолжал Мехмед, – он подошёл к Ахмеду-паше и сказал, чтобы тот перестал читать стихи. Ахмед-паша ответил, что бесполезно приказывать безумцу "перестань". Тогда юноша ударил его кулаком в лицо, и Ахмед-паша упал, но тут же сказал, что удар от возлюбленного – награда, которую хочется получать ещё и ещё. В итоге наш красавец накинулся на Ахмеда-пашу и чуть не задушил. Еле удалось оттащить. И плевался, и кричал: "Я убью тебя! Убью! Ты позор рода человеческого!"
– А что Ахмед-паша? – спросил я.
– Он притих, – Мехмед совсем развеселился. – Оставшийся путь до Бурсы проехал молча. А я, конечно, исполнил обещание и наградил своего пажа, когда тот вернулся в Истамбул. Я дал ему новую, более высокую, должность. И велел, чтобы тот женился поскорее. У него наверняка будут очень красивые дети.
При упоминании о детях я вздрогнул. Ведь ясно было, почему Мехмеду хотелось, чтобы дети пажа оказались красивы. Султан думал, что когда-нибудь, возможно, получит от них то, что не получил от их отца.
Помнится, Мехмед в своё время озаботился и моей женитьбой. Сам нашёл мне невесту, которая приехала ко мне из далёкой Албании. Почему ему было не всё равно, холост или женат новый румынский правитель? Получалось, что затевалось это затем же – из-за детей. В расчёте на то, что мои дети окажутся красивы.
Я так переменился в лице, что это заметил даже пьяный Мехмед:
– Что с тобой, Раду?
Пришлось соврать:
– Кажется, я выпил слишком много, повелитель. Мне нехорошо.
– Тогда выйдем на балкон. Это освежит твою голову, – предложил Мехмед и, сделав попытку встать, громко захохотал: – Нет, не выйдем. Я и шага сделать не смогу. Лучше позову слуг, чтобы они растворили здесь окна. Если мы не можем выйти туда, где царит ночная свежесть, пусть эта свежесть придёт к нам!
* * *
Декабрьские дни коротки, но в Истамбуле они тянулись невыразимо медленно. Это была первая за долгое время поездка, когда мне не хотелось окунаться в турецкую придворную жизнь. Хотелось скорейшего возвращения в Румынию!
Раньше, когда я привозил дань и оставался погостить во дворце, то грустил, что не могу остаться чуть подольше, а теперь мне не сиделось на месте. Если не требовалось присутствовать на пиру, охоте или прогулке султана, я уходил, почти убегал в город, говоря слугам: "Если спросят, скажете, что ваш господин ушёл в храм".
На самом же деле я шёл на берег бухты Золотой Рог и смотрел на противоположную сторону – туда, где над синими волнами бухты возвышались ряды домиков из белого камня, крытые черепицей. Это была Галата, христианский квартал – единственный кусочек христианского мира в этом городе, с каждым годом всё более похожем на мусульманские города.
В декабре, даже в ясную погоду тот берег был окутан голубоватой дымкой, а если туман становился гуще, Галата и вовсе казалась прекрасной иллюзией. Но особенно прекрасной она делалась на закате, когда небо розовело, а солнце освещало золотыми лучами лишь верхние части зданий, оставляя почти весь берег в тени. Россыпь золотых монет, сверкавших сквозь туман – вот, как это выглядело, и пусть я никогда особенно не любил золото, но зрелище казалось волшебным. "Это призрак прежней Византии, богатой и могущественной, которой уже давно нет, – думалось мне. – Её место заняла другая держава, от которой я теперь всецело завишу".
Следовало дождаться, пока султан примет решение, а тот не торопился, и это означало, что мне вряд ли удастся вернуться домой к Рождеству.
Даже не верилось, что Рождество наступит уже скоро, ведь в Истамбуле хоть и стало холодно, но не было снега, а трава и большинство деревьев оставались зелёными. "Румынию уже давно всю завалило, а здесь ни снежинки", – думал я и представлял, как мои сыновья, стоя на крепостной стене Джурджу, смотрят на падающий снег, на Дунай, по которому плывут уже довольно большие льдины, а затем оба бросают взгляд на турецкую сторону реки.
Получалось, что и моим сыновьям придётся встречать это Рождество в турецкой крепости, а не дома, но даже если бы они встретили его в Букурешть, всё равно было бы не так, как прежде. Ведь Марица и Рица, судя по всему, находились в Сучаве.
"Марицы не будет, – думал я, – и она не всполошит весь дворец, готовясь к празднику. И в канун Рождества дети не пойдут по боярским домам колядовать, ведь Рицы не будет, а без неё Мирча и Влад вряд ли захотят. Разве что мои воспитанники, с которыми они в прежние годы всегда ходили, уговорят их".
Вспоминая своих воспитанников и воспитанниц, я впервые подумал, что, может, зря заботился о них сам. Ведь после того, как Штефан ворвался в Букурешть, не известно, что с ними стало. А вдруг с кем-нибудь из них случилось непоправимое?
Одиннадцать лет назад, когда всё только начиналось, у меня была уверенность, что во дворце детям будет лучше, чем при монастырях. Но то моё решение могло оказаться опрометчивым, как и многие решения, принимаемые мной. "Надо было сразу распределить их по монастырям, – размышлял я. – Мальчиков – в ближайший мужской монастырь, а девочек – в женскую обитель. Там им всем жилось бы спокойнее и безопаснее, хотя, возможно, скучнее и труднее".
При мысли о монастырях вспомнился Милко. Я ведь до сих пор не знал, что с ним. А могло случиться всякое. К примеру, Басараб, теперь хозяйничавший в моём дворце, мог услышать от кого-нибудь, что Милко исполнял при мне обязанности личного секретаря и, значит, был посвящён в некие тайны, которые есть у всякого государя. Что если бы Басараб захотел узнать их? К примеру, стал бы спрашивать, не припрятано ли у меня где-нибудь золото на чёрный день, а ведь Милко этого не знал. Он хранил совсем другую тайну. Что если бы его запытали до смерти, ожидая от него признаний, которые он не мог сделать?
"Зачем я забрал его из монастыря? – думалось мне. – Лучше бы оставил там, не принимал на службу в канцелярию и не брал на себя ответственность за его судьбу. А теперь, если с ним что-нибудь плохое случится, как я буду жить, зная, что виноват?"
Эти мысли очень тяготили меня, поэтому, присутствуя на султанских пирах, я по большей части молчал. Хотелось, чтобы за всё время пира Мехмед, беседуя с кем-то из ближнего круга, ни разу не обратился ко мне и не спросил:
– А что ты думаешь, мой друг Раду?
Не хотелось вести праздные разговоры, а хотелось поскорее получить от султана войско, пусть небольшое, и вернуться в Румынию. Но торопить султана с решением я не осмеливался.
Наконец, через неделю на одном из пиров он сам заметил, что "друг" почти всегда избегает веселья, и спросил, в чём причина.
– Ты её знаешь, повелитель, – ответил я. – Слишком много нерешённых дел осталось за Дунаем. Мои жена и дочь в плену. Мой трон занят другим человеком...
– А где же твои сыновья? – вдруг перебил Мехмед. – Они тоже в плену?
– К счастью, нет, повелитель, – ответил я, но тут же понял, что ни в коем случае не должен признаваться, где оставил их: "Если Мехмед узнает, что они на попечении никополского бея, то велит привезти их в Истамбул. Обязательно".
– Так где же они? – повторно прозвучал опасный вопрос.
Я должен был соврать. Иного выхода не оставалось, но мой обман мог очень легко раскрыться, ведь никополский бей являлся одним из подчинённых султана, поэтому риск казался очень большим.
Пожалуй, лучше всего было сказать правду, но так, чтобы меня поняли превратно:
– Они в надёжном месте за Дунаем, повелитель. Но я боюсь, как бы мои враги не добрались туда, пока я нахожусь здесь.
Разумеется, Мехмед подумал, что Мирча и Влад остались в одной из румынских приграничных крепостей или в монастыре, а новый румынский правитель может обнаружить их. Султан не понял, что надёжное место за Дунаем это турецкая крепость Джурджу, находящаяся не на турецком, а на румынском берегу реки, а враги – все, кто захочет отобрать у меня сыновей. Все! И даже сам Мехмед.
Конечно, султану такое в голову не пришло, поэтому он сказал:
– Самое надёжное место – Истамбул, поэтому в следующий раз вези их сюда, если хочешь защитить.
Он подумал, что моих сыновей надо защитить от молдавского ставленника – Басараба! Ничем другим нельзя было объяснить того факта, что почти сразу моё дело сдвинулось, и было принято решение, хоть и не очень меня устроившее. Мехмед велел мне возвращаться в Румынию, а вместе со мной отправился один из его чиновников, имеющий на руках приказ к никополскому бею. Именем султана бею повелели снова дать мне людей, но уже бесплатно, а султанский чиновник намеревался проследить за исполнением высочайшей воли.
Сказать, что бей был недоволен – ничего не сказать, но повеление он выполнил, дав мне семнадцать тысяч воинов, а Стойка, широко разнеся весть о моём возвращении, сумел собрать ещё двенадцать тысяч ополченцев.
С этими войсками мы двинулись к Букурешть, откуда Штефан уже давно ушёл. Остался только молдавский ставленник Басараб, против которого все готовы были взбунтоваться в любую минуту, поэтому тот поспешил сбежать.
Басараб бежал так поспешно, что не смог даже забрать деньги из казны и свои вещи. Он бежал, в чём был, сопровождаемый лишь несколькими слугами.
– Если б он попытался хоть что-нибудь ценное с собой прихватить, то его бы задержали и ещё неизвестно, что бы с ним сделали, – позднее объяснял мне Стойка. – Могли бы в клочки разорвать, ведь ненависть к молдаванам среди твоих людей велика. Ой, велика! И к молдавскому ставленнику – тоже. Его, может, всё равно бы задержали, но решили пожалеть. Ведь Рождество через два дня. Нехорошо перед таким праздником кровь проливать. Вот и отпустили с миром.
– Правильно, – кивнул я и даже обрадовался, что этот человек не попал в мои руки, потому что все посоветовали бы мне его казнить, и пришлось бы последовать совету.
* * *
Когда я, облачённый в турецкий доспех, во главе ополчения подтупил к Букурешть, мои бояре вышли меня встречать, а за ними шла толпа народа, приветствовавшая меня радостными криками. Митрополит тоже шёл с ними, а когда мы оказались лицом к лицу перед восточными воротами, которые не так давно таранил Штефан, митрополит торжественно возгласил, что Бог милостив, раз законный государь вернулся.
Следуя обычаю, я спешился и приложился к руке церковного иерарха, а тот сказал, что просит меня не гневаться на моих бояр, которые вынужденно присягнули молдавскому ставленнику, и что грех клятвопреступления с них уже снят. Митрополит также сообщил мне, что моя жена и дочь, к великому прискорбию, находятся теперь в Сучаве, и никак нельзя было этому помешать: митрополит увещевал Штефана как мог, чтобы тот "не поступал подобно нехристю", а отпустил пленниц, но ничего не вышло. Иерарх намекнул, что мог бы заплатить за них выкуп, но молдавский правитель отказался.
При этих словах боярин Нягу, который в прошлом напоминал мне великого визира Махмуда-пашу, кашлянул и поклонился в пояс:
– Государь, на нас вина, что не удержали город. Поэтому говорю за себя и за весь совет: если понадобятся деньги, чтобы выкупить государыню и твою дочь, мы тебе поможем собрать, сколько бы Штефан ни запросил. Искупим свою вину. Не изволь гневаться.
По очереди приложившись к моей руке, бояре почти хором спросили:
– Государь, ты же не думаешь, что мы всерьёз служили выскочке и проходимцу Басарабу? Не думаешь?
Я ответил, что не сомневаюсь в их верности и в случае нужды приму помощь, поэтому всех приглашаю во дворец, когда придёт время пировать на Рождество, дабы мы стали едины в этот светлый праздник.
Увы, своих жён боярам пришлось бы оставить дома, ведь я не мог нарушить обычай и посадить всех за один стол. Женщинам полагалось пировать отдельно, на женской половине дворца, но Марица оказалась в Сучаве, и некому было бы возглавить женское пиршество.
Услышав об этом, бояре ещё раз заверили, что помогут мне вернуть жену и дочь, а затем проводили во дворец, ещё хранивший следы вторжения, которое случилось месяц назад.
Мои воспитанники и воспитанницы встретили меня перед крыльцом, и я с огромной радостью увидел, что они почти все здесь. Только Миху и Виорика куда-то делись, и я сразу спросил о них.
– Миху и Виорика сейчас с твоей дочерью, господин, – ответила самая старшая из моих воспитанниц, Зое, которая уже почти не могла кланяться, потому что ей сильно мешал живот. – Виорика твоей дочери прислуживает, как и раньше служила, а Миху тоже при ней. Охраняет.
– Охраняет? В плену? – не понял я. – Как это?
– Миху твою дочь молдаванам в обиду не дал, – пояснила Зое. – Он и дальше будет её защищать, если что, хотя самого его поранили сильно.
– Как же так случилось? – продолжал спрашивать я.
– Твоя дочь, когда узнала, что молдаване уже во дворец ворвались, решила все свои украшения на себя надеть. Сказала, так сохраннее будут, потому что молдавские разбойники шкатулку украсть могут, а с государевой дочери ничего сорвать не посмеют, ведь государеву дочь трогать нельзя.
– Выходит, кто-то всё же посмел? – нахмурился я.
– Нет, господин, по-другому было, – возразила Зое. – Молдавские разбойники, когда в комнаты ворвались и увидели, сколько на маленькую госпожу всего надето, аж зубами заскрежетали от досады. Но один подошёл и говорит: "Снимай". Госпожа отвечает: "Нет". Тот говорит: "Снимай, а то я сам". Она говорит: "Не посмеешь". Тот к ней руку тянет, а она стоит, как ни в чём не бывало, в глаза ему смотрит и снова говорит: "Не посмеешь". Он бы и не посмел. Силу слова нашей маленькой госпожи мы все знаем, но вот Миху, который рядом стоял, не утерпел. Схватился за меч, крикнул: "Куда руки тянешь, собака!?" Молдаванин тоже за меч схватился, стали они драться, а тут и другие молдаване схватились за мечи. Я уже уследить не могла, кто кого бьёт, как вдруг слышу, что маленькая госпожа кричит: "Стойте!" Миху от этих разбойников уже две раны получил: на руке и на боку. Оно и понятно. Их много было, а он один. Да и лет ему всего шестнадцать, а маленькая госпожа как увидела, что дела плохи, кинулась между ним и этими. "Стойте!" – кричит, и они послушали. А тут сам Штефан, их государь, в комнату вошёл. Как узнал, что маленькую госпожу хотели обидеть, гневался сильно, а затем сказал, что твою супругу и дочь забирает под своё покровительство. Но обе госпожи стали просить, чтобы Миху тоже с ними был. Они боялись, что если Миху один останется, Штефановы люди, которым украшений так и не досталось, решат с ним за это счёты свести. Штефан согласился.
"Да, – подумал я не без гордости за своего воспитанника, – для Миху в дворцовой страже самое место", – а затем вспомнил, что в дворцовой страже служил также муж Зое.








