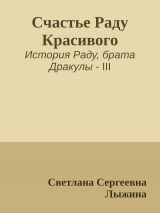
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Штефан тоже встал, чтобы уйти из-под моего испытующего взгляда:
– Не горячись. Выбор у тебя не велик. Дочь твою я тебе не отдам, а забрать её тебе силы не хватит. Поэтому предлагаю договориться по-хорошему. Опять же не забывай: жену твою верну без выкупа. А если захочешь с дочерью видеться, то приезжай, препятствовать не стану. Лишь одно условие: скажи дочери, чтоб меня слушалась. А то она у тебя такая, что не подступись.
Молдавский князь опять мечтательно улыбнулся, пока я, стоя по другую сторону стола, потрясённо смотрел на него.
– Никогда не встречал ей подобных, – продолжал улыбаться Штефан. – Ведь от одного моего слова зависит её судьба, а твоя дочь смотрит и говорит так, будто всё наоборот, и это от её слова моя судьба зависит. А может, так оно и есть? Потому она и дерзит мне, не боясь, что я разгневаюсь.
Мне хотелось сказать: "Опомнись! Что ещё за судьба!? Моей дочери одиннадцать лет! Она – дитя! А ты о ней как думаешь?" Но все эти слова застревали у меня в горле, потому что было слишком очевидно, что Штефан меня не услышит – он одержим.
Когда-то давно я уже встречал подобную одержимость у другого человека. Этот человек видел лишь то, что хотел видеть, и для меня всё закончилось очень плохо. Того человека звали Мехмед. Он не хотел замечать, что понравившийся ему светловолосый мальчик не намерен становиться мальчиком для утех. Я пытался сопротивляться всеми силами, ударил Мехмеда кинжалом в ногу, но Мехмед решил, что удар – что-то вроде кокетства. Только безумец мог подумать так, но султан в то время и вправду вёл себя как безумный, как одержимый.
– Не так давно решил ей серьги подарить, – меж тем сказал Штефан не то мне, не то самому себе. – Думал, не возьмёт. Взяла. А затем пошла к своей шкатулке, крышку открыла, положила их туда, закрыла и смотрит на меня выжидающе, будто ещё чего получить надеется. Спрашиваю: "Что ж не примеришь?" А она отвечает: "Это не для ношения. На выкуп собираю себе и матушке". Дерзость. А я не разгневался. Рассмеялся. Решаю теперь, чего бы ей ещё подарить.
Кто-то будто шепнул: "Вот и Мехмед когда-то заваливал тебя подарками, надеясь купить любовь", – а Штефан наконец очнулся от своих грёз и вспомнил обо мне:
– Так что же? Заключим союз? Подумай.
– Нет! – крикнул я ему в лицо и вышел из шатра, не оглядываясь, а на следующий день войско Штефана снялось с места и ушло в Молдавию.
* * *
Рица, доченька моя, плоть от плоти моей, кровь от крови, как же я мог так ошибиться? Почему не уберёг тебя? Я всё боялся, что мою несчастную судьбу унаследуют сыновья, и не думал, что её можешь унаследовать ты. Но это случилось. Ты подобно своему отцу проживёшь много лет в плену. Ты подобно своему отцу вынуждена будешь подарить свои лучшие годы человеку, который тебе противен.
Нет, я не могу оставить всё так, смириться. Нужно спасти тебя, даже если ради этого придётся обратить всю Молдавию в пепел! Но это только слова. Как же помочь тебе?
Мне почему-то подумалось, что через несколько лет, когда Рица войдёт в возраст, вокруг неё в Сучаве соберётся толпа старух, которые при всяком случае будут повторять: "Ничего, потерпи, девочка. Привыкнешь, полюбишь", – а Рица станет смотреть на них как на безумных и хмурить брови: "Что вы такое говорите? Да как мне полюбить того, кто насильно меня при себе держит? А ещё он жесток и груб. Как мне такого полюбить?"
Мне представилась и жена, которая смотрит на это. А затем Марица повернулась ко мне и сказала: "Не для того мы нашу доченьку растили, чтобы она жила во грехе со старым хромым кобелём. Но пока я с ней, этому не бывать".
Как видно, потому Штефан и хотел вернуть мне жену, даже не требуя выкупа. Вовсе не от щедрости он такое предлагал, а чтобы иметь благовидный предлог разлучить Рицу с матерью. Останься Рица в Сучаве одна, стала бы более покорна, её проще оказалось бы сломить. Да и союз этот нужен был Штефану не столько ради союза, сколько ради того, чтобы я сам, сам сказал дочери "будь покорна".
"Нет, – обещал я себе, – никогда ей этого не скажу и, возможно, поэтому её судьба сложится иначе. Ведь неизвестно, как сложилась бы моя судьба, если бы мой отец, много лет назад оставив туркам в залог меня и моего брата Влада, не велел быть покорными". Слова о покорности содержались в письмах, которые отец отправлял нам. Поначалу Влад читал эти послания мне вслух, но затем получил свободу и уехал, а письма остались мне. Я перечитывал их иногда, и если б хоть в одном говорилось что-то вроде "не перенимайте греховных обычаев турецких", я бы вспомнил об этом, впервые оставшись наедине с Мехмедом. Обязательно бы вспомнил.
Увы, теперь я оказался в таком положении, что не мог отправить дочери даже письмо. И жене не мог передать весть. И выкуп за них заплатить не мог, потому что Штефан не принял бы денег, сколько ему ни предложи.
Мне оставалось только одно – уговорить Мехмеда начать войну с молдаванами, отправить в их земли большое войско, а когда придёт время заключать мир, непременным условием должно было бы стать возвращение Марицы и Рицы домой.
Но как я мог уговорить его? Что обещать? Даже глупец понял бы, что ничего султану от меня не нужно. Только мои сыновья ему нужны. Он сказал бы, что большая война с молдаванами – очень серьёзная услуга, и что такую оказывают только верноподданному, поэтому нужны доказательства моей верности. Мехмед потребовал бы, чтобы я привёз своих сыновей к турецкому двору, как мой отец когда-то привёз меня и моего брата... Но я не собирался торговать детьми. Освободить жену и дочь, но потерять сыновей? Что толку в таком обмене!
К счастью, у меня было время подумать, как уговорить султана, но при этом не потерять никого. До сентября, когда мне снова следовало ехать в Турцию, чтобы отвезти дань, оставалось почти полгода. За это время следовало составить план. "Даже если придётся обмануть Мехмеда, обещать ему всё, что он хочет, это ничего, – думал я. – Ведь обещание можно нарушить. Конечно, если обман раскроется, мне придётся бежать в Трансильванию и потерять трон, но главное, чтобы ничего не раскрылось до того, я все мои родные окажутся со мной. Дальше не страшно. И даже если денег на жизнь в изгнании у меня не будет, ничего. Выгребу из казны. Ведь не так давно я положил туда много своих сбережений. А понадобится – возьму назад. И не будет мне стыдно кого-то оставить без жалования. Лишь бы все мои родные были со мной и жили в достатке".
* * *
Одна любовь другую не заменит. Особенно если они имеют разную природу. Нет смысла пытаться даже на время забыть одну любовь в объятиях другой, но я пытался и, конечно, потерпел неудачу. Мне ни на мгновение не удавалось представить, что рядом со мной не Милко, а Марица, ведь на ложе они вели себя так по-разному! И причина заключалась не в разнице пола. В них отличалось всё. Даже прикосновения.
Марица никогда не боялась вложить в прикосновение всю страсть, даже если это могло бы причинить боль, а Милко прикасался так осторожно, что я почти не ощущал этого.
Временами мне казалось, что юноша боится не того, что может неосторожным движением сделать больно, а того, что сам обожжётся. Но ведь ни одно тело не бывает настолько горячим, что к нему нельзя прижать ладонь. И всё же Милко избегал этого, будто мой бок или плечо подобны бронзовой чернильнице, забытой на подоконнике под летним солнцем. Вспомнишь, захочешь взять, а к ней не притронуться – горяча.
Бывало, я сам, поймав его руку, прижимал её плотнее к щеке, но юноша всё норовил высвободиться. А если я обнимал его так крепко, как только хватало сил, он не отвечал мне таким же объятием и будто ждал, когда ослабнет моё.
Временами мне хотелось сказать возлюбленному: "Если ты не можешь заменить мне Марицу, то не должен радоваться, что её нет, потому что ты в одиночку меня счастливым не сделаешь".
А ведь Милко и вправду радовался. Он никогда этого не говорил, но я видел выражение его лица, не умеющего притворяться. Тот мысленно радовался, что теперь ни с кем не нужно меня делить. Радовался, что теперь все ночи – его, а если "господин" не зовёт, то только потому, что слишком устал и хочет спать.
Конечно, винить юношу за такую радость было бы неправильно. Любой на его месте радовался бы, и любой, у кого есть хоть капля ума, понимал бы, что не следует торжествовать слишком явно, но мне вспоминались слова Мехмеда: "Я чувствую, что одинок в своей печали". Вот и я как будто стал совсем одинок и уже не знал, чего хочу. Когда Милко был рядом, мне хотелось поскорее спровадить его, а когда он отсутствовал, хотелось его позвать.
Наверное, именно поэтому в один из вечеров, по окончании утех, когда юноша выбрался из моей постели и начал потихоньку собираться, я вдруг в досаде произнёс:
– Останься до утра, если хочешь. От кого теперь прятаться!
Мне не хотелось видеть, рад юноша или нет, поэтому я улёгся на кровати спиной к нему, почти с головой накрылся одеялом, но через некоторое время почувствовал, как тот улёгся позади меня, а затем моей головы, не до конца укрытой, легко коснулась его рука:
– Не печалься так, господин, – проговорил Милко, гладя меня по волосам кончиками пальцев. – Обе госпожи обязательно вернутся. Ты их вернёшь.
– А если не сумею? – спросил я.
– Рано или поздно сумеешь, – последовал уверенный ответ, но у меня уверенности не прибавилось. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что причина всех моих несчастий – я сам.
"Ты слишком боязлив и не умеешь думать наперёд, – говорил я себе. – Другой на твоём месте не допустил бы того, что допустил ты. Сколько раз ты оказывался в положении, когда один поступок определяет всю дальнейшую жизнь! Но ты каждый раз поступал неправильно. Если бы ты приказал напасть на Штефана, когда он с малым числом воинов стоял возле потока, сейчас всё было бы по-другому. Да и не было бы войн с молдаванами, если бы ты в своё время исполнил намерение убить султана. Ты ведь хотел убить его много раз, пока был его "мальчиком". И не убил, побоялся, хотя сам Бог будто подталкивал тебя к этому. Да и позднее, когда ты ездил к турецкому двору, мог бы убить. Когда ты почувствовал, что твоя власть над Мехмедом ослабевает, ты мог бы его отравить, и в этом не было бы угрозы твоему благополучию, а только польза. Всякий раз, когда вы с султаном пили вместе наедине, у тебя была возможность, и тебя бы даже не заподозрили, но ты упустил все благоприятные случаи. А теперь поздно. Мехмед нужен тебе. Нужен живой. Ты сам загнал себя в угол".
– А если всё же не сумею? – снова спросил я. – Я наказан по делам своим. Я тот грешник, который блуждает во тьме и не слышит гласа Божьего. Случалось, что в решающий час я будто бы слышал подсказку свыше, как правильно поступить, но поступал наоборот...
Я ещё не договорил, когда почувствовал, что рука, легко прикасающаяся к моим волосам, вдруг замерла, а затем куда-то исчезла. Да и сам Милко будто отстранился от меня. Несколько мгновений назад я спиной чувствовал его присутствие, а теперь – нет.
Пришлось обернуться и стало видно, что возлюбленный сидит на постели, подтянув колени к подбородку, и смотрит куда-то в дальний угол:
– Если ты думаешь, что наказан за грехи, тогда покайся, господин, – произнёс Милко совсем чужим голосом. – Покайся и Бог простит тебя. И к тебе вернётся всё потерянное. Бог милостив.
Я не понял, о чём он, потому что мой возлюбленный говорил о чём-то своём – совсем не о том, что я пытался ему объяснить. "Покаяться? В чём именно? Я же ещё не успел рассказать, в чём считаю себя виновным". И вдруг меня осенила догадка: "Милко решил, что главным своим грехом я считаю нашу связь".
– Послушай... – скинув с себя одеяло, я положил руку юноше на плечо, но он дёрнулся так, будто я и в самом деле обжёг его.
Тогда мне только и оставалось, что быстро развернуться к нему и, встав на колени, накрыть его, сидящего, своим телом, обнять всю его сгорбленную фигуру, потому что иначе не получилось бы. Он снова дёрнулся, попытался вырваться, но я крепко сцепил руки:
– Глупец. Не за эти грехи я чувствую себя наказанным. Слышишь? Не за эти. Дослушай же!
Его тело, так сильно напряжённое, что будто окаменело, теперь стало больше похожим на человеческое:
– Не за эти?
– Нет.
– Поклянись.
– Клянусь.
– А за что же тогда ты наказан, господин?
– За слабость духа. Порой мне кажется, что Бог велит мне делать то или это, а я не делаю, страшусь, а теперь Бог наказывает меня за непослушание.
– И чего же ты страшишься делать, господин?
– К примеру, страшусь убить султана.
– Что? Но убийство – грех.
– Знаю, потому и сомневаюсь, что повеление исходит от Бога. Как и повеление перестать подставлять другую щёку. Когда я веду войны, то будто нарочно выходит, что я позволяю себя ударить. И мне кто-то говорит "перестань".
– Подставлять другую щёку – это тоже Божье повеление, – заметил Милко.
– Знаю, – повторил я. – И именно поэтому мне так странно. Я не могу понять, что правильно. Ведь мне будто подсказывают, как избежать бед. А я не слушаю, и беды обрушиваются на меня. И я всё больше думаю, что слабость духа – мой самый главный грех, потому что он позволяет множить зло в этом мире. Не будь султана, зла было бы меньше. И если бы я один раз дал молдаванам достойный отпор, они не сотворили бы всё то зло, которое сотворили в моей земле. Бог наказывает меня за слабость духа. Значит, мне нужно учиться проявлять силу.
Милко опять начал высвобождаться из моих объятий, но не для того, чтобы уйти, а для того, чтобы развернуться и посмотреть мне в лицо:
– Господин, я уже говорил тебе, что ты сильный. Ты неправ, когда считаешь себя слабым.
– Тогда почему же несу наказание? – спросил я и поспешно добавил. – Не за тебя это наказание. Точно знаю, что не за тебя.
Милко ещё больше развернулся и ткнулся головой мне в грудь:
– Господин, а если за меня? А вдруг я и вправду как Иуда, то есть тот, кто тебя погубит? Ведь это из-за меня ты не каешься.
Я погладил его по макушке, а затем взял за подбородок, заставив поднять на меня взгляд, и сказал с улыбкой:
– Скоро я совсем состарюсь, голос плоти станет тише, чем сейчас, и тогда попробую во всём покаяться.
– Скоро? – Милко удивился. – Но ты не стар, господин. И даже не в годах. Почему ты так говоришь?
Я подумал, что он льстит:
– Нет, твой господин стареет. Разве ты не видишь множество мелких морщин на моём лице? Не видишь, что в волосах уже блестят серебряные нити?
– Это ещё не старость. Это ещё совсем не старость, – горячо возразил Милко. – Старость это немощь, а ты не немощен, – он смутился, его взгляд непроизвольно скользнул вниз и от этого юноша смутился ещё сильнее, потому снова посмотрел мне в лицо. – Господин, верь мне, ведь твою немощь я почувствую раньше, чем ты сам.
Я был очень доволен – широко улыбнулся и даже беззвучно засмеялся, а затем повалился на постель. Возлюбленный в очередной раз оказался прав. Кто-то будто шепнул: "Раду, ты так привык считать себя мальчиком, что забываешь об одном важном обстоятельстве: не для всех ты мальчик. К примеру, для Милко ты мужчина, а как мужчина ты ещё совсем не стар. Это мальчики старятся стремительно, а мужчины – долго, поэтому и Марица не назовёт тебя старым".
* * *
Уронив голову на подушки, я сказал Милко, чтобы он погасил свечи, потому что пора спать. Пока сон ещё не пришёл, мне хотелось снова и снова повторять себе, что для всех любящих меня я мужчина, а не мальчик. Это несомненно было правдой, и вот почему одно событие, случившееся ближе к рассвету, в серых сумерках, стало для меня неожиданным.
Я проснулся, почувствовав, что надо мной, лежащим на спине, кто-то склонился, и этот кто-то тёплыми губами прикоснулся к моим, запечатлев на них осторожный поцелуй. Склонившаяся фигура через мгновение распрямилась, поэтому одеяло, прикрывавшее нас обоих, наполовину откинулось, и мне стало холодновато.
Не сразу удалось вспомнить, что я против обыкновения позволил Милко остаться на всю ночь, и теперь он, судя по всему, решил использовать случай, чтобы не дать мне выспаться.
Я уже собрался сказать, чтобы юноша перестал, как тот опять склонился надо мной и поцеловал уже не так осторожно, сильнее, а в поцелуе ощущалось нечто новое – цель, то есть Милко целовал так, как будто у него есть намерение овладеть мной.
Я почувствовал его желание, которое только-только разгоралось. Правда, этот огонёк был настолько слаб, что возникло сомнение, не почудилось ли мне, но затем послышался шёпот:
– Господин, а помнишь, как ты говорил, что будешь рад, если мы хоть иногда будем меняться? Помнишь, ты хотел, чтобы я обладал тобой?
– Да, – прошептал я в ответ.
– Тогда попробую сейчас, – сказал Милко. – Ты ведь не будешь смеяться, если не смогу?
– Не буду, – ответил я, боясь произнести хоть одно лишнее слово, чтобы не загасить слабый огонёк.
То, что должно было произойти, не превратило бы меня обратно в мальчика, я так и остался бы мужчиной, и всё же мне предстояло непривычное для мужчины дело – превратить в мужчину другого человека. Пусть я сам этого хотел, но давно перестал ждать, что мне представится возможность, поэтому теперь пребывал в лёгкой растерянности. Меня застали врасплох.
Запоздало пришла мысль: "А насколько я сейчас чист внутри?" – но это не имело значения, ведь велика была вероятность, что если заговорить с Милко об этом и попросить небольшой отсрочки, то у него пропадёт желание. "Ладно. Как-нибудь, – думалось мне. – Ведь все эти меры особой чистоты нужны в первую очередь для предотвращения досадных случайностей. Если мер не принять, то проникающий вовсе не обязательно вымажется. Может, ничего".
А меж тем Милко на его счастье думал совсем о других вещах: раздевал меня, целовал, скользил ладонями по моему телу и часто клал голову мне на грудь, будто хотел слышать биение сердца.
Мне пришла в голову ещё одна приземлённая мысль: "Надеюсь, он не забудет, что перед проникновением должен хорошо подготовить меня и себя? Если подготовит не достаточно, постараюсь стерпеть. Главное, чтобы он сумел довести дело до конца. Остальное – пустяки, этому учатся со временем".
Милко ничего не забыл, однако избрал для соития такую позу, которую можно назвать сложной: он оставил меня лежать на спине, а сам, сев на пятки и придвигаясь ко мне, как нужно, дал понять, чтобы я положил ноги ему на плечи.
Мне хотелось посоветовать юноше выбрать что-нибудь попроще. К примеру, поставить меня на четвереньки, "в позу газели", как называл её Мехмед. Однако тут же пришла мысль, что мои советы умудрённого опытом человека могут не помочь, а повредить: поколебать у юноши уверенность в себе и в конечном итоге погасить всякое желание.
Я ничего не сказал и молча ждал, а между тем оказалась, что излишняя осторожность, которую Милко проявлял почти всегда, теперь как нельзя кстати. Вопреки ожиданиям я не почувствовал боли, а через некоторое время осознал, что испытываю удовольствие. У меня вырвалось несколько стонов, совсем не притворных, но закончилось всё быстро.
Милко судорожно вздохнул, освободился от меня и, подавшись вперёд, поцеловал в губы, без всякого желания. Как видно, он просто считал нужным это сделать, а затем, ни слова не говоря, улёгся на своей половине постели спиной ко мне.
Я накрыл юношу одеялом, но он даже не обернулся, чтобы кивнуть в благодарность. Казалось, что произошедшее отняло у него все душевные силы. Их не хватило бы даже на то, чтобы просто посмотреть на меня, а я лежал и гадал: "Понравилось ли ему? А вдруг отчего-то стало противно? Может, он сейчас решил, что больше никогда не станет повторять этот опыт?"
За этими размышлениями ко мне всё же пришёл сон, а следующее, что мне вспоминается, это яркое солнце, заливающее комнату. Я взглянул в ту сторону, где лежал Милко, и оказалось, что тот теперь повернулся лицом ко мне, положил ладони под щёку, смотрит на меня и улыбается:
– Господин, теперь для тебя кое-что изменилось, – сказал он. – Теперь ты в постели не с юношей, а с мужчиной.
– Да, верно, – улыбнулся я.
– Теперь мы оба мужчины, – продолжал Милко уже серьёзно, – но всё остальное будет, как прежде? Ты всё равно мой господин, верно? И я должен тебе служить, то есть подчиняться?
– Мы можем это изменить, если... – начал я, но возлюбленный, который теперь стал ещё и любовником, то есть владеющим, перебил:
– Нет-нет-нет, менять не нужно. Не хочу власти над тобой. Никакой власти не хочу. Даже на ложе... – он запнулся. – Может, только иногда. Потому что власть это бремя. Оно тяжело.
– Поэтому ты раньше не делал то, что сделал этой ночью? – спросил я.
– И поэтому тоже, – Милко сел на постели и задумчиво продолжал. – А ещё мне казалось, что у меня очень много времени в запасе. Казалось, что стать мужчиной я всегда успею. Но вчера, когда ты сказал про грехи и я подумал, что ты хочешь отослать меня прочь, мне стало страшно. И дальше, когда ты разубедил меня, всё равно было страшно, что эта ночь, вероятно, последняя, когда можно попытаться. И я сказал себе, что откладывать больше нельзя. А вдруг завтра что-нибудь случится, что-нибудь изменится.
– Ты стал думать о будущем... – пробормотал я, вспомнив свои давние рассуждения о том, почему Милко забывал о цели.
– Не хочу, чтобы что-то изменилось. – Милко испытующе посмотрел на меня: – Господин, обещай, что у нас с тобой ничего не изменится ещё долго, очень долго.
– Обещаю, – ответил я, а мой возлюбленный, который теперь стал и любовником, заулыбался, потянулся губами к моей щеке, оставил на ней лёгкий поцелуй, а затем стремительно покинул постель:
– Мне ведь пора уйти, да?
Некоторое время я наблюдал за тем, как он совершает быстрое омовение над небольшой лоханью, а затем одевается.
– Погоди, – вдруг вырвалось у меня.
Я вылез из кровати, подошёл к этому мальчику-мужчине и, положив руки ему на плечи, произнёс:
– Ты должен знать... Знать, что я люблю тебя.
Милко на мгновение растерялся. Ведь это опять были перемены, которых он боялся:
– Но... но... раньше ты никогда не говорил этого прямо. Ты давал понять, что я дорог тебе, но... Господин, почему сейчас ты говоришь?
– Потому что откладывать это больше нельзя, – ответил я с улыбкой. – А вдруг завтра что-нибудь случится, что-нибудь изменится, и не будет возможности сказать.
* * *
В сентябре, в очередной раз приехав в Истамбул с данью, я узнал новость, которая вроде бы никак меня не затрагивала, но казалась предвестницей бед. Мне сказали, что около месяца назад по высочайшему повелению казнён великий визир Махмуд-паша, и пусть я уже давно не водил с ним близкое знакомство, но смерть этого человека означала действительный конец эпохи, к которой принадлежал и я.
Именно в те времена, когда Махмуд-паша обладал наибольшей властью и могуществом, я имел наибольшее влияние на сердце султана. Это не зависело одно от другого, так совпало, но, наверное, я был суеверен, потому что радовался, когда два года назад Махмуд-паша после опалы вернулся ко двору. А теперь его задушили в Семибашенном замке, перед этим продержав там много дней, пока Мехмед принял окончательное решение.
Узнав об этом, я подумал: "Что же теперь делать мне? Может, и моё время почти истекло?" Приезжая ко двору султана, я видел вокруг себя всё меньше знакомых лиц. Сначала отправили в ссылку Ахмеда-пашу, затем погиб Хасс Мурат, теперь Махмуд-паша оказался казнён. Мелькала мысль: "Скоро дойдёт очередь и до тебя, Раду. Мехмед за что-нибудь разгневается на тебя и казнит, потому что окружение султана меняется, а вечен только сам султан".
Приняв моё официальное "посольство", султан по обыкновению велел, чтобы я вечером явился в его покои, а когда мы беседовали и пили подогретое вино, он приглядывался ко мне внимательнее обычного:
– С прошлого года ты не переменился, Раду.
– Мне приятно это слышать, повелитель.
– Но ты всё равно стареешь.
– Старение неизбежно.
– Даже для мёртвых, – вдруг произнёс Мехмед.
Я не смог скрыть испуга:
– Повелитель, что ты хочешь сказать? Ведь я не мёртв.
Мехмед посмотрел на меня ещё пристальнее и отпил из чаши с вином. Казалось, султану совершенно безразличны мои чувства. Безразлично, что он меня напугал, ведь он думал о чём-то своём:
– Ты – нет, – пояснил он. – Но я говорил тебе однажды, что ты похож на человека, которого я любил. Он был очень красив, и ему было чуть меньше лет, чем сейчас тебе, когда прервалась его жизнь. Он уже начинал стариться, но совсем чуть-чуть и старение было незаметно. Я запомнил его молодым и красивым. Мне казалось, что в моей памяти он навсегда останется таким, а теперь я смотрю на тебя и могу видеть, как изменился бы он, если б прожил ещё несколько лет. Значит, даже мёртвые могут стариться. Это печально.
Получалось, что султану неприятно на меня смотреть, поэтому я сказал:
– Если пожелаешь, повелитель, я могу закрыть лицо платком, и ты больше не увидишь того, что тебя печалит.
Мне вдруг вспомнилось, что два года назад, когда Мехмед упоминал о таинственном красавце, то не говорил, что красавец умер. Султан лишь сказал "когда я видел его в последний раз", а теперь получалось, что последний раз был незадолго до смерти...
Я по-прежнему чувствовал себя неуютно, а султан вяло улыбнулся:
– Что толку, если печалящее меня я уже видел! И забыть не смогу, – он опять посмотрел на меня очень пристально. – А ты никогда не задумывался о том, что бывает, если умираешь молодым или почти молодым? Даже если кому-то суждено увидеть тебя старым после твоей смерти, ты сам себя таким не увидишь.
– Истинная старость – это немощь, – ответил я. – Но немощи во мне пока нет. А когда будет, и одолеют разные старческие болезни, то, возможно, я стану призывать смерть.
Мехмед покачал головой:
– Ты не понимаешь. Я говорю тебе не про немощь, а про увядание. Ты готов с этим смириться? Знаешь, когда-то у меня в услужении был евнух. Весьма красивый. Настолько красивый, что он пользовался особым расположением одного из моих визиров. А затем евнух начал стариться, но не хотел выглядеть старым, поэтому красил волосы, красил лицо, а когда и это перестало помогать, он вдруг заболел и умер. Визир горевал и говорил, что тот ушёл рано, а евнух перед смертью сказал, что совсем не жалеет, и что уходит вовремя. Так вот, чем больше я об этом размышляю, тем больше мне кажется, что это была не болезнь. Евнух отравился и скрыл ото всех. Он не захотел дальше так жить.
– Евнухи – особые существа, – сказал я. – А я бы не согласился умереть, потому что надеюсь увидеть, как вырастут мои дети и как подарят мне внуков. Глядя на их лица, я не буду думать о собственном лице, а буду чувствовать себя молодым.
– Не будешь, – сказал Мехмед.
Мне опять стало страшно, как если бы он собирался убить меня, а ведь он имел в виду совсем другое.
Это выяснилось, когда он договорил:
– Я смотрю на свои детей и внуков, но о прожитых годах помню всё равно.
Мне следовало кивнуть:
– Что ж. Надеюсь, их вид хоть на время отвлечёт меня от мыслей о старости.
– А знаешь, как больно терять детей? – спросил султан, и мне опять сделалось страшно, но я вовремя вспомнил, что в этом году умер один из сыновей Мехмеда – Мустафа.
Кажется, мне так и не представилось случая выразить соболезнования, поэтому следовало произнести:
– Повелитель, я знаю о твоей утрате и скорблю вместе с тобой. И понимаю тебя лучше, чем ты думаешь, потому что сам лишился дочери.
– Она умерла? – не понял Мехмед.
– Мой враг увёз её от меня в свою страну, удерживает в плену вот уже почти год и не желает брать выкуп.
Затем я поведал султану о Штефане и том союзе, который был мне предложен, не забыв упомянуть, что отказался от предложения.
– Что же мне теперь делать, повелитель? – спросил я. – Как вернуть дочь? У меня нет войска, чтобы сразиться с этим человеком. И мои сыновья тоже в опасности, потому что он наверняка нападёт на меня снова.
– Я подумаю, как тебе помочь, – ответил Мехмед, но я уже знал, что он в итоге придумает, и что у меня попросит.
* * *
Вопреки моим ожиданиям Мехмед так и не принял никакого решения до моего отъезда. Пусть я сделал всё, чтобы направить мысли султана в нужную сторону, он не торопился прийти к выводу, к которому не мог не прийти.
В итоге я вернулся в Румынию ни с чем и даже стал подумывать, не проще ли будет снова начать переговоры со Штефаном. К примеру, можно было солгать, что согласен на союз, ведь тогда мне дали бы увидеться с дочерью, а если так, то наверняка появилась бы возможность устроить Рице побег.
Как видно, Штефан хотел, чтобы я передумал, потому что почти сразу после моего возвращения из Турции, в октябре снова пришёл в мою страну вместе с Басарабом. Не знаю, почему, но на этот раз пришёл не с востока, а с севера.
Возможно, дело было в том, что я незадолго до своего отъезда в Турцию отправил в трансильванский город Брашов письмо, где говорил, что брашовяне ни в коем случае не должны помогать моему врагу Басарабу. Я считал брашовян союзниками, но Штефан, направляясь ко мне, прошёл по окраине их земель, будто этим хотел сказать: "Они тебе не союзники. Войско в помощь от них не жди, да и получить убежище у них городе ты не сможешь. Они выдадут тебя мне, если потребую, потому что меня боятся. Я в их владения без спросу зашёл, а брашовяне сделали вид, что не заметили".
Знал ли молдавский правитель, что я и впрямь очень рассчитывал, что Брашов станет убежищем? Не для меня, а для моих сыновей.
Я не хотел повторять прошлой ошибки и в случае чего оставлять Мирчу и Влада в Джурджу на попечении никополского бея, хотя тот снова переменил отношение ко мне и проявлял дружелюбие после того, как его воины вернулись из зимнего похода с большой добычей: на юге Молдавии они награбили много.
Как бы там ни было, никополский бей всё равно оставался подчинённым султана, а вот брашовяне не были связаны с султаном и подчинялись венгерскому королю, которому я всё ещё был угоден на румынском троне.
Король не хотел, чтобы меня сместили, и именно этим я объяснял неожиданную весть о том, что вслед за Штефаном, также с севера, в мою страну пришло венгерское войско. Правда, человек, принесший весть в Букурешть, не мог сказать, кто начальствует над войском, и почему венгры не отправили мне письмо, где сообщали бы о том, кто их послал, и что они собираются делать.








