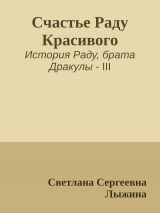
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Выяснить это я не мог, потому что молдаване закрыли проезд к венграм: теперь к северу от моей столицы повсюду рыскали молдавские разъезды. Эти разъезды не дали бы моему гонцу проскочить.
Также они охотились за боярами и за любым человеком, который назвался бы моим слугой. А ещё – забирали у крестьян всё, что хотелось, и убивали за малейшую попытку помешать.
Штефан приближался к Букурешть, а по пути захватил крепость Теляжен. Все, кто находился в крепости, были зарублены молдаванами ради устрашения, а венгерское войско, о котором я получил весть, пока никак себя не проявляло.
Обо всём этом я думал, сидя на совете в тронном зале. Мы с боярами решали, что делать, потому что денег на войну по-прежнему не было.
– Положение наше хуже, чем весной, – сказал Стойка. – Весной мы могли сказать людям "забирайте всё своё и уходите от врага", а теперь осень. На полях ещё не собран весь урожай, его нельзя бросить, иначе зимой начнётся голод. А даже если и бросить, то зачем? Штефановым людям и коням будет, чем питаться. Значит, Штефан теперь способен устроить долгую осаду Букурешть, а долгой осады нам не выдержать.
– Венгры должны будут ему помешать, – возразил я.
– Их намерений мы не знаем, – ответил Стойка. – А что если Штефан тайно договорился с королём и теперь Басараб более угоден королю, чем ты?
Мне вспомнилась история моего старшего брата, который в своё время стал неугоден венгерскому королю и потому оказался в венгерской тюрьме, где пребывал до сих пор. Разделить его участь я совсем не хотел, да и вряд ли меня посадили бы в ту же тюрьму, что и Влада. Нет. Да и нельзя мне было попадать в тюрьму, потому что оставалось слишком много дел, которые требовали решения.
Я молча сидел на троне, ожидая, что мне посоветуют бежать, но не ожидал, что бояре скажут это почти хором:
– Беги, государь, беги, пока можешь, и приведи турецкую подмогу. Забери сыновей, чтобы никто не пленил их, и всю казну, которая есть сейчас в подвалах, чтоб ни денежки не досталось Штефану и Басарабу.
Стойка подождал, пока утихнут чужие голоса, и добавил:
– Пусть Штефану теперь у нас сытно, но не будет он долго гостить. Уйдёт недели через три, а тут ты вернёшься, и Басараба мы выгоним. А ещё лучше – уйти ему не дадим. Отрубим голову.
Мне невольно вспомнились слова самого Штефана о том, что Басараб – никчемный человек, и что сажать его на румынский трон – всё равно, что приставлять отрубленную голову обратно к телу, то есть держаться она не будет. Наверное, молдавский правитель предвидел для своего ставленника ту смерть, о которой теперь говорил Стойка.
– А с венграми договоримся, – меж тем продолжал этот боярин. – Зачем бы они ни пришли, договоримся.
Всё это было правильно, но означало, что сыновей мне придётся взять с собой в Турцию. И Милко тоже должен был бы отправиться со мной. Оставлять его Басарабу во второй раз я не собирался. Но моим детям, как и возлюбленному в Турции грозила опасность. И очень серьёзная.
– Стойка, а помнишь, что я говорил тебе в прошлый раз о своих сыновьях, когда оставлял тебя с ними в Джурджу?
– Помню, государь, – ответил тот.
– И что же?
– Оставь их снова в Джурджу, – невозмутимо ответил боярин. – Никополский бей уж точно не отдаст их ни Штефану, ни Басарабу, ни венграм.
– А султану? – спросил я. – Если султан узнает, что мои дети в крепости, то может потребовать их к себе.
– А как он узнает? – всё так же невозмутимо возразил Стойка. – Только если никополский бей напишет письмо. А зачем он станет это делать? Не станет. Ведь он получает от тебя деньги и подарки за то, что хранит твоих детей. А от султана что получит?
– Верно, – пробормотал я, но мне всё равно было неспокойно, а остальные присутствующие и вовсе не понимали, зачем их государь завёл разговор о детях. Удивлённые взгляды бояр ясно говорили: "Ты теряешь время на пустяки вместо того, чтобы готовиться к отъезду. Каждая минута дорога".
– А если отвезти их в Брэилу? – сделал я последнюю попытку.
– В Брэиле нет оборонительных стен, – покачал головой Стойка. – Тогда уж оставь их в рыбацкой деревушке на берегу Дуная и это будет то же самое.
Как видно, выбора не оставалось, и я решил, что Мирча и Влад опять отправятся в Джурджу. И Милко с ними. А Стойка присмотрит за всеми троими, пока меня не будет.
* * *
Снова направляясь в Турцию, я досадовал и радовался в одно и то же время. Досадовал, потому что положение моё опять ухудшилось, и мне будто напомнили в очередной раз, что Раду Красивый сам не может себя защитить, вечно вынужден просить помощи. А радовался, потому что мой замысел, когда я хотел натравить султана на молдаван, теперь обещал исполниться. "Чем хуже, тем лучше, – мысленно повторял я себе. – Приеду к султану, расскажу о том, что Штефан опять напал на меня, и Мехмеду ничего не останется кроме как принять решение о походе в Молдавию".
У меня было странное чувство, что судьба моя идёт по кругу. Снова, как почти год назад, я отправился в Истамбул, оставив детей в Джурджу. И снова это было не посольство, а поиск убежища. И султан опять должен был принять меня не в тронном зале в присутствии визиров и прочих сановников, а в своих личных покоях. И опять я готовился произнести почти те же слова, что год назад:
– Ах, повелитель! Я столько пережил и лишь на тебя могу надеяться. Молю о помощи.
Однако в этот раз я надеялся сойти с круга: "В прошлый раз мне почти ничем не помогли, лишь приказали никополскому бею дать мне бесплатно семнадцать тысяч воинов. А теперь соберётся огромная армия, больше ста тысяч, которая двинется в Молдавию. И это поможет мне вернуть жену и дочь!"
Разумеется, я ждал вопроса и о сыновьях, поэтому заранее приготовился лгать и придумал историю.
Думать о том, как стану лгать Мехмеду в таких делах, было страшно. Это совсем не то же самое, что лгать о своих чувствах. О чувствах я лгал султану с самого отрочества и ни разу не был уличён. Что ж... теперь приходилось учиться лгать по-новому, но я был уверен, что сумею. Даже будучи пьяным, сумею.
Вот почему я нисколько не растерялся, когда понял, что подробно рассказывать о своих бедах мне опять придётся поздним вечером, сидя всё на том же просторном возвышении, заваленном подушками, и попивая вино, которое надо наливать из чайничка, потому что оно подогретое. Другое султану не хотелось пить в холодный октябрьский вечер.
– Так почему же ты не взял сыновей с собой? – удивлённо вопрошал Мехмед, отставив пустую пиалу. – Здесь, в Истамбуле, им безопаснее всего.
– Да, повелитель, да. – Я сокрушённо опустил голову. – Но нельзя было знать заранее, когда Штефан-бей явится, и так вышло, что я отправил сыновей в монастырь на севере близ гор. Решил, пусть постигают книжную мудрость. В монастыре очень богатая библиотека и я подумал, что надо отвезти сыновей к этому источнику знаний, раз уж нельзя перенести источник в мою столицу.
– Говори короче, – нахмурился султан, – я не понимаю, к чему ты ведёшь.
– Сыновья мои были там, когда пришёл Штефан-бей с войском, – я стукнул себя по лбу, будто хотел наказать за глупость. – Штефан пришёл неожиданно, и мне пришлось бежать на юг, а мои сыновья остались на севере моих земель. Всё, что я успел, это послать повеление, чтобы слуга, который отвечает за них, вёз их скорее за Дунай, то есть сюда, а если на пути встретятся люди Штефана и никак нельзя будет объехать, пусть поворачивает обратно на север и скроется с моими сыновьями в землях венгров.
Лицо султана просветлело:
– Так значит, твои сыновья всё ещё могут сюда приехать? Нужно только подождать?
– Да, повелитель, да, – ответил я, стараясь не выглядеть совсем уж простаком.
Впрочем, месяц назад я действительно оказался простаком, потому что не понимал, отчего Мехмед медлит с решением выступать в поход. А всё объяснялось просто: султан надеялся, что Штефан ещё раз нападёт на меня, а я опять приеду искать защиты в турецкую столицу и привезу сыновей с собой. Султан ведь сам велел мне так поступить, когда мы говорили об этом год назад. И если бы я выполнил повеление, мои сыновья достались бы Мехмеду без всяких условий с моей стороны, а затем он смог бы решить, действительно ли ему нужен поход против Штефана, или с этим врагом можно договориться о мире. Судьба моей дочери и моей жены в результате этого договора наверняка осталась бы неизменной, они продолжили бы жить в Сучаве, но Мехмеда это не заботило – главное, что мои сыновья оказались бы в Истамбуле.
"А вот нет, – думал я. – Ты так просто меня не проведёшь. Нужны мои сыновья? Постарайся ради них. Хоть ты их и не получишь, но постараться придётся".
* * *
Если лгать, то лгать. Если уж я сказал, что нужно подождать, не сумеет ли мой слуга привезти моих детей в Турцию, то следовало ждать. Хоть я и знал, что слуга "не сумеет".
Прошёл почти месяц с того вечера, как я обнадёжил султана, поэтому я уже готовился пережить небольшую грозу. Мехмед должен был разгневаться из-за того, что его надежды не оправдались, и что моих детей он в ближайшее время не увидит.
"Ничего, и не такие грозы переживали", – думалось мне, когда один из слуг-греков, которые и в этот раз сопровождали меня в поездке, сообщил, что к турецкому двору приехал богатый румын и добивается приёма у султана.
"Стойка? – подумал я. – Этого не может быть! Он не предатель!"
Это в самом деле оказался не Стойка. Я никогда прежде не встречал этого человека. И детей моих при нём не было. И знакомых мне лиц я при нём не увидел. Но мне объявили, кто он – бей Эфлака, то есть государь Румынской Страны, которую турки называли Эфлак.
Правда, поначалу это от меня скрывали. Узнав от своих слуг о неизвестном румыне, я сразу отправился в канцелярию султана, чтобы с помощью небольшой взятки выяснить у писарей имя приехавшего. Однако сделать это мне не удалось, и в тот же вечер о моём визите в канцелярию доложили Мехмеду. Он позвал меня и строго сказал, что я не должен беспокоиться, то есть мне следовало оставить всякие попытки проникнуть в тайну, а иначе не избежать высочайшего гнева.
Через несколько дней Мехмед пригласил меня присутствовать в тронном зале, где примут "важного гостя". Я стоял неподалёку от султанского трона, поэтому султан сразу увидел, как я переменился в лице, когда слуги объявляли, что прибыл "бей Эфлака". Но ведь это же был мой титул! А я тогда кем считался!?
Всё прояснилось, когда назвали имя "важного гостя": к султану явился тот самый Басараб Старый, которого Штефан в начале октября посадил на трон. Но почему Басараб приехал к турецкому двору? Как не побоялся? И почему Мехмед принял его? Уж явно не из-за красивого лица.
Басараб Старый был действительно очень стар. Старше Штефана, потому что лоб и щёки уже оказались прорезаны глубокими морщинами, а волосы, когда-то тёмные, теперь стали почти седыми. Всю жизнь этот человек ждал, когда обретёт власть, его время уже истекало, и потому теперь он, наверное, держался за власть обеими руками. Потому и не побоялся приехать. Но почему Мехмед принял его?
Со слов Басараба я узнал, что сейчас в моей стране правит ещё один Басараб, который получил трон с помощью венгерского войска, пришедшего из-за гор.
"Сколько же претендентов на мой престол? – подумал я. – И неужели я больше не угоден королю?" О таких вещах почти всегда узнаёшь внезапно, и эти новости почти всегда некстати. Но сейчас это не имело особого значения.
Также Басараб объявил, что больше не будет сохранять дружбу со Штефаном, а хочет быть другом для Турции и слугой для великого султана.
Мне вдруг вспомнилась беседа с Штефаном в его шатре, состоявшаяся холодным мартовским днём, и слова молдавского правителя: дескать, посажу Басараба на румынский трон ещё только один раз, а если ставленник опять не удержится, то "пусть катится, куда хочет". "Тогда, полгода назад, в марте, – думал я. – Басараб не получил власть, но получил её осенью. И снова потерял стараниями венгров. И, наверняка же, отправился снова к Штефану, а тот посмеялся и прогнал своего никчемного ставленника. И тогда Басараб Старый отправился к султану".
Но почему Мехмед принял этого человека? И не просто принял, а принял скоро? Обычные послы могли дожидаться приёма по месяцу, а Басараба приняли через несколько дней по приезде в Истамбул. Что же случилось? Этот вопрос пока оставался без ответа.
– А теперь расскажи нам то, что ты уже рассказал в письме, которое передал в канцелярию на высочайшее имя! – произнёс один из султанских слуг, потому что султан считал ниже своего достоинства много говорить во время приёмов.
Басараб Старый взглянул на меня, очевидно, уже давно приметив в толпе среди турок, и произнёс:
– Я имел счастье сообщить великому султану, что Раду-бей не достоин доверия, потому что сам не доверяет своему повелителю. Когда я переправлялся через реку возле крепости Джурджу, то в крепости случайно видел двух богато одетых мальчиков, которые не были турками. Я спросил, кто они. И мне сказали, что это сыновья Раду-бея, которые живут здесь, пока их отец в отъезде. Почему Раду-бей не хочет привезти их ко двору? Почему прячет? Так поступает только тот, кто замыслил предательство!
Дальнейшее было предсказуемо, поэтому я очень надеялся, что обо мне не вспомнят ещё хотя бы четверть часа. Этого хватило бы, чтобы затеряться в толпе придворных, выйти из зала, бегом добраться до своих покоев и сообщить слугам, что мы немедленно покидаем дворец. Нас кинулись бы искать, но мы наверняка успели бы покинуть пределы дворца, а дальше разыскивать нас в большом городе оказалось бы затруднительно.
Пришлось бы всё оставить, даже коней в конюшне. Но при нас была достаточная сумма денег, чтобы в тот же день купить новых и мчаться на север, к Джурджу. Я бы успел хоть на час опередить султанских посланцев, которые повезли бы в Джурджу высочайшее повеление немедленно доставить моих сыновей в Истамбул. Я забрал бы своих детей раньше, а дальше отправился бы... куда угодно. Хоть к Штефану в руки, и пусть вся наша семья теперь оказалась бы в молдавском плену, зато мы были бы вместе: я, Марица, все трое наших детей...
Но четверть часа мне не дали. Мехмед, до этого сидевший на троне неподвижно, будто каменное изваяние, повернул голову в мою сторону, а один из слуг громко произнёс:
– Раду-бею приказано приблизиться к трону.
Я, и так стоя близко, подошёл ещё ближе, низко поклонился, а султан, сощурив глаза, произнёс:
– Ты слышал, что сказал этот человек? Это значит, что ты обманул меня. Изменник! – уже обращаясь к слугам, он приказал: – Схватить его и посадить в Семибашенный замок. В тюрьме ему самое место!
* * *
Я давно догадывался, что Семибашенный замок – очень мрачное место, из которого хочется выбраться, во что бы то ни стало. Когда сюда заключили Ахмеда-пашу, он попросил о помиловании уже через несколько дней. Когда сюда заключили Махмуда-пашу, он, как мне рассказывали, сохранял присутствие духа заметно дольше – пятьдесят дней, а затем отправил султану письмо, где просил или казнить, или освободить, но не держать больше в Семибашенном замке. "А теперь моя очередь пройти испытание стойкости духа", – думал я, когда меня, пешком проделавшего путь от дворца до крепости, ввели в ворота.
Посреди огромного внутреннего двора, имеющего форму звезды, находилась небольшая мечеть. В том же дворе возле одной из крепостных стен виднелись бани и казармы, окружённые дополнительной, невысокой каменной оградой. Но как же мелки казались все эти постройки по сравнению с огромными круглыми башнями и высоченными зубчатыми стенами!
Я вдруг понял, как чувствовал себя пророк Иона, проглоченный китом. Так и меня поглотила эта огромная крепость. Внутри кита было темно, и так же темно было в бесконечных коридорах, на каменных винтовых лестницах. И в моей камере, куда меня привели и оставили, тоже оказалось темно.
Окон там не было, а были бойницы: отверстия, имевшие форму арки, всё больше сужались по мере приближения к внешней стороне очень толстой стены, так что наружу можно было смотреть сквозь крохотную щель, в которую едва разглядишь небо и городские крыши. Теперь мне стало понятно, почему, когда я только подходил к замку, окружённый стражей, башни выглядели так, как будто в них совсем нет никаких отверстий. Такую узкую щель издалека не заметишь.
В самой камере не обнаружилось ничего за исключением невысокого деревянного возвышения, на которое можно было сесть или лечь. На него я и уселся, поджав ноги, чтобы не чувствовать холода, который исходил от каменного пола.
"Увы, – думалось мне, – у меня нет предназначения, как у пророка. У Ионы оно было, и Бог не мог оставить Иону в чреве кита, выпустил, чтобы пророк исполнил, что должен. А я не могу быть уверенным, что Бог освободит меня отсюда. Зачем Ему это?"
Наверное, сейчас следовало думать о своей дальнейшей судьбе. Следовало горевать о Марице и Рице, которые теперь уже наверняка не получат от меня помощи. И, конечно, беспокоиться о сыновьях, которых теперь привезут в Истамбул и покажут султану. А ещё следовало вспоминать о Милко: хоть бы султанские посланцы не взяли его с собой, а оставили в Джурджу! И о Стойке следовало тревожиться, ведь окажись он при турецком дворе, его тоже не ждало ничего хорошего.
Правда, у меня была слабая надежда, что мои сыновья тоже видели Басараба, который видел их, и что они рассказали обо всём Стойке, а тот догадался перевезти их и Милко в другое место. Но надежда была очень слаба. Откуда моим сыновьям или Стойке было знать, что человек, переправляющийся через Дунай возле Джурджу, сам Басараб, если они его никогда прежде не видели? Откуда им было знать, что этот человек едет к султану на поклон? Мало ли богатых людей ездит на турецкую сторону и обратно! И они едут по торговым или иным делам, а вовсе не к султану. Басараб ведь был не дурак, чтобы, проезжая через Джурджу, выболтать, кто он и куда едет, потому что никополский бей или румелийский бейлербей могли его задержать на всякий случай. Басараб, конечно же, объявил о своём положении только по прибытии в Истамбул.
"Вот так Семибашенный замок и отбирает душевные силы, – думал я. – Отбирает, потому что всякий человек, попавший сюда, оставляет снаружи множество дел, а сделать уже ничего не может, но тревога о будущем продолжает снедать его. Ведь нельзя же так сразу смириться, что больше нет у тебя будущего". Именно поэтому мне хотелось быть умнее – хотелось перестать думать о том, на что уже никак не повлияешь, а просто сидеть и смотреть в одну точку, забыв обо всём. Даже о том, что тело в этой холодной камере довольно быстро начало замерзать.
...Не знаю, сколько прошло времени, но когда я услышал, как загремела железным засовом дверь, в комнате стало уже совсем темно. Даже скудный свет, пробивавшийся сквозь щели бойниц, погас, и именно поэтому таким ярким показался свет факелов, которые держала в руках стража во главе с тюремщиком.
В этом свете я увидел, как в камеру втаскивают большой мангал, чтобы согреть помещение. Ещё несколько стражников внесли тюфяки и подушки, начав укладывать их на деревянное возвышение, где я продолжал сидеть.
Меня попросили встать, и уже стоя я наблюдал, как в комнату вносят круглый столик, лампу и даже горшок, чтобы ходить по нужде. А затем мне в руки сунули узелок из простой материи. Внутри оказалось чистое исподнее и гребень, причём вещи в узелке были моими, то есть их принесли из моих гостевых покоев во дворце.
Как только я перестал рассматривать принесённое и поднял глаза, тюремщик поклонился, сообщив, что скоро "господину" подадут хороший ужин, и что хорошей пищи следует ожидать также впредь. И ещё сказал, что раз в неделю я смогу пользоваться баней, а если у меня есть другие насущные потребности, то они будут удовлетворены в пределах разумного. Надо лишь объяснить тюремщику, чего не хватает.
Я ответил, что подумаю, и тут же спросил, кому обязан улучшением своего содержания. Мне ответили, что недавно приходили мои слуги и заплатили за всё это. То есть султан был ни при чём. Возможно, он уже забыл обо мне? Забыл на долгие месяцы или годы? Такая мысль тоже подтачивала душевные силы, поэтому не следовало гадать о планах султана. Лучше было ни о чём не думать.
* * *
Ночью, когда в крепости стихли все звуки, стал слышен шум моря, находившегося совсем рядом. Эти звуки опять же напоминали мне о пророке Ионе, которого проглотил кит. Наверное, Иона точно так же сидел в брюхе и слушал шум волн, и мечтал увидеть солнце.
Вот почему наутро мне пришла в голову мысль послать за тюремщиком и спросить, можно ли мне днём выходить из камеры и гулять внутри крепости хотя бы под присмотром.
Тюремщик мгновение подумал и ответил:
– Это можно.
С того дня я начал много времени проводить на крепостной стене, которая смотрела в сторону моря. Поздняя осень в Турции – хмурое и туманное время, но здесь, в Истамбуле, туман часто отгоняли морские ветры, и тогда солнце, яркое и слепящее, начинало озарять весь город, и я мог видеть окрестности Семибашенного замка. Слева – море черепичных крыш, справа – синяя морская гладь, плоские синие горы на горизонте, а если повернуться к городу спиной, море простиралось так далеко, насколько хватало глаз.
Я любовался этой картиной, каждый день подмечая всё новые детали, потому что совсем не хотел думать о будущем, и о дорогих мне людях, которых уже не мог спасти, и о делах, которые уже не мог завершить.
Если же я всё-таки задумывался, меня охватывало глухое отчаяние, приходила мысль спрыгнуть с высоченной стены, чтобы разбиться насмерть, но не чувствовать этого отчаяния: "Господи, за что ты наказываешь меня через моих детей? Я давно смирился с тем, что не могу защитить себя, но как смириться с тем, что не могу защитить их! Что же это делается! Моих детей расхватывают, как породистых щенят. Девочку забрал Штефан, мальчиков заберёт Мехмед, а мне и моей жене будто говорят: плодите ещё, если можете, а мы заберём и новых. Как мне смириться с этим?"
Мне представилось, что я вышел из крепости через несколько лет, и всё, что могло случиться плохого с моими детьми, уже случилось, и они повторяют мой путь, с которого уже не сойдут, не смогут. А я слишком хорошо знал, в чём этот путь состоит.
Говори лишь то, что хотят услышать. Мысленно проклинай, а вслух клянись в любви. Спрашивай себя: "Где мои желания, а где чужие?" – потому что уже не можешь различить. Спрашивай себя: "Не схожу ли я с ума?" Будь в разладе не только со своим разумом, но и со своим телом. Оно не хочет, ему противно до тошноты, а ты заставляй и говори, что так надо. А после, когда пройдут годы, и юность уйдёт, спрашивай себя: "Зачем были принесены все эти жертвы? Ведь человек, который заставил меня жить так, не любил меня, а лишь использовал, а теперь найдёт себе другую игрушку".
Лучше не думать о таком будущем, а смотреть на синюю даль моря или на город, который как море черепичных крыш. Надо очистить голову от всяческих мыслей и просто следить за облачками, которые медленно плывут по лазурному небу, а вечером наблюдать, как благодаря заходящему солнцу нижний край неба окрашивается в розовый цвет, волны становятся тёмно-синими, а плоские горы на горизонте – сиреневыми.
* * *
Так бездумно я проводил дни в созерцании, а когда в очередной раз вспомнил о том, что осталось за пределами крепости, вдруг успокоился: "Нет, без меня с моими детьми не случится то, что страшнее всего. Они не ступят на этот путь, если я не одобрю. Неспроста Штефан предлагал мне союз и хотел, чтобы я велел своей дочери быть послушной. Без этих моих слов ему Рицу не сломить. И Мехмед точно так же не сможет подчинить себе моих сыновей, если я сам не отдам их ему в руки".
Мирча и Влад, которым уже исполнилось по десять лет, не были трусливы и не были глупы. Они не покорились бы султану, если б знали, что тот держит их отца в крепости. Они не уступили бы угрозе: "Делайте, что говорю, а иначе ваш отец умрёт". Вернее уступили бы, но лишь до определённой степени – не до той, которая нужна Мехмеду.
"Значит, – думал я, – после того, как моих детей доставят в турецкую столицу, Мехмед должен будет устроить мне встречу с ними и настаивать, чтобы я велел сыновьям слушаться его во всём, что бы тот ни приказал. А мне следует ни в коем случае не произносить этих слов. Конечно, он будет использовать все средства. И даже пригрозит казнить, если не увидит покорности. Но я не должен соглашаться. Ни в коем случае не должен. И будь, что будет. Судя по всему, этого хочет сам Бог. Хочет, чтобы я проявил силу, а не покорялся злу, как всегда делаю".
Как только я это понял, мне стало так спокойно, как никогда прежде. Такое спокойствие бывает только у монахов, давно удалившихся от мирской суеты. А ещё – у тех, кто ещё не умер, но согласен умереть. У людей, приговорённых к казни, или у тех, кому предстоит смертный бой. Наверное, по образу мыслей я всё-таки был ближе ко вторым, поэтому мне вдруг захотелось пригласить в крепость священника, чтобы исповедаться и очистить свою душу от грехов.
Вдруг вспомнилось, как я обещал Милко: "Попробую во всём покаяться", – но несмотря на то, что я уже осознал возможность скорой смерти, каяться хотелось не во всём. Хотелось каяться за каждую минуту, проведённую на ложе с Мехмедом, и за всякое соитие, когда я заставлял себя, но за те "грехи", когда меня вело влечение, влюблённость или любовь, каяться не хотелось. "Не жалею ни об одном мгновении", – думал я, вспоминая Милко, и так же повторял, вспоминая другие свои безумства, очень давние.
Но даже от того груза грехов, которые я признавал грехами, избавиться казалось непросто. Если бы я стал рассказывать о султане незнакомому здешнему священнику, мне бы просто не поверили. Священник решил бы, что я безумен. Он бежал бы от меня. И я не получил бы отпущения.
Это размышление меня и занимало, когда в крепость пришёл приказ доставить "изменника Раду-бея" во дворец.
Без труда подсчитав, что прошло примерно столько дней, сколько нужно, чтобы доехать до Джурджу и обратно, я уже понял, что предстоит во дворце. Получалось, что время для исповеди упущено, но и это не взволновало меня. Странное спокойствие, которое овладело мной, сохранялось.
* * *
Стража крепости передала меня с рук на руки дворцовой страже, а та отвела меня в мои покои, где я размещался, когда считался другом и гостем султана.
В этих покоях по-прежнему жили мои слуги-греки, и начальник стражи сказал:
– Вымойте своего господина и дайте ему новую одежду, а позднее, когда будет приказано, мы заберём его, чтобы отвести к султану.
На всякий случай он добавил, обращаясь ко мне:
– Не пытайся сбежать. Твои двери с той стороны охраняются.
"Сейчас состоится обмывание покойника", – подумал я с тем же безразличием, но в то же время ждал в нетерпении, пока стража уйдёт, чтобы расспросить своих слуг, знают ли они что-нибудь о моих детях. Видели их? А кто моих детей сопровождает?
Наконец двери за стражей закрылись, но не успел я и слова произнести, как кто-то кинулся на меня сзади и крепко обнял, прижавшись к моей спине.
Моё спокойствие как ветром сдуло. "Как же так! – мысленно воскликнул я. – Он не должен быть здесь".
Я сделал попытку обернуться, и обнимающий разомкнул объятия, но разомкнул лишь затем, чтобы снова сомкнуть – теперь спереди. И прижаться щекой к моей щеке, которая уже много дней не знала бритвы.
Мне всё же удалось оторвать от себя этого безумца:
– Милко, зачем ты здесь?
– Чтобы с тобой быть, – просто ответил он.
– Но ты же понимаешь, что для тебя это очень опасно. Если султан поймёт, кто ты для меня...
– Господин, тебе надо беспокоиться о другом, – перебил Милко, усаживая меня на софу и садясь рядом. – Султану нет дела до тебя, потому что он восхищён твоими детьми. Почти влюблён в них обоих. Я не думал, что такое бывает, ведь им всего-то по десять лет, но он так на них смотрит... Это ни с чем не спутать. А останавливает его только то, что он боится потерять их расположение. Султан наговорил им всякой лжи, что ты уехал по делам, но скоро приедешь. Он не сказал им, что держал тебя в крепости. Я и сам не знал, пока не пришёл сюда и не поговорил с твоими слугами. Но теперь не могу рассказать твоим детям правду, потому что к ним никого не пускают. Так султан приказал.
– Но почему ты сам здесь? – продолжал спрашивать я. – Вместо тебя должен был приехать Стойка.
– Он не захотел, – ответил Милко, – Вернее, замешкался, а дальше было поздно.
– Не понимаю.
– Когда в Джурджу приехали люди султана, то сразу спросили: "Где дети Раду-бея?" Им показали. Тогда люди султана спросили: "А где слуга Раду-бея, поставленный за ними присматривать? Нам велено взять с собой его тоже". Стойка, когда услышал это, растерялся, ведь понимал, что ничего хорошего от поездки не жди. А я, пока он молчал, быстро выступил вперёд и сказал: "Это я слуга Раду-бея". Потому что понял – если скажу так, меня отвезут к тебе, а мне это и было нужно. Мне всё равно, что со мной здесь может случиться. Главное, что с тобой буду. А Стойка правильно задумался, надо ли ехать. Ничего он здесь сделать не сможет. Так зачем ему здесь быть?
Я вспомнил ту ложь, сказанную султану: мои дети находятся под присмотром слуги, который, если сможет, привезёт их в Турцию, а если не сможет, но увезёт на север, в Венгрию, потому что раньше они находились в монастыре на севере.
Раз уж Милко назвался тем самым слугой, следовало выяснить, устраивался ли ему допрос. Догадался ли кто-то подтвердить слова Басараба, уличившего меня во лжи. Ведь, если допроса не было, я мог сейчас научить Милко, что говорить. Мелькнула мысль: "Может, нам всё же удастся выкрутиться? Может, сумеем сбежать все вместе прямо из дворца, ведь если Мехмед решит, что я не лгал ему, то уберёт от моих покоев стражу".
– Султан говорил с тобой? – спросил я.
– Да, – ответил Милко. – Говорил через толмача. Спрашивал, почему твои дети находились в Джурджу и не были отправлены в Истамбул. Я понял, что что-то не так, но не знал, как отвечать, поэтому ответил, что Джурджу и Истамбул – турецкие владения, и раз уж твои дети находятся в этих владениях, то нет большой разницы, где именно. Турецкая сила везде защитит. Не знаю, почему, но султану понравился этот ответ.








