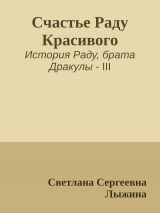
Текст книги "Счастье Раду Красивого (СИ)"
Автор книги: Светлана Лыжина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
– Ты злишься на них? – спросил я, по-прежнему думая о своём.
Милко закусил губу, как иногда делают, чтобы сдержать непрошенные слёзы, и ответил:
– Нет, не злюсь, но мне обидно. Обидно не из-за того, что они прогнали меня, а из-за того, что сделали это по чужому указанию. Если б они сами не хотели со мной водиться, я бы легко смирился, но они отвергли меня потому, что им сказали, что так нужно сделать. Так ведь нельзя! – голос его дрогнул. – Что же тогда значит привязанность, если всякий человек со стороны может сказать "забудьте друг друга", и его слово решит всё?
Я вдруг подумал о том, что если не хочу брать на себя лишний грех, то мне следует отослать этого юношу обратно в монастырь, подальше от себя, чтобы не соблазняться. А Милко не понял бы этого. Он мог бы сказать: "Ты отсылаешь меня не потому, что сам хочешь, а потому что боишься осуждения. Но так же нельзя!"
Меж тем этот юноша снова заговорил о моих воспитанниках, о которых я продолжал беспокоиться:
– А при твоём дворе дети не таковы, государь. Они добрые, надо мной не смеются даже втайне, хоть и смотрят на меня не как на старшего. Я для них будто младший товарищ, который не всё знает о том, как тут принято делать. Они мне подсказывают. Они хорошие.
Я невольно улыбнулся, гордый за своих воспитанников, но тут же нахмурился, задумавшись о том, что может означать для Милко слово "хорошие". Следовало это прояснить... И вдруг мой писарь спросил:
– Господин, ты хочешь прогнать меня, потому что тебе кто-то что-то на меня наговорил?
Я даже вздрогнул от этой прямоты:
– А кто мог мне на тебя наговорить? И о чём?
Милко смутился и вдруг заговорил так простодушно, что ему невозможно было не верить:
– Твой младший повар говорит, что я украл на кухне половину мясного пирога и бутыль с вином. Но я не брал.
– И это всё?
– А старшая прачка до сих пор утверждает, что я однажды, проходя мимо, задел ногой скамейку, на которой стояла корзина с бельём. Так задел, что ножка подломилась, корзина кувыркнулась, половина белья оказалась на земле, и пришлось перестирывать. А это не я. Ножка подломилась сама. И на заднем крыльце в дождливую погоду лестница всё время затоптанная тоже не из-за меня.
Я расхохотался. До чего же мелкие оказались у моего писаря прегрешения! А я судил по себе и потому решил, что у него есть мысли, которых у него не было.
– Успокойся, – наконец произнёс я сквозь смех. – Никуда тебя не отошлют.
* * *
В Эдирне я остановился на ночлег в гостевых покоях султанского дворца, поскольку имел на это право и не собирался им пренебрегать.
Турецкая конная охрана, которая продолжала сопровождать меня и моих людей, способствовала тому, чтобы внешние дворцовые ворота распахнулись передо мной почти сразу, и чтобы дворцовый чиновник, встретивший меня, сразу же доложил обо мне своему начальнику.
Дворец был необитаемым, если не считать одну из жён султана, Мюкриме-хатун, которая жила на женской половине. Когда-то очень давно Мехмеду пришлось жениться на Мюкриме по политическим причинам, но она почти сразу сделалась у него нелюбимой женой. Не знаю, заслуженно или нет, но он называл её бесплодным полем и образцом лицемерия, а когда настала пора перевозить гарем из Эдирне в новый дворец в Истамбуле, Мехмед не без удовольствия объявил, что Мюкриме-хатун с ним не поедет.
Напрасно эта женщина слала ему в Истамбул слёзные письма с просьбой изменить решение. Вот уже несколько лет она доживала свой век в Эдирне и ещё при жизни стала чем-то вроде призрака местного дворца, но слуги не боялись её и даже придумали о ней шутку. Когда по пустым коридорам и комнатам вдруг проносился сквозняк, челядь с улыбкой говорила:
– Это Мюкриме-хатун вздыхает.
Шутку тихо пробормотал и дворцовый слуга, провожавший меня и моих людей в гостевые покои на султанской половине. Оказалось, что все покои свободны – ни один важный столичный чиновник или турецкий вассал в этот день не проезжал через Эдирне, – и потому мне предложили выбрать любые, которые покажутся наиболее удобными.
При желании я мог бы занять даже те, где жил много лет назад, когда являлся мальчиком Мехмеда, но я не захотел, пусть эти комнаты и считались одними из самых лучших. Вдруг пришло опасение, что на старом месте меня одолеют такие печальные воспоминания, что я до утра не смогу заснуть, а в дороге бессонница крайне нежелательна, даже если провести без сна всего одну ночь.
И всё же мне не удалось избежать печальных мыслей, потому что я понял, что моя тайная надежда не оправдалась – в Эдирне мне не суждено случайно встретиться с Ахмедом-пашой и путешествовать с ним бок о бок из старой столицы в новую, как когда-то.
Чтобы хоть немного себя утешить, я выбрал для ночлега именно те покои, в которых Ахмед-паша останавливался в ту осень, когда нам случилось стать попутчиками. Я прекрасно помнил, как мы повстречались перед дверями этих самых покоев, разговорились и решили, что наутро поедем в Истамбул вместе. А теперь мне было бы приятно лежать в темноте и гадать, о чём мог задумываться визир-поэт, когда ночевал в той же комнате.
Увы, но напрасно я надеялся, мои мысли примут подобное направление. Стоило только моим слугам приготовить меня ко сну и выйти прочь вместе со светильниками, как я почувствовал дуновение ветерка, чуть слышно задребезжало одно из стёкол в старой оконной раме, зашумели ветви деревьев в маленьком саду за окном, и мне невольно подумалось: "Это вздыхает Мюкриме-хатун".
Я не смог улыбнуться, потому что сделалось тоскливо. Вдруг подумалось, что у меня сейчас много общего с этой женщиной, которую я никогда не видел и не увижу. Мне и не надо было её видеть, чтобы понимать: она принадлежала к ушедшей эпохе. Как и я.
Каждый год я приезжал к султанскому двору и видел там много новых лиц, а прежних становилось всё меньше! Я видел, что новые люди уже успели друг с другом познакомиться, а меня они не знали и многие даже не слышали обо мне.
Течение жизни менялось, и теперь эта река текла мимо меня. Я хотел плыть вместе со всеми, но не мог. Стоило вовлечься в водоворот турецкой придворной жизни, как уже наставала пора отправляться обратно в Румынию, и, отправляясь, я уже заранее знал, что на следующий год увижу ещё меньше знакомых лиц.
Мне вдруг стало ужасно досадно, что великим визиром теперь являлся вовсе не Махмуд-паша, а Исхак-паша, пусть мне хорошо был известен и тот, и другой. Пребывание Махмуда-паши на посту великого визира вполне можно было назвать эпохой, и почти все годы этой эпохи я являлся мальчиком Мехмеда. И вот эта эпоха закончилась, как и период, когда я "повелевал" сердцем султана.
Закат эпохи Махмуда-паши и закат моего своеобразного "правления" пришлись на одни и те же годы. Я отлично помнил пышную церемонию, прошедшую во дворце в Эдирне, когда Мехмед решил посадить меня, своего мальчика, на румынский трон, то есть удалить от себя, хоть и с почестями.
Официально всё было обставлено так, будто султан внял моей смиренной просьбе о помощи в получении власти, и вот Махмуд-паша и Исхак-паша подвели меня к трону своего повелителя, официально представили, а затем хлопотали за меня.
Затем, уже во время похода, я заметил, что между Махмудом-пашой и Исхаком-пашой существует соперничество. Исхак-паша стремился стать великим визиром, а Махмуд-паша, занимавший этот пост, всеми силами доказывал, что более полезен на своей должности, чем его соперник.
И вот соперник победил, а Махмуд-паша оказался смещён не только с должности великого визира, но и с поста бейлербея Румелии – начальника над всеми европейскими землями Турции. Опальный вельможа получил приказ не появляться при дворе без особого дозволения, и мне было жаль, что так случилось. Ещё одно знакомое лицо исчезло из вида!
Конечно, я помнил, как десять лет назад Махмуд-паша увёл из моих земель много румын и обратил в рабов. Такое прощать не следовало, однако мне было жаль. И не только потому, что я хорошо знал этого человека, но и потому, что я мог бы использовать свои знания, а теперь они стали бесполезны.
Если бы в тот год, когда Штефан разорил Брэилу, бейлербеем Румелии всё ещё оставался Махмуд-паша, наверное, я бы всё-таки сообразил предложить туркам пограбить южные молдавские земли, и Махмуд-паша наверняка бы согласился. Он всегда был рад пограбить, и его жадность обернулась бы мне на пользу, но, увы, к тому времени он уже находился в опале.
Кто знает, как повёл бы себя новый румелийский бейлербей в ответ на моё предложение. Возможно, обратился бы за советом к Исхаку-паше, а Исхак-паша был не слишком жаден и более осторожен, чем Махмуд-паша, поэтому наверняка обратился бы за советом к султану. А что сказал бы Мехмед?
Даже если бы он позволил, это было бы унизительно для меня – хлопотать о возможности совместных действий вместо того, чтобы вести переговоры с Махмудом-пашой почти на равных. Возможно, поэтому мысль сговариваться с турками не пришла мне сразу. Когда Штефан разорил Брэилу, я оказался унижен, и не хотелось испытывать ещё большего унижения – напоминать себе, насколько зависишь от турок.
"И сейчас ты тоже унижаешься, отвозя дань, – сказал я себе. – И все привилегии, подобные праву ночевать во дворце, это лишь насмешка".
Хотелось не думать о таком, но я не знал, как перестать.
* * *
В ту ночь в покоях старого дворца в Эдирне я не мог заснуть, ворочался, а в голове кто-то будто повторял: "Ты одинок. Совсем одинок, потому что тебе не с кем пережить эту тоскливую ночь. Не с кем побеседовать так, чтобы ничего не утаивать и даже не задумываться о том, что можно говорить, а что – нет".
Хотелось подняться с постели, выйти в соседнюю комнату, разбудить одного из слуг и сказать: "Принеси вина".
Я представил, как голова начнёт приятно кружиться. Пусть вино и не помогло бы забыть о чувстве одиночества, которое вдруг набросилось на меня, но если б я выпил вина, то стало бы всё равно. Я мысленно произнёс бы: "Мне никто не нужен", – и поверил бы самому себе, а затем уснул. Но это оказался бы заведомо ошибочный путь. Успокаивать себя вином – верное средство растерять всю оставшуюся красоту в течение следующего года или даже полугода.
Мне вдруг подумалось, что Мюкриме-хатун, живой призрак этого дворца, наверное, пристрастилась к вину, и как раз поэтому Мехмед решил, что больше не хочет её видеть. Во дворце её не видел вообще никто из посторонних, а когда султанская жена всё-таки выходила на люди, то прикрывала лицо, а под полупрозрачным покрывалом трудно было заметить, как черты оплыли от вина.
Мне не хотелось становиться живым призраком прежнего Раду. Но как же тогда заглушить тоску одиночества?
Я перебрал в памяти всех, кому когда-либо хотел довериться и рассказать о себе правду. Ведь именно такой правдивой беседы я теперь желал.
Как ни странно, поначалу мне вспомнился старший брат Влад, ведь в прежние времена я собирался рассказать всё ему, но так и не собрался. А ещё я вспомнил одного молодого турка, с которым познакомился почти случайно. Мы быстро сблизились, регулярно встречались по ночам, но вскоре расстались.
Представив рядом с собой кого-нибудь, я начал бы воображаемую беседу, и она помогла бы мне почувствовать себя лучше. Однако из моей затеи ничего не вышло, потому что те, кого я вспоминал, начали меня раздражать.
Когда мне представлялось знакомое лицо, хотелось крикнуть: "Зачем ты пришёл!? Я давно тебе безразличен, ведь мы не виделись слишком долго! Уходи. Мне уже не о чем с тобой говорить".
Затем я обратился памятью к недавним дням. Вспомнились пять или шесть молодых монахов из разных монастырей, заподозренные мною в особых склонностях, но догадки остались догадками. Вспомнился Милко... и даже мальчик, который перевозил меня на лодке через Дунай.
К сожалению, эти лица, виденные недавно, тоже раздражали, потому что в недавнем прошлом я так никому и не доверился. Лишь подумывал о такой возможности, но неизменно приходил к выводу, что это рискованно, а теперь мне хотелось сказать каждому, кого я вспомнил: "Глупо доверяться тебе. Я не уверен, что могу полагаться на твоё молчание. А что если ты нечаянно проговоришься о моих тайнах и погубишь меня? Вот сейчас выболтаю тебе всё, а затем буду мучиться страхом и проклинать себя за временную слабость".
После таких мыслей мне расхотелось откровенничать даже в воображаемой беседе, но тут память подсунула ещё один образ.
Представилось, что на краю моей постели сидит юноша семнадцати лет, полностью обнажённый, и играет на свирели, а нежный облик во всём соответствует поэтическим идеалам красоты. Этот красавец был тонкий и гибкий, белокожий, волоокий, с пышными тёмными кудрями, которые обрамляли лицо, как лепестки обрамляют сердцевину цветка.
Юношу я встретил в Истамбуле в одном из заведений, которые появились там вскоре после того, как в город окончательно переселился султанский двор.
Подобные заведения давно распространились по всем крупным городам Востока, а я узнал об этом ещё много лет назад, когда начал по велению Мехмеда изучать восточную поэзию. Мне объяснили, что в стихах упоминание о виночерпии – это упоминание таверн, где правоверные вопреки запретам пили вино, а юноши-виночерпии, угощая гостей, ещё и торговали своим телом.
В стихах эти отношения назывались "любовь", но такая "любовь" была возможна лишь с позволения хозяина таверны, которому юные виночерпии (порой совсем мальчики) отдавали наибольшую часть заработанного.
Много лет назад, изучая поэзию, я не думал, что столкнусь с этим лицом к лицу. В Эдирне таких заведений не встречалось. Даже не знаю, почему. Возможно потому, что когда султанский двор находился в Эдирне, слухи об особых пристрастиях Мехмеда ещё не успели дойти до заинтересованных лиц. Но со временем, когда стало понятно, что Мехмед не только имеет особые склонности, но и подбирает себе окружение под стать, всё изменилось. Изменилось с переездом двора в Истамбул.
Назначение Ахмеда-паши на должность визира почти совпало с переездом в Истамбул. Выдвижение Хасс Мурата-паши тоже случилось примерно тогда же. И появились многие другие люди, с которыми я не был знаком. Ими Мехмед окружал себя на пирах и без стеснения поверял этим придворным свои мысли, а его откровенность привела к тому, что кое-кто понял: если устроить в Истамбуле невиданное прежде заведение, рассчитанное на богатую и очень богатую публику, то клиентов окажется достаточно, и затраты окупятся. Главное, чтобы заведение понравилось Мехмеду.
И вот однажды некий придворный из ближнего круга сообщил султану новость... Я не присутствовал при этом, хоть и находился в те дни в истамбульском дворце, в очередной раз привезя дань. А Мехмед вскоре после получения новости позвал меня и сказал, что мы вместе идём в город, дабы посмотреть на таверну, которая заслуживает внимания. И упомянул о виночерпиях.
– Меня уверили, что там всё, как в стихах. Надо это проверить. И я подумал, что моим товарищем в этом деле должен стать ты.
Я поклонился в ответ, мысленно отметив, что привычки Мехмеда не меняются: "Он всё так же не спрашивает моё мнение и потому не осведомился, хочу ли я идти", – а султан меж тем облачился в одежду попроще, и мы с ним в сопровождении нескольких десятков воинов, также переодетых, вышли из ворот дворца.
По дороге, оглядываясь по сторонам и слушая шум улиц, я в который раз подумал, что Константинополис, став Истамбулом, с каждым годом всё больше походит на восточный город. Теперь из окон многих домов свешивались пёстрые ковры, перекинутые через подоконник, а по улицам ходили торговцы с бурдюком за спиной, продававшие прохожим воду – невиданное дело в европейском городе! В цирюльнях, располагавшихся где-нибудь под навесом у входа в общественную баню, клиенты брили не только подбородок и щёки, но и голову. Эти клиенты одевались по-восточному, как и многие в Истамбуле. Прохожих, одетых по-европейски, встречалось всё меньше.
Нужная нам таверна сразу обращала на себя внимание просторной застеклённой террасой на втором этаже. А на первом сразу привлекало взгляд широкое крыльцо, ведь там, возле двустворчатых деревянных дверей стоял молодой и хорошо одетый слуга, который, как только понял, что мы хотим зайти, сразу поклонился и отворил одну из дверных створок.
Пусть султан не велел никого предупреждать о своём приходе, но, как только мы оказались внутри заведения, в просторном, но полутёмном коридоре, стало ясно, что нас ждали: тут же появился седоусый хозяин таверны, которого сразу можно было опознать по отсутствию халата и связке ключей на поясе.
Поприветствовав "дорогих гостей" низким поклоном и старательно делая вид, что не узнаёт султана, хозяин тут же осведомился, который вид из окон нам предпочтительнее: на улицу или в сад. Услышав от Мехмеда "на улицу", старик повёл нас наверх, по широкой деревянной лестнице, устланной дорогим красным ковром. Ворс делал шаги неслышными, и даже ступени не скрипели под ногами, словно обещая, что всё, могущее произойти в этих стенах, останется тайной.
На втором этаже был ещё один полутёмный коридор со множеством дверей. Хозяин отпер одну из них и, приоткрыв её, снова поклонился:
– Здесь очень удобно. Сейчас вам принесут вино.
Обстановка в комнате оказалась роскошная, но не турецкая. Ковры на стенах и на полу явно были персидской работы, поскольку рисунком очень напоминали тонкий цветочный узор персидских книжных миниатюр. Рисунок на подушках, украшавших мягкие широкие сиденья вдоль стен, тоже напоминал о Персии, а резные столики, сундуки и шкафчики наводили на мысль о далёкой Индии.
Только успели мы с Мехмедом усесться, как в комнату вошли двое красивых темноволосых юношей с серебряными подносами в руках. На каждом подносе – серебряный кувшин, пиала и блюдо с фруктами.
Вот, что имел в виду хозяин, когда сказал "сейчас вам принесут вино", но главным во всём этом действе было, конечно, не вино, а красивые виночерпии.
Тот, что повыше ростом, выглядел лет на семнадцать, а тот, что пониже – лет на шестнадцать, и именно на этого, более юного, обратил внимание Мехмед, а виночерпий, поймав заинтересованный взгляд, сразу двинулся к султану. Так и получилось, что другой, семнадцатилетний, достался мне.
Оба юноши очень плавно, будто танцуя, опустили свои подносы на круглые резные столики. Один из столиков располагался ближе к Мехмеду, другой – ближе ко мне, так что наблюдать сразу за обоими виночерпиями стало трудновато, и всё же было заметно, что они действовали очень слаженно, словно исполняли один танец. Красиво изгибаясь, виночерпии одновременно наполнили пиалы и так же одновременно каждый, шагнув к "своему" гостю, с поклоном подал напиток.
Мехмед, не считая нужным себя сдерживать, правой рукой принял пиалу, а левую положил своему виночерпию на талию. Юноша сразу же сел слева от гостя, положил голову ему на плечо, затем вдруг отпрянул, будто испугавшись собственной смелости, но в ту же секунду простодушно, почти по-детски заглянул Мехмеду в глаза. Султан улыбнулся, и лицо юноши в ответ расцвело улыбкой.
Мехмед аж рассмеялся от удовольствия, потому что такой понятливости и покорности не встречал даже у своих юных пажей. Он пригубил вино, а левая рука всё так же оставалась на талии виночерпия.
– Как тебя зовут? – спросил султан, но теперь на лице юноши отразилось замешательство.
Тут мне пришло в голову, что персидские ковры вокруг, как и полосатые персидские халаты виночерпиев, это подсказка.
– Мой друг спрашивает, как тебя зовут, – произнёс я на персидском.
Шестнадцатилетний красавец снова принялся мило улыбаться и назвал имя.
Султан опять засмеялся:
– Верно, верно, Раду, – сказал он сквозь смех. – С этими ангелами и говорить надо по-особенному.
Затем Мехмед заметил, что второй "ангел" уже успел присесть возле меня, но не слишком близко, а вид у "ангела" озадаченный.
Я тоже понял свою оплошность, ведь, наблюдая за Мехмедом, совсем забыл, что должен ему подражать. Мне следовало приветливо улыбнуться одинокому "ангелу" и велеть, чтоб подсел ко мне поближе.
Тот охотно повиновался, я обнял его за талию, повторяя за султаном, но вдруг с удивлением и даже недоумением почувствовал, что во мне совершенно отсутствует желание. "А ведь уйти нельзя! – мелькнула мысль. – И отказаться от удовольствий этого заведения нельзя. Султан рассердится и скажет, что ты не ценишь оказанной чести".
Семнадцатилетний "ангел" тоже понял, что я обнимаю его не по собственной воле. Он явно оскорбился, потому что его тело, только что такое податливое, на мгновение стало почти каменным и как будто говорило: "Как ты смеешь не восхищаться мной!"
Меж тем султан поднял пиалу:
– Давай выпьем, мой друг Раду, за этот чудесный день и не менее чудесный вечер, который за ним последует.
"Только бы Мехмед не решил, что нам надо предаваться утехам в присутствии друг друга", – подумал я, а султан меж тем начал цитировать чьи-то персидские стихи:
О, виночерпий! Я горю! Налей вина! Налей!
Дай мне испить из алых уст, что лепестка нежней!..
– Как там дальше, Раду? Ты помнишь? – спросил Мехмед.
Это было что-то очень знакомое, но вспомнить мне никак не удавалось. И вдруг виночерпий, которого я продолжал нехотя обнимать, произнёс:
От жажды умираю я. Спасенье лишь одно -
Целебный мёд свежайших уст отведать поскорей.
– Да, да, верно, – сказал Мехмед, не сразу сообразив, что это произнёс не я, а меж тем виночерпий, насмешливо взглянув на меня, изрёк всё так же по-персидски:
– Кажется, это персидский перевод арабского стиха*.
* Автор цитируемого стихотворения – Башшар ибн Бурд (714-783 гг.).
И он прочёл те же строки по-арабски.
– Да тебе цены нет! – воскликнул султан.
– О нет, господин, – нарочито смутившись этой похвалой, произнёс виночерпий на персидском языке. – Цена есть и вполне умеренная. Многие, – он сделал особое ударение на этом слове, – клялись мне, что заплатили бы больше, если бы было необходимо.
Семнадцатилетний юноша взглянул на меня из-под пушистых ресниц уже не насмешливо, а снисходительно, будто сейчас доказал, что сам умнее, чем я. И заодно показал, как его все ценят. Дескать: "Если ты не хочешь меня, то причина уж точно не во мне".
Он был по-своему прав – причина была во мне, но снисходительный взгляд намекал, что причина у меня позорная. Этот "ангел" таверн хотел бы считать, что Раду просто бессилен. Снисходительный взгляд и чуть скривлённый краешек губ очень красноречиво говорили об этом: как видно, у господина "тростниковое перо" уже никуда не годится, совсем истрепалось и из него не способен выжать ни капли "чернил" ни один красавец. Есть ли ещё причина, чтобы не желать того, кого все желают?
Я начал потихоньку злиться, а безразличие к "ангелу" постепенно сменилось отвращением. Мне вспомнились женщины из дома терпимости в греческом квартале в Эдирне. Этот дом я когда-то посещал, и женщины там тоже продавали себя, но всё же стыдились своего ремесла, хоть и старались не подавать вида. Да и я сам, когда состоял при Мехмеде, не гордился своим положением. А семнадцатилетний "виночерпий" не стыдился, а гордился! Не делал вид, чтобы сохранить остатки уважения к себе, а гордился искренне. Юный дурак! Юный образованный дурак!
Таких я прежде не встречал, а теперь столкнулся лицом к лицу с совершенно другим миром – миром, где можно испытывать гордость оттого, что продаёшь себя очень дорого, ведь даже цену, которую виночерпий назвал умеренной, конечно же, мог заплатить далеко не всякий.
"А когда этот юноша постареет, – думал я, – то будет печалиться не оттого, что его никто не любит, а оттого, что его никто не покупает. Различает ли он хоть немного одно и другое? А если спросить его об этом или попытаться объяснить, он просто рассмеётся?"
Теперь я ещё меньше, чем прежде, понимал Мехмеда, который, убрав, наконец, руку с талии "своего" виночерпия, выразительно погладил его по щеке, а затем велел ему:
– Позови мне хозяина таверны.
Хозяин явился так быстро, будто ждал за дверью, а Мехмед сделал тому знак преклонить ухо и что-то шепнул, поочерёдно указав на обоих виночерпиев.
Поначалу казалось, что я спасён, потому что Мехмед хочет купить услуги и того, и другого юноши для себя, а мне будет позволено просто удалиться, но надежда не оправдывалась. Шестнадцатилетний "ангел" довольно захихикал, и что-то в этом смехе говорило, что смеющийся вот-вот останется наедине с султаном. Наедине! А меж тем хозяин таверны обернулся ко второму своему подопечному, указал ему глазами на меня и выразительно кивнул.
После этого хозяин вышел, в очередной раз почтительно поклонившись, а Мехмед, обнимая своего "ангела" уже обеими руками, произнёс:
– Раду, давай насладимся этим днём сполна! Я и этот красавец останемся здесь, а ты со своим отправишься в другую комнату. Он тебя отведёт. Хозяин уверил меня, что она не менее удобна.
Семнадцатилетний "ангел" тут же выскользнул из моего полуобъятия и, улыбаясь теперь уже не снисходительно, а ехидно, потянул за правую руку, чтобы я поднялся на ноги.
– Ни о чём не беспокойся, – меж тем продолжал Мехмед. – Это мой подарок тебе. А когда время истечёт, он приведёт тебя сюда.
– Я и сам мог бы оплатить его услуги, – пробормотал я.
– Ты отказываешь мне в праве одарить тебя? – удивился Мехмед.
– Нет, – поспешно возразил я. – Просто вдруг подумал, что мне было бы приличнее заплатить за себя самому. Ведь мы пришли сюда как товарищи, ищущие себе удовольствий, а не как...
Наверное, зря я это сказал, потому что семнадцатилетний виночерпий вдруг окинул меня презрительным взором. Как будто хотел сказать: "А! Значит, ты – такой же, как я. Но по сравнению со мной ты – старик".
Мне захотелось огрызнуться: "А даже если и старик, тебе следовало бы уважать меня за мой опыт, а не насмехаться". Мелькнула совсем уж стариковская мысль: "Вот ведь новое поколение! Совсем не уважает старших".
На мгновение я почувствовал себя очень старым, а Мехмед меж тем добродушно хохотал:
– Было бы приличнее? Ты думаешь о приличиях в таком заведении? Ах, Раду!
– Да, это и впрямь лишнее, – хмыкнул я и позволил вывести себя прочь.
Меня повели куда-то вглубь дома. Я не разбирал дороги, потому что был сам не свой, а семнадцатилетний провожатый, иногда оглядываясь на меня, продолжал ехидно улыбаться. Даже когда он просто шёл вперёд, повернувшись ко мне спиной, казалось, что его спина ехидничает – её плавные движения дразнили меня, завлекали, но завлекали как-то слишком нагло и смело. Так смело дразнится только тот, кто уверен, что в ответ ничего не последует.
Я думал: "Если в той комнате, куда меня ведут, у меня ничего не получится, "ангел" не станет хранить тайну: расскажет об этом. Раз уж я обидел его небрежением, он решил, что имеет право мстить". Конечно, он рассказал бы! Просто чтобы посмотреть, насколько огорчится султан, если узнает, что Раду побрезговал не просто чьим-то телом, а султанским подарком. Да-да, "ангел", конечно, знал, что один из гостей таверны – сам султан.
...Комната, где я в итоге оказался, была обставлена богато, но уже не в персидском, а в турецком стиле, а окнами смотрела в сад.
Семнадцатилетний красавец, выпустив мою руку, с нарочитым смущением улыбнулся, а затем без всякого смущения начал раздеваться. Он справился со своей одеждой менее чем за минуту, а затем двинулся ко мне, молча взиравшему на происходящее.
Я продолжал удивляться, как так может быть: красивое, почти безупречное тело вызывало только отвращение. Вспомнилось расхожее поэтическое выражение о том, что красота способна ранить, как стрела или клинок, и, наверное, поэтому мне показалось, что если я прикоснусь к этой гладкой белой коже, то мои ладони покроются кровоточащими порезами.
Образ боевого клинка дополнился воспоминаниями о войне, которую я никогда не любил – войне, где много убитых. Откуда-то потянуло тошнотворным запахом протухшего мяса. Так несёт с поля боя в жаркий день. Так пахнут мёртвые тела, пролежавшие неубранными больше суток. И так же несёт из мясной лавки, которая, возможно, находилась где-то по соседству с таверной, гостем которой я стал.
Мне подумалось: "Эта красота ранит не как боевой клинок, а как нож мясника, у которого каждый день полно работы. Многих покупателей надо обслужить. Многих. А этот юноша уже пропустил через себя не одну сотню клиентов (не менее одного в день, пока не оказался в Истамбуле), и вот теперь я должен примкнуть к этой веренице, потому что Мехмед велел. Это не подарок, а очередное унижение!"
По сути, сейчас должно было состояться состязание, призванное выяснить, кто из нас (я или этот юноша) более опытная шлюха. Если б я не смог заставить себя "наслаждаться" чужим телом, то получилось бы, что виночерпий победил, сумел окончательно убить во мне всякое желание, формально оставаясь привлекательным. Пусть поначалу он стремился мне понравиться, но позднее, обидевшись, делал всё, чтобы исподволь оскорбить меня, а ведь так оскорблять – особое искусство, и владеют им только опытные шлюхи и лицемеры. Вот и сейчас этот юноша смотрел на меня, будто говоря: "Давай, стань одним из многих". Сомнительное удовольствие.
Казалось трудно решить, что лучше – проиграть в состязании шлюх или выиграть, – но здравый смысл твердил, что надо выиграть, а меж тем семнадцатилетний красавец протянул ко мне руки, чтобы помочь раздеться. Мелькнула мысль: "Не позволяй ему определять течение событий", – поэтому я взял его за плечи, развернул в сторону софы, стоявшей посреди комнаты и чуть подтолкнул в спину:
– Обопрись о сиденье.
Мой многолетний опыт притворства, когда приходилось несмотря ни на что побеждать в себе неприязнь и делать то, что требуется, в итоге помог. Я напомнил себе о скрытых желаниях, которые одолевали меня в Румынии, и, стараясь не быть насмешливым, мысленно предложил своему телу: "Давай. Ведь это почти то, чего ты хотело. Разве нет? Он безусый, красивый. Да, восторга во взгляде этого красавца ты не увидишь, и любви тем более не увидишь, но это лучше чем ничего. А если откажешься, то другой возможности ещё долго не представится".
В итоге моё тело повело себя, как нужно, и я облегчённо вздохнул, когда понял, что теперь никто не сможет сказать, будто подарок мне не понравился.








