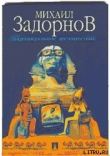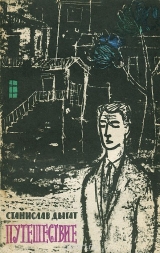
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Генрику было стыдно и досадно, что он не знает, какой звук издает межпланетная ракета, что вообще ничего не знает об астрономии и о законах движения межпланетных кораблей. Недавно он прочитал что-то об этом и так увлекся, что ни о чем другом не мог думать несколько дней. Он решил основательно, как настоящий профессионал, заняться астронавтикой. Но это решение, как и многие другие, затерялось где-то среди мелких, злых мелочей повседневности. Нет уж, на этот раз, как только окончится это дурацкое и ненужное путешествие, он займется астронавтикой всерьез.
А если бы оказалось, что на Марсе говорят по-польски?
Вот было бы удивительно – существа, населяющие Марс, говорят по-польски! Бесконечность имеет бесконечное количество случайностей, может произойти и такая. Конечно, это ни в коем случае не поляки. Не может быть и речи ни о каких кракусках (головной убор жителей Краковского воеводства) или кунтушах, о медальонах с ченстоховской божьей матерью или о бело-красном флаге. Ни о чем этом не может быть и речи, ибо существа, населяющие Марс, вообще не имеют сходства с людьми. Это огромные муравьи, которые ходят, как медведи в цирке – на задних лапах, все обычаи у них марсианские, только говорят они по-польски. У них очень высокая цивилизация, высокий уровень науки и техники, и если они до сих пор не приезжали на Землю то исключительно по тем же самым причинам, по которым жители Парижа или Нью-Йорка до сих пор не приезжают в Серадз. Ученые-земляне после многих трудов и опасностей с триумфом высаживаются на Марсе, но никак не могут объясниться с марсианами. Те приветствуют их самым сердечным и вежливым образом:
– Просим! Просим!
– Гость в дом – бог в дом.
– Чем богаты, тем и рады.
– Доброго здоровья!
И тому подобное. Никто из ученых ничего не понимает, ведь среди них нет поляков. Но советские ученые различают отдельные слова и с удивлением переговариваются между собой.
– Так они же говорят на языке, очень похожем на наш!
И наконец профессор Рандольф Катц из Колумбийского университета восклицает:
– Коллеги! Да ведь они же говорят на чистейшем польском языке!
– Да что вы, господин профессор?
– Я вас уверяю! На этом языке я говорил в детстве, и хотя его уже забыл и объясняться не смогу, но все-таки язык это святой, польский, я узнаю его даже на Марсе.
Все с недоверием качают головами. Но советские ученые уже начинают разбираться.
– Нам кажется, что коллега Катц и на этот раз прав и что эти существа, действительно говорят по-польски.
Вся экспедиция садится на межпланетный корабль и опускается в Варшаве. Хватают первого попавшегося прохожего, скромного министерского служащего, в тот момент очень озабоченного земными хлопотами, и стремительно мчат на Марс. Марсиане приветствуют его, как родного, оказывают ему всяческие почести, заметно отличают его среди всех остальных, хотя он всего лишь скромный министерский служащий; в итоге среди ученых-землян начинаются разговоры, недовольство и даже интриги. Но что они могут поделать? Без скромного варшавского служащего самые умные головы не смогут обойтись во вселенной.
Он лопочет с марсианами на своем польском языке, похлопывает их по плечу, расцеловывает их, пьет какие-то неземные ликеры, а потом все переводит на немецкий, которому научился во время оккупации.
Марс.
Он кружится где-то над Генриком, мчащимся по земным просторам в железной коробке. Есть ли там на самом деле живые существа?
А если есть, то знают ли они, что такое слезы, печаль, тоска?
Может быть, в эту минуту на Марсе какое-нибудь опечаленное, встревоженное существо мчится в какой-нибудь повозке и думает о нем, о жителе Земли.
Генрик почувствовал вдруг, как сжалось у него сердце—сжалось не от печали, не от радости, сжалось от какого-то непонятного чувства, которое охватывает нас, когда мы погружаемся в дремоту и вдруг нас посетит какая-нибудь необычайная мысль или мы вдруг совсем в необычном свете увидим то, что нам кажется совсем обычным в сером свете дня. На мгновение он испытал какое-то неизведанное, поражающее своей новизной чувство нежной любви к далеким, неизвестным существам с других планет. Но это чувство блеснуло, как звезда, падающая над лесом темной летней ночью, и погасло.
Генрику стало стыдно. Ведь он еще не умеет любить людей тут, на Земле.
Не время уносить свою любовь в пространство.
Марс.
Может быть, там нет живых существ, но наверняка есть растительность. Это со всей очевидностью установили ученые.
Полететь туда и сорвать первый попавшийся цветок. Потом, осторожно держа его в руке, нежно прижимая к груди, улететь с ним назад, на Землю.
– Любимая! Посмотри! Ты первая земная девушка, которая получила цветок с другой планеты. Цветок неизвестной формы, неизвестного цвета и запаха.
Любимая?
Но где она?
Где та девушка, ради которой ты готов улететь на Марс и сорвать цветок неизвестной формы, неизвестного цвета и неизвестного запаха?
Она блуждает где-то, неведомо где, в туманных пространствах, менее реальная, чем Марс и Земля, чем цветы на Марсе и даже чем говорящий по-польски марсианский муравей.
Виктория вывела Генрика из лагеря в Прушкове. Генрик чувствовал себя немного глупо. Позволить, чтобы тебя вывела из лагеря девушка, которая тебе нравится, с которой ты только что познакомился, не очень-то приятно. Тебя ждет унижение, презрение, может быть, осмеяние. В равной мере ждет и ее. А нет, пожалуй, на свете ничего хуже для зарождающегося между двумя молодыми людьми чувства, чем унижение и презрение в соединения с издевательством. Но ничего такого не произошло. Виктория показала при выходе подделанный пропуск для препровождения больного в больницу, и через минуту Генрик оказался на свободе. Он стоял, глядя с улыбкой на переливающиеся осенним блеском поля и луга, и словно забыл о своей освободительнице. Она стояла поодаль, и оса, жужжа, кружилась около ее носа. В том году даже поздней осенью на окраинах Варшавы летало множество ос. Они жужжали совершенно так же, как ружейные пули.
Виктория была, может быть, немного удивлена, что человек, который обязан ей свободой, перестал ею интересоваться, залюбовавшись далекими горизонтами, и хотела как-то обратить на себя внимание, но боялась, что ее укусит оса, и потому стояла не шевелясь, молча и только искоса посматривала на Генрика.
– Пусть вам не кажется, – сказала она холодно и строго, когда оса отлетела, злобно жужжа,– что сейчас вы будете делать все, что захотите. Вы действительно пойдете в больницу.
– Но...
—Я сказала: вы пойдете в больницу.
– Но вы же мне сменили повязку и сказали, что нет ничего страшного.
Решительность и проявление воли без всякой разумной цели Генрик в дальнейшем относил к самым неприятным недостаткам Виктории. Но в тот момент ее решительность и упорство показались ему очаровательными. Он подошел к Виктории. Давно не приходилось ему прикасаться к чему-то столь чистому и опрятному. От нее пахло накрахмаленным полотном и лавандой. Он взял ее руку и поцеловал. Это был поцелуй, полный уважения и благодарности, но в этих чистых и достойных знаках уважения трепетала сдерживаемая нежность.
Виктория высвободила наконец свою руку, мягко, но решительно.
– Идемте,– сказала она уже нетерпеливо и резко, как строгая женщина, которая сердится, что позволила себе минутную слабость, и возвращается к своим трудным обязанностям.—Идемте же наконец.
– Куда? Мне некуда идти.
– Вы пойдете в больницу. Ведь я уже сказала. Виктория долго сердилась и обижалась без всякого, разумеется, повода. Наконец ей самой это надоело. Особенно если учесть, что солнце светило ослепительно, мир вокруг был по-особенному красочным, а присутствие этого парня как-то приятно ее волновало. Поэтому, когда он, не обращая внимания на ее резкость, спросил:
– Хорошо, хорошо, но как вас все-таки зовут?
Она сразу же ответила, слегка жеманничая:
– Виктория.
А когда он рассмеялся, она тоже рассмеялась, хотя и не знала над чем.
—Значит, это в вас все влюблены! – крикнул он, как бы торжествуя.
Она сразу же сделалась серьезной, придала своему лицу выражение строгое и решительное, убежденная, что он хочет над ней поиздеваться. Но не могла уже освободиться от охватившей ее нежности. Она утратила свою неприступность, смутилась и еще не понимала, что всякие дальнейшие рассуждения об этом несовместимы с ее строгостью и серьезностью.
– О чем это вы? Не понимаю...
– Ну как же! Виктория! Победа! Ведь на всех заборах и стенах написано ваше имя.
– Ах! – засмеялась она с облегчением, хотя и после минутного колебания. Шутка была принята благосклонно.
Что делают в эту минуту коллеги из министерства? Генрик никогда ими не интересовался, держался от них подальше, его ничто с ними не связывало. А сейчас он вдруг подумал о них с нежностью. Совершенно так же, как о существах с далеких планет.
Который может быть час? Ему не хотелось зажигать маленькую лампочку, чтобы посмотреть на часы. Он боялся слишком резкого вмешательства яркого света в ночные, дремотные размышления спального вагона.
Должно быть, уже около полуночи. Коллеги из министерства, наверно, спят. Поужинали, прочитали газету, закончили домашние дела, починили то, что сломалось, вздохнули и пошли спать. Сейчас им снятся небывалые вещи, совершенно правдоподобные, потому что они тоскуют по чему-то реальному, правдоподобному, что тем не менее никогда не исполнится. Может быть, им снится, что они отправляются в далекое прекрасное путешествие, в страну, в которой исполняются даже самые мелкие желания средних чиновников. Может быть, они вдруг просыпаются и с ненавистью думают о Генрике, потому что судьба улыбнулась ему, так же как он сейчас думает о них с нежностью. Они прижимают к подушкам седеющие или совсем седые головы и усталые лица, с которых заботы дня стерли всякое выражение, чтобы как можно скорее возвратиться к мечтам о правдоподобных и недосягаемых вещах, что, возможно, лишь до без десяти шесть, когда начинается утренняя гимнастика.
Жены беспокойно прислушиваются к тому, как мужья мечутся во сне. Жены обладали когда-то капелькой девичьего обаяния. Сейчас они поблекли и сморщились, как печеные яблоки. Они измучены работой, им некогда даже вздохнуть. Они раздражаются по всяким пустякам, врут мужьям, иногда бросают в них чем попало, а иногда покорно позволяют бить себя и при этом тихо плачут. Все это приносит им облегчение.
Они отравляют мужьям жизнь, они не скупятся на слова презрения и унижения, но в то же время только они одни в целом мире верят свято и пламенно, что их мужья являются личностями незаурядными, одаренными исключительными способностями, что это им уготовано судьбой вершить великие деяния.
Они прислушиваются, как мужья мечутся во сне, с беспокойством всматриваются, как они во сне улыбаются. Жены не любят ничего, что происходит без их ведома и находятся за пределами их понимания.
А почтенный Чаплик, тот самый, дед которого примерял бухгалтеру Маковинскому бархатный костюмчик в детском магазине, просыпается и встает, чтобы посмотреть, не раскрылись ли во сне Славек и Хвалек. Чаплик, пожалуй, счастливее других. Постоянно читает, интересуется только литературой, и сны ему снятся только литературные. Когда у него родились близнецы, он назвал их Славомир и Хвалибуг в честь героев повести Ивашкевича, которая как раз в это время вышла.
У Чаплика миленькая, пухленькая женушка, он ходит с ней под руку, следит, чтобы она не переутомлялась, и раз в неделю покупает ей трубочки с кремом, которые она очень любит. Чаплик счастливее других. А впрочем, черт его знает.
Виктория привезла Генрика по узкоколейке в больницу в Миланувеке. Генрику не хотелось ложиться в больницу. Рана почти зажила, и вообще его больше мучила контузия, чем рана, и Генрик только слегка прихрамывал. Но Виктория решительно заявила, что могли остаться осколки, хотя Генрик упорно повторял, что пуля его только царапнула. Генрик смотрел на сжатые губы Виктории и понимал, что уговорить ее не удастся.
Он удивлялся, почему, собственно, он подчиняется деспотизму этой малознакомой ему женщины: даже в том, что она освободила его из неволи, он не видел достаточных оснований для этого. Он смотрел из окна на желтеющие в прозрачном, разреженном воздухе листья, и тогда в первый раз ему пришла в голову мысль убежать от Виктории.
Но он не убежал, его притягивала ее свежесть и опрятность, запах накрахмаленного полотна и лаванды; во все, что она делала, она вносила свой порядок, что придавало ей особенное обаяние после всех перипетий восстания.
Викторию нельзя было назвать некрасивой. У нее был тот стандартный тип красоты, который не вызывает ни беспокойства, ни удивления и порождает чувство благоговения и восхищения у мужчин, заставляя их размышлять над таинственным фактом физического и психического существования разных полов.
У женщин, для которых житейская самостоятельность является в одинаковой степени и необходимостью и вопросом самолюбия, нет времени для размышления над этим удивительным явлением. И это отнимает у их красоты то, что больше всего вызывает благоговение и восхищение мужчин. Их легко и охотно признают красавицами другие женщины в своем тесном кругу, но редко на них оглянется на улице какой-нибудь мужчина.
Виктория рано потеряла родителей. Она окончила романское отделение филологического факультета, зарабатывала уроками, а во время оккупации вела занятия в подпольных группах. У нее никогда не было ни времени, ни условий, чтобы стать по-настоящему красивой и привлекательной.
Однако красота – вещь коварная и обманчивая. Она с дьявольской злобой будто нарочно сеет между людьми недоразумения, часто неразрешимые.
В результате стечения различных обстоятельств Виктория показалась Генрику самой прекрасной из женщин, каких он встречал в жизни, так же как смешанный запах накрахмаленного полотна и лаванды показался ему самым прекрасным ароматом на свете. Быть может, если бы дальнейшие обстоятельства сложились иначе, чем они сложились, у Генрика с Викторией начался бы флирт на несколько дней или даже на несколько недель, который закончился бы чем-нибудь определенным или вовсе ничем.
Во всяком случае, в течение этих нескольких дней или даже нескольких недель Генрик мог бы разобраться в том, что Виктория совсем ему не нравится и не подходит ни с какой точки зрения. Он мог бы также убежать от нее, если бы это оказалось необходимым, как подсознательно хотелось ему это сделать уже на пути в больницу. Угрызения совести, не вплетенные в сложную сеть долголетних связей, совместных переживаний и осложнений, очень быстро проходят, потому что угрызения совести, как и большинство чувств, рождаются из любви к самому себе.
Итак, если бы все разыгралось нормально, Генрик просто влюбился бы в Викторию и затем очень быстро разлюбил бы ее.
Но обстоятельства сложились таким роковым образом, что, давая Генрику великолепную возможность влюбиться, они отняли у него возможность быстро обнаружить свою ошибку.
– У вас нет такого чувства, будто вы оставляете своего несчастного ребенка на произвол судьбы? – спросил Генрик, когда Виктория поместила его в больницу в Миланувеке.
Виктория улыбнулась.
У нее было именно такое чувство, и это доставляло ей удивительную, неведомую ей раньше радость. Она слегка похлопала Генрика по плечу.
– Ну, ну, не капризничайте. Я несу за вас ответственность. В определенном смысле, разумеется. Доктор займется вами и решит, нужно ли вам лечиться дальше. Вы здесь пробудете всего несколько дней.
– Несколько дней,– повторил Генрик язвительно.
– Ничего не поделаешь,– сказала Виктория строго, но с улыбкой.
Она знала, что помещать Генрика в больницу совершенно не нужно, но она ни за что не отказалась бы от этого нового, неизведанного чувства, которое Генрик определил как беспокойство о ребенке, брошенном на произвол судьбы.
Нет. Это не большие муравьи, и они не говорят по-польски. И не мы к ним, а они к нам приезжают первые.
Может быть, они немного похожи на людей, но несколько крупнее и с крыльями. Крылья эти не для того, чтобы летать, но зато они придают легкость их походке. Волосы у них льняные и гладкие, подстриженные спереди челкой, одеты они в грубые рубахи из дерюги, подпоясанные красивым голубым шнуром. Их речь состоит из музыкальных звуков. Наша буква соответствует у них ноте. Когда они разговаривают, кажется, что слышишь фугу Баха. После их приезда в мире необычайно возросло значение музыкантов, так как только они могли служить переводчиками и преподавателями нового языка. Самый могущественный земной политический деятель оказывался совершенно бессильным, если не имел при себе какого-нибудь музыканта. Требовались именно выдающиеся музыканты, способные улавливать все нюансы, чувствующие малейшую фальшь и дисгармонию. Один выдающийся политический деятель могущественной страны сказал:
– Если бы я мог иметь при себе Баха! Я бы всем задал перцу.
Марсиане уже давным-давно кружились над Землей, но все не решались приземлиться, так как земляне не пользуются в космосе хорошей репутацией. Иногда какой-нибудь смельчак-марсианин решался спрыгнуть с межпланетной повозки на Землю. Он легко парил среди полей, лугов и лесов, нараспев зовя людей, пока какой-нибудь мужичок не убивал выродка камнем. Отсюда, очевидно, и пошли всякие легенды об ангелах. Имеются также весьма убедительные данные, говорящие о том, что в знаменитом пястовском «пострижении» принимали участие именно марсиане.
В настоящее время марсиане отважились произвести открыто массовую высадку на Землю, исходя из соображений, что земляне все-таки достигли какого-то уровня цивилизации и примут охотно и с благодарностью помощь и наставления существ, стоящих значительно выше их во всех отношениях.
Так и произошло. Черпая данные из богатых исследований и достижений Марса как в области науки и культуры, так и в области общественной практики, пользуясь их непосредственной помощью и советами, веками мучавшимся землянам наконец удалось установить на своей планете мир, порядок, правосудие и общественное равноправие. Воцарилось неслыханное благоденствие и всеобщее счастье. Но внезапно что-то начало портиться, ясный горизонт межпланетной дружбы и солидарности покрылся тучами. Нашелся идеолог, который начал завоевывать все большее количество сторонников объявив, что все это земное счастье должно быть ликвидировано, так как оно достигнуто внеземными методами и на Земле оно недействительно. Конечно, воцарившееся в настоящее время счастье является идеалом, но нужно его уничтожить и создать заново правильным и не оскорбляющим гордость и достоинство землян способом.
Приверженцы основоположника новой идеи (который уже втайне мечтал о том, чтобы провозгласить себя Властелином Земли) начали организовывать покушения на марсиан, совершать диверсии, сеять смуту, бросать повсюду клеветнические листовки и бомбы.
И они привели мир снова к упадку, войне и анархии. Опечаленные марсиане, в отчаянии разведя руками, сели на свои межпланетные корабли и отплыли в пространство. А их разговоры, должно быть, были очень печальны, так как из заоблачных сфер плыло «Размышление» из оперы «Таис» Массне.
Генрик подумал о том, возможна ли любовь между землянином и марсианкой. Это должна быть очень чистая и возвышенная любовь.
Любовь, которую тщетно ищут здесь, на Земле.
Еще бы.
Поезд остановился на большой станции. Должно быть, Катовицы. Скоро граница. Скоро он пересечет границу. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни наступит то, о чем он мечтал всю жизнь.
Его пронизала какая-то странная дрожь. Это не был трепет радости или удивления. Просто физиологическая дрожь, озноб, охватывающий дремлющего человека, когда он осознает необычность своего положения.
Мечта Генрика исполнялась слишком поздно, когда радость уже измята и поблекла, а счастье кажется привилегией детей не старше семи лет вместе с леденцами на палочке и переводными картинками.
Мечта Генрика исполнялась неизвестно зачем в хмурую весеннюю ночь, под моросящим дождем, в металлической коробке, похожей на банку из-под сардин, с сопящим и ко всему равнодушным спутником на верхней полке.
По дороге к вокзалу они проезжали мимо гостиницы «Полония». В зале светился желтый свет, Виктория была всецело поглощена тем, чтобы скрыть свое волнение. Адама с ними не было. Он объявил, что очень сожалеет, но проводить отца на вокзал не сможет, так как вечером занят.
Виктория была взволнована, но, по-видимому, не столько предстоящей разлукой, сколько смутным подозрением, что Генрик может не вернуться. На перроне ее слегка знобило, Генрик заметил это, когда взял ее под руку. А когда кондуктор крикнул: «Прошу садиться!» – у Генрика сжалось сердце, он почувствовал дикий страх, ему стало жаль всего, что соединяло и продолжает соединять его с Викторией. Жаль не любви, ибо о ней не могло быть и речи, жаль уз более сильных – уз повседневности. Почему ему было этого жаль? Почему, если ему ни на минуту не приходила в голову мысль о том, чтобы не возвращаться из Италии и навсегда расстаться с Викторией?
Он хотел только отдохнуть от нее. Но разве можно знать, чем это кончится. А что будет, если окажется, что действительность совпадает с мечтами? Нет, нет! Ни за что, ни за что! Он едет только для того, чтобы немного отдохнуть и разочароваться. Он ничего не хочет! Хочет только разочарований. Разочарований, которые позволят ему с улыбкой превосходства и чувством полной безопасности пользоваться маленькими, обманчивыми соблазнами большого мира.
А если...
Кондуктор снова закричал: «Прошу садиться!» Собственно, не закричал, а на этот раз как-то буркнул, утвердительно, но без убежденности.
Генрик поднялся на ступеньку. Викторию лихорадило, но она пыталась улыбаться. Испортил жизнь и ей и себе. Уже ничего нельзя исправить. Но разве это его вина? И вдруг перспектива путешествия, перенесения в совершенно другой мир пронизала его паническим страхом. Убежать! Соскочить, пока есть время, прямо в объятия Виктории, скрыться с ней в доме, убежать от Большого Приключения, о котором уже известно, что оно является обманом. Ничего нет. Есть только Виктория и ненасытная тоска по всему, что не Виктория. А все, что не Виктория,– обман. Отель «Полония» – это самая обыкновенная гостиница, в которой ночуют господа с усиками и с портфелями, находящиеся в служебной командировке.
Виктория сказала:
– Ну, развлекайся хорошенько.
Она улыбалась. Это «развлекайся хорошенько» укололо его в самое сердце. Это было благородно, великодушно и вместе с тем невыразимо печально.
Для всего уже слишком поздно!
Для того, чтобы уезжать, и для того, чтобы оставаться.
Можно ли было предполагать, что Янек его пригласит?
А вот сейчас он уже в Катовицах.
Далеко-далеко во мгле на фоне отеля «Полония» осталась Виктория. Серая фигурка, какой-то печальный образ из сновидения.
Генрика положили на чистую больничную койку, и он почувствовал себя очень хорошо. Чистая, удобная кровать много значит, а стоны раненых и больных не очень ему мешали. Он к этому уже привык.
Он думал о Виктории и старался припомнить смешанный запах лаванды и накрахмаленного полотна.
Когда он проснулся утром, первой его мыслью, первым ощущением было, что жизнь его стала вдруг богаче. Виктория должна сейчас прийти.
Она обещала навестить его перед отъездом в Прушков.
Но Виктория не пришла.
Вместо этого пришел доктор и сказал:
– А у вас что?
Доктор показался Генрику наглым и неприятным, и он ничего ему не ответил.
Доктор действительно был наглый и неприятный, к тому же холерик. Он покраснел, топнул ногой и закричал:
– Почему вы не отвечаете, когда я вас спрашиваю? Вы здоровы как корова, это по вас видно.
– Не говорят здоровы как корова, а говорят здоров как бык,– сказал Генрик, поднимаясь с кровати.
– Что такое? Вы смеете делать мне замечания? Я прикажу вас выкинуть вон.
«Почему я всегда попадаю в какие-то странные истории, вступаю в какие-то дурацкие конфликты с людьми,—думал Генрик.– Даже с врачом в больнице».
Но внезапно его охватила ярость. Он сражался в дни восстания, сражался геройски, в то время, когда этот докторишка скрывался от опасности в больнице, а сейчас оскорбляет его и еще издевается.
Он хотел сказать все это, но вспомнил, что не было ни одного свидетеля его героизма и что ни сейчас, ни в будущем он не сможет на это ссылаться.
Ему вдруг показалось, что именно этот распетушившийся докторишка в ответе за все его военные неудачи, и это привело его в бешенство.
– Вы осел и дерьмо,–сказал он, ибо в бешенстве не мог подобрать ничего более подходящего.
Доктор вскрикнул, и через минуту с помощью двух санитаров Генрик был выброшен из больницы, как в фильмах Чаплина героя выбрасывали из шикарных ресторанов.
«Почему, почему?»– думал Генрик, сидя на скамеечке перед больницей и все еще надеясь, что Виктория придет.– Почему со мной всегда случаются такие странные истории?»
Но, честно говоря, он был до некоторой степени доволен. Он понимал, что доставил прекрасное развлечение больным, что, наверно, вызвал у всех удивление и его еще долго будут там вспоминать.
Светило солнце, и можно было до бесконечности сидеть на этой скамеечке, без прошлого, без будущего и с очень неопределенным настоящим. Это еще не самое плохое.
Виктория не пришла.
Генрик ждал три часа. Один раз из окна выглянул докторишка и погрозил ему кулаком. Генрик ответил ему неприличным жестом.
Спустя три часа он встал и решил поехать в паровозное депо в Прушкове, где содержались повстанцы.
Ему было страшновато, но отсутствие Виктории увеличивало силу ее обаяния настолько, что он готов был подвергнуться любой опасности, лишь бы ее увидеть.
У депо он тоже прождал три часа. Он ни у кого не мог ничего узнать, люди здесь были нервные, раздраженные и подозрительные. Наконец какая-то веснушчатая и пухленькая санитарка сказала, что знает Викторию и что Виктория сегодня не приходила. Где Виктория живет, она не знает.
Генрик ежедневно спрашивал о Виктории и повсюду ее искал.
Это его и погубило.
«Раз в жизни встретил девушку, которую мог бы полюбить, – думал ой с отчаянием и тоской. – Раз в жизни. Она блеснула и исчезла. Я, верно, не встречу ее никогда. Никогда не сможет мне понравиться никакая другая. Я остался вдовцом своей мечты».
Он чувствовал себя, как герой в исполнении Жана Габена, что носит в себе тайну прошлого. Тайну трагических событий, которые навсегда перечеркнули возможность счастья. Это, кстати, имело и свою хорошую сторону, так как позволяло ему не обращать внимания на беспрерывные облавы и преследования.
Виктория стала символом. Символом всего самого прекрасного, самого трогательного и необыкновенного в жизни. Он уже не помнил, как она выглядит, но это не имело значения. Обаяние ее образа возрастало с каждым днем, его питала вся неуспокоенная тоска Генрика. Он был убежден, что никогда в жизни не взглянет ни на одну женщину, ни к одной женщине не прикоснется. В мире нет женщин. Была только одна. Проклятая судьба показала ее лишь на мгновение, желая наказать его, чтобы превратить его тоску и желание в орудия пытки.
После войны Генрик решил закончить факультет истории искусств, на котором когда-то занимался. Мир казался ему прекрасным, полным неограниченных возможностей. Генрик мечтал найти свое место в жизни, быть нужным миру и людям. Он все еще помогал своему приятелю торговать конфетами, но это было существование временное и далекое от его мечтаний, от которого следовало как можно скорее отказаться.
Приятель часто повторял Генрику:
– Ты слушай меня и не будь растяпой.
Но Генрик знал, что он растяпа, и хотел быть растяпой. Именно в том смысле, в каком это понимал его приятель.
Он постоянно носил в сердце образ Викторин – самое прекрасное, самое драгоценное и самое удивительное свое сокровище. Однажды, идя по Краковскому предместью, он встретил ее. Ока шла, просто шла, задумавшись. В руке у нее была сетка с яйцами и булками. В другой руке она держала портфель.
Генрик шел за ней и никак не мог поверить, что это действительно она. Он утратил ощущение ее реального существования, и эта внезапная встреча вывела его из равновесия. Он боялся подойти, боялся перевоплощения духа в материю.
Вдруг Виктория оступилась и тихо чертыхнулась. Это подтвердило ее реальное существование. Даже то, как она оступилась, Генрику показалось очаровательным и растрогало его. Он подошел и сказал:
– Вы бросили своего ребенка на произвол судьбы, не вернулись к нему.
Виктория остановилась, издала легкий возглас и удивленно заморгала глазами. Лицо ее выражало полнейшую растерянность, но Генрику оно казалось олицетворением трагического пафоса, изобразить который не смогла бы сама Грета Гарбо. Он смотрел на нее, а она, продолжая моргать, смотрела на него. Это длилось довольно долго, и Генрик почувствовал какое-то замешательство.
– Вы меня не узнаете? – спросил он.
– А, это вы,– сказала Виктория. Она перестала моргать и как-то неопределенно улыбнулась.– Вы так
меня напугали.
– Неужели я такой страшный? – сказал Генрик, и его охватило отчаяние от того, что он говорит такие банальности.
Но Виктории это очень понравилось. Она громко засмеялась и прикрыла рот тыльной стороной руки.
– Страшный? Нет, почему же? Совсем не страшный. Только я испугалась, что ни с того ни с сего кто-то меня задел.
– Разрешите? – сказал Генрик.
Он взял у нее из рук портфель и сетку. Виктория не хотела отдавать вещи, и некоторое время они тянули их каждый в свою сторону. Наконец она уступила.
– Разрешите, и вас провожу, – сказал Генрик,– такого еще не бывало, чтобы женщина, идя со мной, несла тяжесть.
Он снова пришел в отчаяние от своей глупости и банальности, но Виктория и этим была восхищена.
– Гм, джентльменство заслуживает уважения в наши дни,– сказала она, кокетливо наклонив голову—Так что же с вами произошло с того времени, как... с того времени...
– С того времени,– подхватил Генрик,– как вы бросили своего ребенка на произвол судьбы?. Да?
Виктория засмеялась.
– Ах, какой вы забавный. Помню, помню, вы что-то такое говорили, когда мы расставались, а потом я скоро попала в облаву и меня увезли в Германию на работы.
Виктория помнила все это гораздо лучше, чем хотела показать.
Лицо на фотографии.