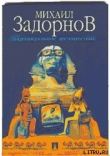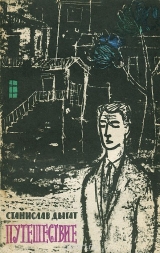
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
«А чего же ты ждал?» – спросишь ты меня,
Ничего, право, ничего. Это я только так говорю.
Потом Венеция плеснула мне в глаза ведерко красивейших красок, а потом я видел столько залитых солнцем городов с названиями, известными и близкими с детства. Я начал уже привыкать к тому, что я в Италии, но все сильнее и сильнее чувствовал беспокойство и тоску. Беспокойство – потому что я не знал, что я здесь, собственно, делаю. Для меня все это слишком поздно, уже слишком поздно. Тоску – потому что мне не с кем поделиться своим удивлением и впечатлениями, не для кого удивляться и впечатляться. Во мне росли отчужденность и равнодушие: ах, если бы под этим небом мне дано было испытать какие-то свои необычные переживания, все было бы иначе.
Солнце уже заходило, время от времени на высоких каменистых холмах появлялись города, словно театральные декорации, которые на вращающемся кругу должны создавать иллюзию путешествия. Стемнело. Рим был где-то недалеко, по шоссе устремлялось к нему множество автомашин.
«Рим, Рим»,– повторял я про себя, стоя у окна, из которого не много можно было увидеть в темноте: иногда внезапно вспыхивал какой-нибудь дом или фабричка, обильно освещенная неоновыми огнями. Потом огней стало больше, и на некотором расстоянии от путей появились окутанные мраком блоки больших жилых домов, так хорошо известных по итальянским фильмам, поднимающим жилищную проблему. А потом ни с того ни с сего поезд подъехал к перрону вокзала Термини.
Янек уже ждал. Он узнал меня издали и махал рукой. У меня перехватило горло, я точно не знаю, было ли то волнение или стыд, а может быть, и то и другое вместе. Мне захотелось убежать, во всяком случае, я молился, чтобы дорога, по которой мы приближались друг к другу, тянулась как можно дольше. Но когда мы окончательно сблизились, он поздоровался со мной совершенно естественно, так, как здороваются с кем-то очень близким, кого не видели месяц. Он поцеловался со мной совершенно запросто и сказал:
– Я рад, что ты приехал.
И сказал это так, что можно было поклясться, что он рад в самом деле. У меня слегка дрожали руки, я старался это скрыть, но Янек держался так естественно и свободно, что в конце концов это передалось и мне, и понемногу я успокоился.
– У вас прекрасный вокзал,– сказал я не для того, чтобы что-нибудь сказать, а потому что действительно он показался мне прекрасным, и я почувствовал потребность сразу же об этом сказать.
– Ты нисколько не изменился,– сказал Янек,– я сразу тебя узнал.
– А ты очень изменился, но я тебя тоже сразу узнал,– сказал я.
Мы сели в машину, которая ожидала нас у вокзала. Я думал, что у Янека какой-нибудь необыкновенный, большой и великолепный суперамериканский автомобиль, но оказалось, что у него обыкновенный серийный фиат, Это обстоятельство вызвало во мне смешанное чувство разочарования, удовлетворения и покоя.
– Я снял тебе номер в отеле,– сказал Янек, как мне показалось, после минутного колебания, когда завел мотор.– Я подумал, что это будет меньше тебя связывать, ну... что ты и сам так захочешь. Но если бы ты пожелал жить у меня...
Я прекрасно видел, что он очень не хочет, чтобы я жил у него. И я тоже этого не хотел.
– Очень хорошо сделал,– сказал я.– Конечно, так будет лучше. Вообще я страшно, страшно тебе за все благодарен.
– Еще не за что,– буркнул Янек.
За стеклом машины кружился Рим, которого я не мог из-за быстрой, полной поворотов езды охватить целиком и представить себе. Рядом сидел Янек. Все это не умещалось у меня в голове, и мне казалось, что это сон, сон, который должен быть полон очарования и прелести, но этого почему-то не было.
Янек время от времени называл мне места, по которым мы проезжали, а я кивал головой, мало видел и мало понимал, ибо от непомерного изумления я больше думал о далеких временах детства. Это была не сентиментальность, а именно изумление. Я не мог надивиться всему тому, что происходит,– я имею в виду то, что происходило на протяжении последних тридцати лет.
– Знаешь,– сказал Янек,– так неудачно получилось: как раз завтра утром я должен на несколько дней уехать. В Африку. Я должен там подыскать подходящие места для натурных съемок в новом фильме. Поэтому мне тем более казалось...
Я почувствовал облегчение. Я был бы рад, если бы он уехал сегодня, сейчас же, а не завтра утром. А ведь он показался мне таким близким и милым – может быть, первый раз в жизни близким и милым. И, собственно, в первый раз в жизни мы начали разговаривать, и это у нас получалось гладко и приятно.
А может быть, у него и не было в Африке никаких дел и он просто убегал от меня?
Отель, где он снял мне номер,– скорее, это был элегантный пансионат – находился в прекрасном районе, неподалеку от Виллы Боргезе (это парк, а не какая-нибудь вилла; впрочем, ты, наверно, знаешь это лучше меня). Называется этот отель «A1bergo Pensione Рaisiel1о» и находится на улице Паизиелло. Я также узнал, что Паизиелло – это итальянский композитор; я никогда о таком не слышал. Номер красивый, с балконом, выходящим в парк Боргезе (слово «вилла» действует мне на нервы), и только неприятно поражают каменные полы, но уж тут так повсюду.
Янек пошел со мной в номер и там вручил мне 200000 лир. Он сделал это совершенно непринужденно и сказал:
– Вот тебе пока на расходы. Не стесняйся и, когда понадобится еще, скажи.
Я очень смутился, мне захотелось поцеремониться и отказаться, но ведь это было бессмысленно. Итак, я взял эти деньги и, желая, чтобы они не мозолили мне глаза, стал судорожно запихивать их в карманы брюк, но они рассыпались по полу. Мне пришлось наклониться и у ног Янека собирать деньги, а Янек засмеялся, но, кажется, был смущен и, наверно, думал: что лучше – так стоять надо мной или наклониться и вместе со мной собирать деньги? Он решился на первое, но все это было ужасно.
Потом мы поехали к нему домой. Его жена ждала нас к ужину. Квартира у них скромнее, чем я думал. Никакая не вилла, а просто квартира в большом доме. Другое дело, что эти дома – чудесные, роскошные дворцы. Если я говорю: скромнее, чем я думал, то все равно, моя дорогая, это для нас как сказка о железном волке. Я хочу сказать, что в квартире нет никакой претенциозности и неумеренной роскоши, чего можно было бы ждать от крупных звезд кинематографии. А значит, то, что я называю «скромностью», не было для меня разочарованием, наоборот. Это же примерно я мог бы сказать об Эрмелинде, моей невестке. Блестящая и взрывчатая красота этой женщины на экране приобретает в рамках дома какую-то камерность, и это определенно идет Эрмелинде на пользу, делает ее более женственной, чего не могут достичь самые невероятные эффекты кино. Она скромная (я бы даже сказал, робкая), интеллигентная и хозяйственная. Великолепный ужин она подавала сама, и очень ловко; у прислуги, наверно, был выходной день, потому что я никого не заметил. Мне показалось, что у Эрмелинды какая-то неприятность. Она была как будто чем-то подавлена, глаза немного воспалены; но это, может быть, от «юпитеров». Я обратил также внимание на то, что они почти не разговаривали между собой – только по каким-нибудь чисто бытовым вопросам, и то с некоторым холодком и сдержанностью. Тут, конечно, нет ничего особенного, просто, должно быть, поссорились, это бывает даже с самыми лучшими супружескими парами. Правда?
Во всяком случае, атмосфера была не слишком приятная, как если бы было известно, что в доме находится злоумышленник, но неизвестно, где он скрывается.
Кстати, ты имела немалый успех! Да, ты!
Янек и Эрмелинда не переставали удивляться, как прекрасно я владею итальянским, а я всю заслугу (по справедливости) приписал тебе, твоим педагогическим способностям. Они много о тебе расспрашивали, и я должен был им много рассказывать.
Потом Янек предложил покататься по Риму при лунном свете, что было мной охотно принято, но Эрмелинда отказалась, ссылаясь на головную боль. Она простилась со мной с банальной сердечностью героев Пруста, выразив надежду, что хотя я приехал к своему брату, но все же пойду на некоторые жертвы и время от времени буду терпеть и ее общество. Для меня, знающего эти нюансы, это было равносильно предостережению, чтобы я не вздумал в отсутствие Янека ей надоедать. Но, может быть, тут крылся какой-нибудь намек на вещи, мне неизвестные, какая-нибудь колкость, потому что, когда она это сказала, Янек, хоть он человек очень сдержанный, пожал плечами, с трудом скрывая раздражение.
Мы долго ездили по Риму, разговаривали много и свободно. Янек рассказывал мне довольно подробно обо всем, что с ним было с момента отъезда из Польши, о том, как он поехал перед войной на несколько недель из Франции в Италию, а потом военные события уже навсегда связали его с этой страной. Он выслушал мой рассказ, а когда я рассказал ему о гибели родителей, долга молча кусал губы, ,а потом спросил, нельзя ли как-нибудь через государственную сберегательную кассу или другим путем устроить так, чтобы он смог поставить на их могиле красивый памятник.
Я ничего не ответил, потому что ведь нет никакой могилы, родители погибли неизвестно когда и где. Я
молчал, не хотел об этом рассказывать, чтобы не мешать благородным намерениям Янека, который был так взволнован, что, казалось, потерял все самообладание, чего я никогда от него не ожидал. Через минуту он, видимо, спохватился и начал ни с того ни с сего рассказывать что-то несуразное и очень веселое.
Итак, мы ездили и ездили, болтали и болтали откровенно, открыто, свободно и с видимым удовлетворением, и все-таки стена которую пробить мы не могли, разделяла нас, и этой откровенной, приятной болтовней, украшали ее как диким плющом.
На другой день я проснулся утром в своем «Pensione Paisiello», у меня болела голова, и я подумал: «Я в Риме». И тут же: «Ну и что с того?» Меня это не радовало, даже немного пугало. И вдруг я вспомнил, что Янека здесь уже нет, что в эту минуту он летит на самолете в Алжир, и я почувствовал большое облегчение.
Я встал, открыл зеленые жалюзи. Светило солнце, в нескольких метрах от меня росли сосны в Вилла Боргезе, рабочие, громко крича, чинили крышу дома напротив, был слышен шум проезжающих машин, звонил колокол. Пахло Римом и свежестью влажного утра. Это не будило во мне ни малейшей радости, а только тоску и страх. Все это и еще то, чего я не мог увидеть с моего балкона и что увижу сейчас при свете дня, было не для меня, и не нужно мне было сюда приезжать. Самое большее, что я могу,– это наблюдать за тем, что проходит перед моими глазами, но я не могу быть внутри всего этого. А что может быть хуже, если ты не внутри чего-нибудь, а только около? И верно, лучше быть в самом скучном и самом унылом учреждении, чем около самых прекрасных и самых веселых городов и стран. Я не спеша оделся, думая о том, какой непоправимой ошибкой была эта поездка, а потом пошел в город. Так несколько дней бродил я в одиночестве, раздраженный, и на душе у меня было тем печальнее, чем прекраснее и привлекательнее казался мне этот город; бродил, как бедный ребенок, который получил прекрасную, невиданную до этого игрушку и не знает, что с ней делать.
За эти несколько дней Рим измучил меня и опротивел мне. Я задумал сбежать в Неаполь, хотя, конечно, понимал, что мысль эта наивна и в Неаполе будет то же, что и в Риме. Мне пришло в голову, что одним из наказаний в аду должно быть пассивное созерцание красивых и соблазнительных вещей. Тем не менее именно по этой причине я оказался в Неаполе и...»
Внезапно Генрик почувствовал, что очень устал, он целый день писал это письмо, и ему стало жаль потраченного времени.
Постепенно темнело. Через открытые двери балкона было видно море. Вдали вырисовывался Капри, его темные контуры были более отчетливы, чем при свете дня. Капри. Это слово отдавало чем-то эстрадным, так как оно часто повторялось в глупых песенках о незабываемых любовных переживаниях. Но необыкновенная чистота и первобытная простота затуманенного гористого силуэта возвращали этому слову первоначальное обаяние.
Там когда-то сидели сирены и искушали своим пением проезжающих рыбаков, и не удивительно, что рыбаки поддавались искушению.
Вот правда о Капри, а вовсе не песенка: «Ты помнишь Капри?..»
Генрик прохаживался по комнате; ветер слегка шевелил занавеси, и это было непонятно, так как день был безветренный. Неаполитанская яркость красок, многообразная голубизна неба, моря, силуэт Везувия, Сорренто и Капри – все это, дымно-лиловое, застыло сейчас в совершенно неподвижном воздухе.
Генрик сел за письменный столик – имитация бидермейера, а может быть, и подлинный бидермейер —и начал читать свое прерванное письмо к Виктории. Он читал его медленно, раздумывая, морща лоб и поглаживая щеки, как читают документы особой важности. Когда он дошел до места, где письмо обрывалось, он откинулся назад, вытянул ноги, на минуту застыл в этой позе, глядя в окно, и вдруг принялся рвать письмо. Он разорвал его на мелкие кусочки и бросил в корзину, потом взял открытку с видом Везувия и написал:
«Шлю тебе, дорогая Виктория, привет из Неаполя. Обнимаю вас обоих.
Генрик»
Он встал и подошел к окну. Теперь уже все краски смешались. Капри растворился в синеющем небе, кое-где загорались огни. Мир надевал вечерний наряд.
Генрик вдруг понял, что потратил на письмо целый день. Он приехал в Неаполь утром, тотчас же снял номер в отеле и тут же засел за письме. Неаполь прошел мимо него гулом и блеском дневных событий, а он писал свое письмо, зная, кто никогда его не отправит, что, окончив, разорвет его и выбросит.
Он писал себе и только себе, для утверждения своей независимости, чтобы обозначить нейтральную зону между собой и миром посторонних событий (да и то все-таки кое в чем соврал!). Но это все равно было ни к чему. Это было после всего. Это было уже после разочарования,– оно пришло быстрее, чем можно было ожидать. После нескольких дней, проведенных в Риме, Генрик понял, что его ничто не ждет, что ничего не случится. Он был вне действительности, которая его окружала, он не имел к ней непосредственного доступа. Он с одинаковым успехом мог все это увидеть в кино или на открытках. Да что там, гораздо лучше, потому что и киноэкран и открытки можно по собственной прихоти наполнить игрой воображения.
Генрик ждал разочарования и, как он сам себе говорил, ехал за разочарованием. Но, во-первых, он немного себя обманывал, ведь отчасти, а может быть, и полностью—он рассчитывал на то, что все будет иначе, во-вторых, надеялся, что этому разочарованию будет предшествовать ряд интересных наблюдений, подытоженных в минуту отъезда, что оно все-таки создаст какую-нибудь печальную, чуть патетическую и даже возвышенную видимость собственных размышлений, которые в сущности станут тайным фундаментом для новых мечтаний и надежд. Но разочарование, которое он ощутил в самом начале, было гладкой холодной стеной, и за этой стеной находилось уже только небытие, в существование которого люди вообще не верят. Генрик стал относиться к себе иронически и даже чуть цинично. Неизвестно, почему он стыдился самого себя, это был какой-то непонятный флирт с самим собой, какая-то сложная, неясная игра. Кроме того, ему казалось, что он открыл великую истину, а именно пришел к убеждению, что если жизнь человеку не удалась, если он сделал ряд ошибок, которые обусловили такую, а не иную судьбу, то всякие попытки найти удовлетворение или хотя бы кратковременный отдых должны неизбежно обращаться против него самого и ухудшать его положение.
Чтобы спасти свои надежды от полного краха, Генрик пытался внушить себе, что приехал сюда в качестве туриста. Однако из этого ничего не вышло. Восхищаться красотами и всякими достопримечательностями одному, для себя самого, казалось ему настолько глупым и не– приличным, что он быстро отказался от этого маскарада, во время которого успел обойти вокруг Колизея.
Он не знал, что ему делать в Риме, большей частью сидел в своем номере в пансионате «Паизиелло» и читал старые варшавские газеты, которые захватил с собой в дорогу. Охотнее всего он немедленно уехал бы в Варшаву, но боялся скомпрометировать себя перед коллегами в министерстве. Он уже подумывал, не вернуться ли ему все-таки и не отсидеть ли тайно этот месяц где-нибудь под Варшавой, но после долгих размышлений пришел к выводу, что это по многим причинам невозможно. Как-то раз он решил пойти в кино, но, уже оказавшись у кассы, вдруг повернулся и быстро зашагал обратно в свой пансионат. Он вдруг ясно себе представил, что собирается смотреть за деньги, как люди, которым за это платят, изображают на киноленте различные человеческие чувства, переживания и страсти. Ему стало не по себе, он не мог даже сдержать какой-то нервный смешок. Он подумал, что драматическое событие, такое, какое для своих целей и возможностей создало кино, является абсолютной фикцией. Ибо на самом деле человеческие переживания и драмы не происходят в виде завязки, кульминации и развязки, а длятся беспрерывно. Человек переживает в своей жизни только одно событие, которое избирает различные пути и вообще не кончается ни хорошо, ни плохо, если не принимать во внимание смерть, но это уже другая тема, это все равно что дискутировать о том, является ли смерть хорошим или плохим концом.
Янек вдруг показался Генрику круглым дураком. Впервые в жизни он почувствовал свое превосходство над ним. Чего стоит человеческий гений, если он посвящает себя абсолютной фикции, тем более идиотической, что потребители этой фикции нисколько не сомневаются в том, что они отданы во власть беспочвенных иллюзий. В таком случае не выше ли, не благороднее ли любого кинорежиссера обыкновенный чиновник?
И вдруг ему показалось, что тот ужин у Янека в день его приезда в Рим был только глупой кинематографической фикцией, фальшивой, неправдоподобной, да еще с плохо распределенными ролями. Нелепость всего была так очевидна, что Янек должен был это почувствовать. Генрик видел, что Янеку стыдно. Первый раз в жизни Янеку было стыдно перед Генриком.Он стыдился того, что он итальянский режиссер, стыдился своей квартиры и своей машины, своей жены Эрмелинды, знаменитой кинозвезды, и ее великолепного бюста, своей собаки какой-то совершенно необыкновенной породы, которая приветствовала их радостным лаем, макарон и салата из омаров, статуэтки «Оскар», стоящей на камине. Янеку впервые было стыдно в присутствии Генрика, и впервые Генрик чувствовал над ним превосходство. Все это вместе взятое казалось ужасным и неправдоподобным. Об этом можно было снять фильм, но в жизни это не умещалось.
В номере стало уже совсем темно. Генрик зажег свет, а когда повернулся, увидел свое отражение в большом зеркале. Он с минуту смотрел на себя и не мог противиться чувству удовлетворения, хотя, казалось бы, удовольствие от созерцания своего отражения в зеркале совершенно не вязалось с его настроением.
И все-таки он испытывал удовлетворение. Не такое, какое испытывает пустой, примитивный чиновник, смотрящийся в зеркальце с фотографией нареченной на обратной стороне,– Генрик видел в этом зеркале человека, ничуть не похожего на него самого. На нем был элегантный, только что купленный костюм, в котором он смело мог сойти за знатного и богатого иностранца, человека необыкновенного и выдающегося. Генрик не был ни пустым, ни глупым, и сам по себе факт, что он выглядит как привлекающий к себе внимание иностранец, не мог вызвать у него особенных эмоций. Скорее он чувствовал душевный подъем от того, что был не похож на себя. Ибо это позволяло ему хоть на минуту убежать от самого себя. Не имея другой возможности убежать от себя, он скрывался под этим костюмом, так не похожим на его обычный костюм, и это уже давало ему какое-то удовлетворение.
Он достал портфель, тоже новый, погладил его тонкую голубую кожу, заглянул внутрь, но ничего там не обнаружил и положил на прежнее место. Задумался, потом вынул из заднего кармана брюк пачку денег и начал их пересчитывать. Осталось триста тысяч лир (Янек дал ему четыреста, а не двести тысяч, как он написал на всякий случай Виктории, хотя никогда и не думал отправлять письмо).
Генрик повернулся на каблуках я почувствовал беззаботную радость. Ему вдруг захотелось чего-то, он сам не знал чего, но был доволен уже тем, что в нем пробуждаются какие-то желания. Он пригладил волосы и сделал несколько неопределенных движений. Это были свободные движения, совершенно ему не свойственные.
Насвистывая, он подошел к окну. Неаполь сверкал тысячами огней. Он потянулся, мысленно не без симпатии обозвал себя идиотом и вышел из номера.
Неаполь – город, о котором очень много говорят, о котором пишут, кто только может, и которого до сих пор никто еще не сумел описать. Это принципиально невозможно, так как Неаполь – это собрание эстетических, урбанистических и природных абсурдов. Может показаться, что он с величайшим уважением, хотя и очень нескромно, передразнивает все обыкновенные города. Днем здесь правит и побеждает чудесное сияние солнца, неба и моря, но ночью Неаполь превращается в склад старых декораций различных итальянских опер.
С набережной, где находился его отель, Генрик пошел по какой-то улочке вверх, заблудился и вернулся назад, пошел влево по набережной, а потом свернул на улицу Санта-Лючиа – только потому, что она так называлась. Он бродил без цели и был доволен, что бродит, без цели, ничто его как-то не трогало, ничто не печалило. Он прошел большую красивую улицу, очутился в маленьких, узких улочках, на которых, в точном соответствии с весьма распространенными описаниями, играли оставленные без присмотра дети, бегали коты, сушилось белье, сидели на низеньких стульчиках люди. Откуда-то сверху выплескивали грязную воду, кричали, пели, выглядывали из окон. Прогуливались развязные проститутки, лениво переругиваясь между собой и время от времени разражаясь хриплым смехом. Они смотрели на Генрика с явной заинтересованностью, но не задевали его, скорее пытались с ним кокетничать, как прекрасные дамы с элегантным кавалером. Генрику захотелось есть. Он с самого утра сидел в отеле над своим письмом, и до сих пор во рту у него не было ни крошки. Но мысль, что придется ужинать в одиночестве, его огорчила.
«Эти девушки,– подумал он,– из тех, которых покупают. Мне не нужна ни одна из них, чтобы разделить со мной постель, потому что это уж очень просто, но, может быть, я мог бы купить какую-нибудь из них, чтобы она разделила со мною ужин».
Генрик им явно нравился, но ни одна из них не нравилась ему. Они были слишком толстые, грузные, чересчур крикливые и лишенные обаяния. Он пошел дальше по узким улочкам, круто поднимавшимся в гору.
Тут было меньше людей и меньше шума. Генрик почувствовал какую-то жалость и нежность неизвестно к кому и к чему, скорее всего к самому себе. Ему хотелось заплакать, поверить кому-нибудь свои заботы и печали, а больше всего хотелось не быть таким одиноким.
На углу, прислонясь к стене, стояла девушка. Стояла так, как рисуют на картинках стоящую у стены уличную девку или как ее показывают в фильмах. Слегка изогнувшись в талии, с руками, сложенными на груди, одной ногой касаясь стены, о которую она опиралась. Она смотрела куда-то перед собой и, казалось, о чем-то сосредоточенно думала.
«И вот,– сказал себе Генрик,– сейчас первый раз в жизни я заговорю с уличной девкой». Он приближался к ней, но она не обращала на него внимания. Он остановился в нескольких шагах и оглядел ее. Должно быть, она была очень молода. У нее был здоровый румянец на щеках и темные волосы с рыжеватым отливом.
– Сколько вам лет? – спросил Генрик совершенно непроизвольно и сразу же испугался.
Девушка шевельнулась и опустила ногу. Она взглянула на Генрика, минуту всматривалась в него, у нее были большие бледно-голубые глаза. Она сказала: – Девятнадцать. А что?
– Ничего. Я спросил просто так. Вы не пошли бы со мной поужинать?
Девушка посмотрела удивленно...
– Поужинать? Почему поужинать? И почему ты говоришь мне «вы»? Ведь так не говорят. Кто ты? Ты мне нравишься. Еще никто со мной так не начинал. Мужчины ужасные хамы.
Она безвольно опустила руки и, держась прямо, подошла к Генрику. Стояла перед ним, смотрела ему в глаза, а Генрик думал, не убежать ли ему. Он не предполагал, что она так красива, и это его смутило.
– Кто ты? – спросила она.– Почему ты так странно говоришь?
– Разрешите представиться. Меня зовут Шаляй.
—Ха-ха! – засмеялась девушка.—А меня зовут Софи Лорен. Ты, оказывается, веселый парень, любишь пошутить, я тоже это люблю.
Генрик рассердился.
– Я не веселый парень,– сказал он несколько повышенным тоном,– и терпеть не могу шуток. Меня действительно зовут Шаляй, а тот Шаляй, о котором вы думаете, это глупый индюк.
– Откуда вы знаете? – спросила девушка.– Он действительно глупый индюк.
– А откуда вы это знаете? Так о нем здесь говорят?
– Так говорю я. Я хорошо его знаю и поэтому не поверила, когда...– она заколебалась на минуту,– когда вы хотели выдать себя за него.
Генрик снова почувствовал, как в нем поднимается злость.
– Я не собирался выдавать себя за него! – вспылил он и даже топнул ногой.– Меня зовут Шаляй, а тот Шаляй мой брат.
– Тра-ля-ля,– сказала девушка.– Каждый, кто приходит ко мне, или сам какая-нибудь необыкновенная личность, или по крайней мере находится в родстве с необыкновенной личностью. Все они великие артисты, политики и ученые, олимпийские чемпионы по прыжкам с шестом, кузены княжны Монако и даже племянники папы. Вчера у меня был Эйнштейн. Он рассказывал мне, что открыл теорию относительности и что за это его обожает весь мир. Глупый хам, мясник из Помпеи, думает, что я об этом не знаю. Но я всегда все знаю и вообще знаю жизнь. Даже знаю, что Эйнштейн давно умер, чего тот осел, очевидно, не знает, потому что люди выдают себя за кого угодно, но выдавать себя за покойника – это еще никому не приходило в голову. Я все знаю, но ничего не говорю, потому что они мне главным образом за это и платят, что могут час или два выдавать себя за кого-нибудь другого. Иногда попадается гость действительно знаменитый, но такой, наоборот, обязательно старается меня уговорить, что он скромный чиновник. Шаляй – это Шаляй, потому что я хорошо его знаю, но вначале он был простым механиком с завода «Фиат», почтенным отцом семейства. Он мне всегда говорил: «Знаешь что, Зита, ни одна девушка во всей Италии не умеет так мне угодить, как ты. Ни в Милане, ни во Флоренции, ни в Генуе – нигде. Здесь у тебя я действительно отдыхаю от дома и от всего». Он был у меня два дня назад, говорит: «Жена меня замучила, семья сидит на шее, я сделал вид, что уезжаю по важным делам в Африку, а сам скроюсь где-нибудь в горах в Сицилии. Видишь, какая у меня жизнь!» Я каждому позволяю выдавать себя за кого ему хочется, но вы попались совершенно роковым образом. Это уже какая-то чепуха. Я его слишком хорошо знаю. Он действительно глупый индюк, но он моя слабость. Да, представьте. Разные ко мне приходят. Великие и малые, знаменитые и никому не известные, поддельный Эйнштейн и настоящий Шаляй, но передо мной, как перед богом, все равны. А вы, собственно, кто такой?
– Я Шаляй.
– А вы упрямый. По крайней мере выберите что-нибудь одно: или вы Шаляй, или брат Шаляя.
– Брат Шаляя.
– Брат Шаляя. Вот тебе и на. Ну, пусть будет так, если ничего поинтереснее не приходит вам в голову.
– Я брат Шаляя,– снова повторил Генрик бессознательно, почти механически. Он стоял неподвижный, остолбеневший; перед ним, расставив ноги, стояла девушка. Скрестив руки на груди, прищурившись, она с улыбкой смотрела на Генрика.
Из-за угла появилась группа детей. На головах у них были шапки из бумаги, в руках палки. Ими руководил вихрастый парень с большими голубыми глазами, с лицом профессионального убийцы. Он ехал на выструганном из дерева коне, держал на плече деревянную саблю и время от времени подскакивал, не меняя мрачного выражения лица. Все шествие двигалось молча и как-то вяло, без всяких признаков веселья, точно по принуждению. Но сразу же, когда они свернули за угол, раздался ужасный визг, крик, треск ломающихся палок и истерическое мяуканье кошек.
Кажется, эта армия ведет войну с кошками?
Где-то мелодично пробили часы. Десять ударов.
В Неаполе в десять часов вечера дети не спят, они играют в мрачную игру – в войну с кошками.
Генрик смотрел не на девушку, а поверх нее, в глубь темной улицы – девушка была значительно ниже его. В темноте победно развевалось белье, развешанное на натянутых между домами веревках. Оно напоминало торжественные знамена и транспаранты в дни народного праздника. Над головой Генрика развевались комбинезоны, прицепленные за рукава, напоминая человека, который пал на посту, как стоял – с распростертыми руками и расставленными ногами.
«Ни варшавские чиновники, ни неаполитанские проститутки не могут поверить, что я брат Янека... А Янек престо сукин сын, а Янек просто сукин сын, а Янек просто сукин сын».
Эта мысль проносилась в голове Генрика, как важное сообщение, беспрерывно передаваемое по радио. И при каждом повторении – один раз о нем и три раза о Янеке, о Янеке все быстрее, назойливее и громче и наконец уж только о Янеке.
Значит, вот как!
Значит, все только пустая болтовня или в лучшей случае запоздалые новости. Все чувства, все надежды и ожидания, вера и любовь, взлеты и восторги – точно лекарства, срок действия которых давно уже прошел. Можно принимать их, но пользы они никакой не принесут. А Янек просто сукин сын. Вена – это только опустевшие декорации после представления, которое уже никогда не состоится. Италия – орнамент, который нигде уже не удастся использовать при внутренней отделке и который нужно сдать в музей, а еще лучше продать в антикварный магазин, потому что музеи – это уже только мистификация. А Янек просто сукин сын.
И ни Лондон, и ни Рим,
И ни Вена с вальсом своим...—
ни с того ни с сего промелькнула в голове Генрика старая эстрадная песенка, и он вдруг ощутил во всей полноте безнадежность и пустоту, раскрывающуюся перед человеком, который принес свою жизнь в жертву и увидел, но, увы, слишком поздно, что эта жертва никому не нужна.