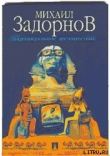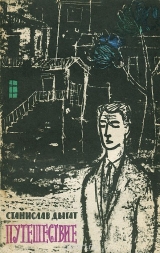
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Генрик серьезно и глубоко заинтересовался искусством. С пылающими щеками ходил он на концерты, на выставки и в театры. Покупал репродукции и книги, и все это сопровождалось торжествующими восклицаниями отца, которые очень раздражали Генрика.
Увы!
Как и многих, кому удалось заглянуть через приоткрытую дверь в чертоги искусства, его обуяло высокомерие..-
Дело не в том, что он считал себя артистом и был полон решимости создавать великие произведения, хотя не знал еще, в какой области. Дело не в том, ибо почти каждый, а по-моему абсолютно каждый, в душе считает себя артистом и до конца жизни втайне надеется создать произведения, которые превзошли бы все, что было сделано до сих пор.
Генрика обуяло высокомерие: старательно и проникновенно искал он в произведениях искусства архангельские черты Вечности.
В результате к обыденности он стал относиться подозрительно и критически. Он чувствовал свое превосходство, считал себя не таким, как другие, лучше. Особенно в школе, где предметы, излагаемые учителями, казались ему надуманными и скучными, учителя – банальными и заурядными, а товарищи – грубыми и глупыми. Он не находил ни смысла, ни цели в науке и опять стал плохо учиться.
Соприкосновение с искусством, желание найти в нем архангельские черты Вечности рождали в Генрике убеждение, что он постиг смысл существования, которого не постигли другие. Это убеждение основывалось на том, что он остро видел и чувствовал всю искусственность распорядка повседневной жизни, установленного людьми и являющегося для них единственной, прочной и незыблемой формой бытия. Генрик не переставал удивляться, как люди с невозмутимым спокойствием ежедневно выполняют свои обязанности, вкладывают в это величайшее рвение и энергию и никому ни на минуту не приходит в голову, что все это не имеет никакого смысла.
Он настолько был поглощен всем этим, что не заметил, как торжествующие восклицания отца перешли в какие-то неопределенные, немного смущенные покашливания.
Однажды отец сказал ему (покашливая):
– Видишь ли, мой дорогой... Как бы это тебе сказать? Это очень похвально, что ты интересуешься искусством, и ты знаешь, конечно, что я первый всегда был за это, ну и, наконец, что говорить, именно я направил тебя на этот путь. Но ты, мой дорогой, к сожалению, ни в чем не знаешь меры, если теннис– так только теннис, если филармония – так только филармония. А в жизни надо...
Он помолчал минуту, полуоткрыв рот, как бы соображая, что же именно в жизни надо. Ему как-то не удавалось это сформулировать. Наконец он махнул рукой и сказал:
– Что тут долго разговаривать! Артистом ты не станешь, так как для этого надо иметь талант, да я этого и не хочу, потому что все артисты —голытьба. Интересуйся искусством, пожалуйста, но в меру, а ты ведь как одержимый.
Он опять помолчал, потом взглянул на Генрика исподлобья и спросил:
—Говорят, ты отказался участвовать в сборной хоккейной вашей школы?
—Да, папочка.
—Почему?
—Но ведь это глупо.
—Как это глупо?
—Просто глупо. Бить сплющенной палкой по резиновой шайбе глупо. Да еще на коньках.
—Но, мой дорогой! Теперь из-за этой твоей блажи школа не будет участвовать в розыгрыше.
– Ну и не будет. Что ж такого?
– Ладно, оставим это. Вот, возьми. Я достал два билета на сегодня на бокс. Польша – Германия. Участвует Кольчинский. Ты доволен?
Генрик покачал головой.
—К сожалению, ничего не выйдет. Сегодня вечером в филармонии Артур Шнабель.
– Плюнь на это.
—Я плюну на Кольчинского.
—Вот как? Ну, подожди же —взорвался отец и вышел из комнаты.
На другой день от отказался купить Генрику комедии Мюссе, которые перед тем обещал.
– Пошел бы со мной на встречу Польша – Германия, я бы купил, а так пусть тебе покупает Артур Шнабель.
Генрик удивился. Еще недавно отец запретил ему купить теннисные мячи в наказание за то, что он не
пошел с ним на «Федру» Расина, а вместо этого отправился на розыгрыш кубка Дэвиса.
Он удивился, что один и тот же человек за одно и то же может в одном случае наказать, а в другом —
наградить.
Без остатка поглощенный поисками архангельских черт Вечности, Генрик не заметил перемен, которые за это время произошли дома.
Уже не устраивались пышные приемы со знаменитостями. Родители уже не ходили на балы и не ссорились друг с другом по поводу того, кто из них более эрудирован. Мать меньше заботилась о своих туалетах, потускнела и притихла. Отец часто сидел у окна и, уставясь в одну точку и перебирая пальцами на колене, вздыхал про себя: «О-хо-хо, так, так».
Из трех слуг осталась только кухарка. Дом как-то поблек, погрустнел. Со стены в гостиной исчез гобелен, голубая с золотыми узорами штора оборвалась, и никому не приходило в голову ее прикрепить, как никому не приходило в голову убрать с рояля фигурку из севрского фарфора, отбитая головка которой лежала рядом. Мебель потеряла блеск, десерт был отменен, кот, которого раньше старательно запирали в кухне, ходил, где ему хотелось, и никто не обращал на него внимания. С потолка в коридоре сыпалась штукатурка, если кто-нибудь слишком сильно хлопал дверью.
Все напоминало тяжелое похмелье после большого пира.
В чем-то хватили через край, где-то перешли какие-то границы. Трудно сказать точно, где и какие. Несоответствие между стремлениями и возможностями приводит к нарушению границ. А это в свою очередь приводит к разорению.
Отец обанкротился.
Поплыв на романтической волне возвышенных переживаний, он запустил дела банка и свои собственные. Катастрофы не произошло, но усилия, направленные на то, чтобы ее избежать, вызвали полный упадок.
Наступило замешательство, хаос, неразбериха в понятиях и нормах.
Мать дала в кафе пощечину актрисе Польского театра, которая обвинила ее в том, что она не отличает Матейко от Пикассо.
Отец вызвал на дуэль известного поэта, который подверг сомнению его знание французской литературы.
На вызов поэт ответил: «Поцелуйте меня в...» Над отцом все смеялись. Эмиль назвал его дураком и уехал за границу, не попрощавшись и не вернув солидный долг.
Родители потеряли привычную почву под ногами, а на чужой, когда их перестала поддерживать основная опора – материальный достаток, спотыкались и скользили.
Они сидели, раскисшие, стыдясь друг друга. Смотрели друг на друга исподлобья, подозрительно. Уже ничто не ждало их вместе. И было слишком поздно начинать что-нибудь порознь.
Дом, традиционный и уютный, семейный очаг, рушился. Его поддерживали только сохранившиеся еще привычки.
Подобным образом и повсюду вокруг рушились семейные очаги по причинам самым различным. Люди пытались искусственно их склеивать и поддерживать. Прикрывались видимостью, неизвестно для кого и зачем. Больше по привычке, чем по необходимости. Смущенно отводили глаза от жалкой картины этого упадка, притворялись, что все идет, как шло с сотворения мира, что ничего не происходит, хотя на самом деле что-то происходило.
Только начало войны и дальнейшие события явились предлогом официального банкротства того, что обанкротилось уже давно.
Прощайте, тети и дяди, семейные фотографии, буфеты с оленьими головами в столовых! Иногда в тайниках души, в беззащитности перед бурным наступлением современности вас бывает очень жаль.
За границу, разумеется, опять не поехали. Янек с рюкзаком и фотоаппаратом через плечо, отправляясь в лагерь ХАМ, сказал отцу:
– На этот раз, кажется, ты попал в плохую компанию. Хорош бы я был, если бы серьезно отнесся к вашим планам и проектам.
Отец неподвижно сидел на стуле. Смотрел в окно и стучал пальцами по колену.
Однажды утром Генрик проснулся с внезапным решением, что не будет артистом. Он ощутил такое же чувство облегчения, как когда-то, когда отказался от мысли стать святым.
Он очень хотел бы стать артистом, он действительно любил искусство и считал, что нет в мире ничего более достойного, чему можно посвятить себя. Но он понял, что для него было бы невозможно находиться в состоянии постоянного взлета над повседневностью. Просто у него был иной душевный склад. Кроме того, в необходимости носить пышную шевелюру, черную пелерину и черную шляпу с широкими полями он усматривал что-то унылое и связывающее. Он хотел иметь гладкую короткую прическу одеваться элегантно и современно, вообще ему захотелось вдруг как можно шире пользоваться повседневностью, даже если она лишена смысла и цели.
Можно ли представить себе Шопена, причесанного гладко и на пробор, напомаженного, в широких фланелевых брюках, коричневом пиджаке в елочку, в полосатом галстуке и в фетровой шляпе борсалино?
6
В начале каждого нового школьного года отец сообщал, что на этот раз поездка летом за границу состоится непременно. Имеются все данные, что положение намного улучшится.
Но положение все ухудшалось, и разговоры отца никто не принимал всерьез.
Оптимистические заявления, которым никто не верил, играют, однако, определенную положительную роль.
Существует в польском языке словечко «а вдруг», (Пожалуй, только в польском.) Его существование объясняется присущей жителям этой страны верой в чудо, а также полнейшим отсутствием доверия к солидности и последовательности всяческих явлений.
Словечко «а вдруг» оказывает незаменимые услуги нашей склонности к мечтаниям, является лучшим наставником нашей фантазии. А фантазия, хорошо натренированная и основательно подготовленная к задачам мечты, совершенно необходима людям страны, которая испокон веку жила надеждами и обещаниями.
Генрик давно уже не верил в каникулы за границей, но был благодарен отцу за то, что тот так убедительно обещал. Большую часть года можно было пользоваться благодеяниями мечты и надежды, а в конце сказать себе: «Ну что ж? Ведь я все равно на это не рассчитывал». Несбывшиеся мечты никогда не становятся трагедией. Зато как часто становятся трагедией сбывшиеся мечты.
После «года Мальорки и Шотландии» наступил «год Капри». Отец приносил домой проспекты, вел оживленную переписку с гостиницами и пансионатами, а с матерью – бесконечные споры о том, что лучше: жить на самом Капри или на Анакапри. Но «год Капри» продолжался только полгода. Однажды, вскоре после рождества, отец пришел к обеду хмурый и печальный. Генрик подумал, что он сам, должно быть, так же выглядит, когда в чем-нибудь провинится. За обедом отец не разговаривал, а только ворчал, что суп слишком густой, что соль плохо сыплется, что в моркови песок. После обеда он вытер губы ,бросил салфетку и сказал с деланной веселостью:
– Ну, мои дорогие, должен вам сообщить, что корабль, который я веду, сел на мель.
—Что такое?– спросила мать с беспокойством.
Не поднимай паники, Анет,– рассердился отец. Почему ты всегда из всего делаешь трагедию?
– Но я же…
– Но ты же! Именно ты всегда создаешь такую атмосферу, что кажется, случилось бог знает что, и у человека пропадает всякое желание жить.
– Ведь ты сам сказал... что этот... что корабль сел на мель.
– Ах, Анет, Анет. С тобой можно говорить только о самых примитивных вещах. Ну, я употребил такой шутливый оборот, а ты сразу поднимаешь шум и крик.
Ничего страшного не произошло. У меня кое-какие временные затруднения, и в связи с этим нужно будет ввести некоторые ограничения. Придется половину дома сдать. Думаю, что лучше низ. Ну, кроме того, надо отменить десерт и вообще пересмотреть бюджет. Мы поговорим об этом подробнее. Что касается поездки на Капри, то, боюсь, ее придется отложить до будущего года.
– Что касается меня, то я еду на Капри,– заявил Янек.
– Как это? – удивился отец.
– Очень просто. Не думаешь ли ты, что я на что-нибудь надеялся, слушая твои проекты? Я давно уже записался на экскурсию под девизом: «Без паспортов и виз за солнцем Италии».
—А откуда ты взял деньги?! – воскликнул отец, стараясь не показывать своего раздражения.
– Два мотора к велосипедам и мотор для байдарки. Корабль, который веду я, не сел на мель.
Отец со вздохом махнул рукой.
Итак, вместо Капри Генрик в том году очутился над Пилицей. Над Пилицей тишина и много зелени. Вербы и ракиты. Днем жужжат пчелы и разная мошкара, по вечерам квакают лягушки. Горизонт там просторный, широкий, человек словно вписан в зелено-бурый круг, прикрыт синим или серым куполом неба.
Над Пилицей пастушки не играют на свирели, так как пастушки, играющие на свирели, существуют только в сказках или красивых деревенских повестях. Я, правда, знал одного пастушка, который действительно играл на свирели. Он сидел со мной в камере в Павяке во время оккупации. Ему было четырнадцать лет, у него была огромная голова и коротенькие ножки. Он вздыхал: «Ой, доля, доля!» – садился, скрестив свои короткие ножки, на нары и играл на свирели, которую сделал из металлической трубки, найденной на тюремном дворе. Никто не понимал (а он не мог растолковать), как он попал в городскую тюрьму, если никогда не покидал своей далекой тихой мазовецкой деревни, своей лужайки возле леса,– ой, доля доля! Итак, над Пилицей пастушки не играют на свирели, а бегают в холщовых штанишках с кнутиками за коровами и овечками, заяц скачет по меже, аист поднимется над лугом, рыбка ударяет хвостом по воде, далеко-далеко уносится дым из хат и от костров, вечером блуждают туманы, ночью мерцают огоньки.
Над Пилицей все милее и ближе, чем на Капри. Генрик и его два товарища по школе жили в палатке у самой реки, в березовой роще, в километре от уездного городка Бялобжеги.
У них были надувные матрацы, спиртовка, патефон и книги. Они купались, удили рыбу, читали, рассуждали обо всем, о чем рассуждают на семнадцатом году жизни. О мире, о спорте, о девушках, о вселенной, о кино, о чудесах природы, о моряках, о ковбоях, о научных открытиях, парижских апашах, тайнах морских глубин, о существовании загробной жизни и о цирке.
По утрам ходили в Бялобжеги, чтобы купить что-нибудь на завтрак. Сначала ходили в одиночку, по очереди, но потом стали ходить вместе, все трое. В городке в кооперативе «Звено» торговала панна Ядя, их ровесница. У нее были две смешные очаровательные косички, иногда она волосы распускала. Светлые, почти льняные, и гладкие, они доходили ей до плеч. У нее были голубые, бледно-бледно-голубые глаза. Она была чистенькая и опрятная, только щеки часто бывали запачканы. Щеки полные, кожа гладкая. Иногда она смотрела на себя в зеркало, и если щека была запачкана, она вытирала ее тыльной стороной ладони невинным и ловким движением. При этом высоко поднимала плечи и шмыгала носом. Она была похожа на деревенского ребенка с льняными волосами, выцветшими глазами и румяными щеками, который бегает возле хаты, являясь одной из деталей польского пейзажа, как лес, поле, луг, пес Бурек, придорожный крест, скрипящий журавль, соломенная крыша и пан аист. Только этот деревенский ребенок принял облик стройной и здоровой, улыбающейся губами и глазами девушки. Улыбки женщин иногда заключают в себе что-то более неприличное, чем ошеломляющая нагота и все то, что в нашем непроизвольном лицемерии мы привыкли считать неприличным. Улыбки девушек – это ошеломляющая нагота, скромно и пристойно прикрытая покровом невинности. Панна Ядя была невинна и наивна.
Юлек и Генек отличались от Генрика значительно большей смелостью и свободой. Они шутили и заигрывали с панной Ядей, панна Ядя смеялась и отвечала им весело, но с достоинством. Генрик обычно стоял в сторонке, смотрел на панну Ядю и улыбался. Изредка вставлял какое-нибудь словечко. Но его сейчас же охватывало отчаяние, ему начинало казаться, что он сказал глупость, сказал неуклюже и не к месту, ему хотелось убежать не только из магазина «Звено», но из Бялобжегов, с Пилицы, убежать, не показываться больше ни тут, ни поблизости.
Посещения магазина «Звено» были для Генрика мукой. Он смотрел, как Юлек и Генек развлекаются и флиртуют с панной Ядей, и признавал, что они делают это ловко и изысканно. Они должны были очень нравиться панне Яде, так как нравились даже ему—такие они были остроумные, образованные и находчивые. Наверняка панна Ядя была влюблена в одного из них, а может быть, и в обоих или же колебалась, кому отдать предпочтение. А он стоял в стороне и мог решиться только на то, чтобы смотреть и улыбаться, сказать какую-нибудь глупость, к счастью, на это никто не обращал внимания. Иногда в нем просыпалось желание действовать, твердая решимость. В следующий раз он покажет, на что способен. Ведь он образованнее, остроумнее Юлека и Генека, он переплюнет их, затмит, уничтожит. Он придумывал интересные остроты, особенную, небрежную манеру держаться, но, как только переступал порог «Звена» и видел панну Ядю, ему казалось, что у него связаны руки и ноги, а вместо языка деревяшка. Он решил не ходить в «Звено», но, когда Юлек и Генек пошли одни, его охватило такое беспокойство, что он тут же побежал вслед и догнал их на дороге.
– Почему ты,– спросил его однажды Юлек, когда они возвращались с покупками,—всегда стоишь, как...
Тут он употребил выражение, которого я не повторю. Генрик пренебрежительно усмехнулся и пожал плечами.
– Просто ваш глупый флирт меня не интересует.
– Ты не умеешь радоваться жизни,– сказал Генек.
—Умею, и больше, чем вы оба. Но я не ищу радостей жизни в кокетничанье с деревенскими девушками.
– А в чем же?
– В тех областях жизни, которые для вас недоступны.
– Смотрите на него! Великий философ!
– В конце концов, в чем дело? Панна Ядя очень милая девушка, но мне лично она не нравится.
– Еще бы, тебе нужна по меньшей мере Грета Гарбо.
– О вкусах не спорят.
– Тогда зачем ты всегда за нами увязываешься?
– Чтобы посмотреть, как вы козлами скачете. Это меня очень забавляет.
Несколько дней Генрик не ходил в «Звено». Он боялся, что товарищи повторят в присутствии панны Яди этот разговор и высмеют его. Тогда ему придется покончить с собой, а у него не было к этому ни малейшего желания. Он оставался в палатке и ужасно страдал. Лежа под деревом с закрытыми глазами, он видел фигуру и лицо панны Яди, представлял себе, как она смеется с Юлеком и Генеком, как говорит, поднимая плечи и наклоняя голову: «Кто бы мог подумать!»
Он с нетерпением ждал их возвращения, выходил к ним навстречу и потом подробно расспрашивал, что слышно в Бялобжегах, критиковал покупки, стараясь делать это так, чтобы разговор коснулся панны Яди и он смог бы узнать, как в этот день она выглядела, что говорила и какое на ней было платье.
За два дня до их отъезда в Бялобжегах должно было состояться большое гулянье, организованное Красным Крестом. На лугу над Пилицей сколотили из досок танцевальную площадку, расставили столы, провели электричество для иллюминации. В Бялобжегах царило большое оживление, панна Ядя нарядилась уже с утра – на ней была синяя облегающая юбка, белая блузка, ее распущенные волосы были завиты. Никогда еще она не казалась Генрику такой прекрасной.
Юлек и Генек чистили костюмы, подбирали носки и галстуки. Генрик лежал под деревом и читал книгу.
—А ты что? Не идешь?– спросил Юлек.
—Не забивай голову господину профессору низменными делами,– сказал Генек.– Он размышляет над недоступными нам областями жизни.
Генрик закрыл книгу, приподнялся на локтях и плюнул с расстояния около десяти метров прямо на ботинок Генека.
– На,– сказал он,—натри свои ботинки. Если мне захочется, пойду, а если нет – значит, нет.
У Генрика бывали неожиданные выходки, которые завоевывали ему уважение и признание товарищей. Генек вытер ботинок о штанину другой ноги и сказал:
– Ты этого не сделаешь. Это будет не по-товарищески. Один за всех, все за одного.
– Что ты ломаешься?—сказал Юлек.– Чего валяешь дурака? Хочешь нас позлить? Ведь всем известно, что ты пойдешь.
– Почему это известно? – спросил Генрик неуверенное.
Если бы в эту минуту Юлек ответил, что Генрику самому этого очень хочется и он только притворяется, что ему безразлично, все было бы потеряно и дорога на гулянье отрезана. Но Юлек был вежливым и тактичным.
– Потому,– ответил он,– что ты не поступишь с нами по-свински, вот!
Генрик вздохнул облегчением.
– Еще посмотрю,—сказал он добродушно.
Он снова лег и открыл книгу, которую и до этого не читал и сейчас не имел намерения читать.
Ни Юлек, ни Генек не ждала так этого гулянья, как Генрик. Насвистывая, чистили они костюмы, подбирали носки и галстуки, радовались перспективе весело провести вечер.
Генрик страдал.
Мысль об освещенной, кружащейся, веселящейся лужайке под звездным небом, среди молчащих, скрытых темнотой полей и лесов пронизывала его трепетом страха и восторга. Он не притворялся перед Юлеком и Генеком. Он действительно не хотел идти. Он не хотел идти, но это не значит, что он был совершенно уверен, что не пойдет. Собственно говоря, он был уверен, что не пойдет. Был и не был. Чувство очень тонкое и труднообъяснимое, хотя так хорошо всем известное. Даже тем, кто в эту минуту теряет терпение и кому хочется хорошенько меня пробрать: «Ну, что вы тут расписываете? Был уверен или не был? Что за глупости! То или другое. Пожалуйста, решите и не морочьте нам голову».
Вот именно. Если бы все было так просто.
Исключая людей, одаренных железной и несгибаемой волей, каждый время от времени находится в состоянии такой раздвоенности.
Наверно, каждый человек, конечно в разной степени и с разной силой, хотя бы раз переживал такую раздвоенность и принимал одновременно решение что-то сделать (или не сделать) и, наоборот, что-то не сделать (или сделать). В общих чертах дело обстоит так: мы решаем что-то очень твердо, заявляем о нашем безоговорочном решении, даже внутренне убеждаем себя, что наше решение бесповоротно. Мы полны чувства собственного достоинства, гордости и решимости как внешне, так и внутренне и притворяемся, что не обращаем внимания на какого-то чертика, чудовищное созданьице, которое в нас сидит и над нами издевается: «Что ты дурачишься? Зачем ломаешься? К чему делаешь вид, что ты горд и решителен? Ведь тебе отлично известно, что в последний момент ты поступишь не так, как решил, а совсем наоборот». Этот чертик, этот проклятый чертик знает абсолютно все, никогда не ошибается, и напрасно мы с гордым и решительным видом стараемся не слушать его пророческий голос.
Кто этот чертик, эта иронически относящаяся к нам частичка нашей личности, всегда трезвая, всегда рассудительная и никогда не ошибающаяся, хотя так часто отступающая под напором наших соблазнов, промахов и глупостей?
Что это за странное зло?
В тот вечер Генрик действительно не хотел идти на гулянье. Не хотел, так как боялся необыкновенного очарования танцующего луга под звездным небом с танцующей среди скрытого темнотой простора панной Ядей, очарования, которое пренебрежет им и оттолкнет, прикажет стоять, как всегда, в сторонке, как всегда, только наблюдать, а не обладать. Он уже заранее был обижен на это очарование, и это приносило ему большое облегчение. Он сам отталкивает, не его оттолкнули. Спасибо, он благодарит, он не желает, отказывается. Отказывается по собственной воле, ибо так хочет, ибо это его больше устраивает.
Но пока он объяснял себе все это, обосновывал и представлял очарование разрасталось, мучило, казалось все более недостижимым, все более желанным, а чертик хихикал и дразнил:
«К чему эта комедия, эти фокусы? Ведь все равно ты пойдешь!»
Генрик качал головой и действительно начинал читать книжку, которую держал перед глазами.
«Пойдешь, пойдешь, пойдешь,– хихикал чертик, – а не то с ума сойдешь».
«В конце концов,– думал про себя Генрик, притворяясь, будто не обращает внимания на чертика, – можно пойти на минутку, так, для проформы, чтобы ребята не приставали и не думали, что я что-то из себя корчу. Пойду посмотрю и сейчас же вернусь».
«Пойдешь, пойдешь, пойдешь,– шептал чертик,– пойдешь не из-за ребят, а потому, что очарование затащит тебя силой. Пойдешь, хотя знаешь, что оно тебя раздавит, размозжит, превратит тебя в выжатую тряпку. Пойдешь, хотя знаешь, что ничего не ждет, пойдешь, так как веришь в чудо, так как веришь в «а вдруг», пойдешь хотя бы затем, чтобы потом просить у мечты, как подаяния, представить в воображении, как бы там было, если бы было по-другому, если бы ты на это гулянье на лугу под звездами пришел не как глупый, серый и обыкновенный Генрик Шаляй, а приехал в роскошном студебеккере, как американский миллионер, или чемпион по боксу, или знаменитый киноактер из Голливуда, или начальник полярной экспедиции, которого считали погибшим. Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь, пойдешь».
«Не пойду»,– вдруг решил Генрик совершенно спокойно и твердо. Чертик ударил по струнам, извлекая драматическо-патетические звуки, достойные Мефистофеля из «Фауста», которые могли легко привести к истерике и трагическим жестам, но Генрик был спокоен и тверд, он притворялся, что ничего не слышит и вообще не замечает никакого чертика, а действует, руководствуясь исключительно собственным холодным разумом.
—Не пойду,– буркнул он себе под нос.
– Что ты там ворчишь? – спросил Юлек.
– Не пойду,– повторил Генрик ясно и отчетливо,– ни на какое ваше дурацкое гулянье, даже если меня потащат на веревке.
Когда начали спускаться сумерки, Юлек посмотрел на часы и сказал:
– Ну, ребята, пошли, а то всех красивых девушек разберут.
Сначала встал Генек, за ним Генрик, и все трое молча, руки в карманах, сигареты в углу рта, широкими шагами, но медленно и с невозмутимым видом пошли в сторону Бялобжегов.
Генек и Юлек сразу нашли себе партнерш и закружились с ними на сколоченном из досок помосте. Для этих юношей все было ясно и просто.
Генрик смотрел на них с презрением. Партнерши Генека и Юлека, сестры-близнецы, дочери мясника, подпрыгивали с безучастным видом, красные и разгоряченные, с невероятной серьезностью и как будто с легким испугом в глазах. Они были как две капли воды похожи друг на друга, носили одинаковые платья салатного цвета в белый горошек, были недурны собой, довольно полненькие, но крепенькие и здоровые.
Квакали лягушки. Река блестела, гладкая и серебристая, заходящее солнце оставило на горизонте красную полосу, контуры деревьев и домов казались черными. Это был тот редкий момент в природе, когда все окрашено в серебро, пурпур и чернь. Дочки мясника безучастно подпрыгивали в объятиях Генека и Юлека. На расставленных столах, покрытых бумажными скатертями, стояли полные блюда – бутерброды с колбасой, яйца и огурцы, бутылки пива и фруктового вина, необыкновенно живописные пирожные. Отставшая от стада корова вынырнула из темноты и удивленно уставилась на танцующих. Еврейский оркестр играл вальс «Франсуа».
Красный горизонт темнел, очертания становились резче, река была стеклянно-серой.
Сестры-близнецы прохаживались под руку с Генеком и Юлеком, обмахиваясь платками. Они были похожи на богинь плодородия, по их лицам было видно, что они довольны. Где-то далеко-далеко лаяла собака. Генрик заметил панну Ядю. Она стояла под деревом возле накрытого стола, на нее падал свет от качающейся на столбе лампы. Наклонив голову и обняв руками плечи, Ядя смотрела куда-то в сторону, в землю. Она казалась такой прекрасной и такой печальной, что Генрика пронизала беспокойная нежность. Он уже готов был подойти, сказать что-нибудь теплое, милое, может, даже упасть на колени, во всяком случае, пригласить на танец, как вдруг почувствовал в сердце холод. Ведь панна Ядя стоит там такая грустная потому, что Генек и Юлек танцуют с дочками мясника и совсем забыли о ней, оставили ее, бедную, покинутую. Она влюблена в одного из них, это ясно. В которого? Безразлично. В эту минуту Генрик почувствовал такую злобу, такую обиду, стыд и ненависть, что готов был на всякий случай избить обоих.
Панна Ядя неподвижно стояла в овальном медальоне колеблющегося света. Она прихорашивалась для одного из них. Надушилась для одного из них своим одеколоном с запахом акации. И теперь страдает из-за одного из них, прекрасная, полная тепла, трогательная, такая нежная и изящная в своей белой блузке, темно-синей юбке и в первый раз на высоких каблуках.
Ах, избить бы обоих, а потом дать пощечину панне Яде!
Он отвернулся и побежал вдоль Пилицы к березовой роще, не раздеваясь бросился на свою постель в палатке и сразу заснул крепким сном, каким в молодости кончаются все заботы и беспокойства.
Вернувшись в Варшаву, Генрик ходил грустный и задумчивый. Он вынужден был признаться самому себе, что влюблен в панну Ядю. Как он жалел о тех днях, когда мог смотреть на нее в любую минуту. А ведь он никогда с ней не говорил, всегда стоял в стороне, и она могла подумать, что он ею пренебрегает. Если бы он встретился с ней снова, он бы вел себя совершенно по-другому. Смело, естественно. Может быть, она предпочла бы его тем двум олухам? После долгих раздумий и колебаний он решился написать панне Яде открытку.
Дорогая панна Ядя!
Шлю вам сердечный привет из Варшавы. В Бялобжегах было очень приятно, и я надеюсь, что приеду на будущий год, и тогда мы снова увидимся и, может быть вместе сходим на танцы. В тот раз так получилось, что я никак не мог.
Позволю себе пожать ваши ручки и очень сожалею, что на расстоянии.
Генрик.
Он долго колебался, опустить ли эту открытку в ящик, а когда опустил, его охватило отчаяние, что он позволил себе слишком большую смелость и что теперь уже никогда панна Ядя не будет к нему благосклонна.
Она казалась ему такой близкой и дорогой, он был готов ехать в Бялобжеги и просить ее руки, он обдумывал, что скажет родителям о своем отъезде. Каждую ночь она снилась ему, каждый день он думал о ней.
Генрик редко получал письма. Письмо, которое он получил, было розового цвета, его фамилия и адрес были выписаны на конверте крупным ровным и красивым почерком.
Он держал письмо в руках, вертел его, разглядывал и не решался распечатать. Это могло быть, это должно было быть письмо от панны Яди. Ведь он послал ей открытку, чтобы иметь предлог дать свой адрес.
Ему казалось, что он держит в руках не письмо, а медальон с изображением девушки, трогательной, полной тепла, со склоненной головкой обнимающей руками свои плечи, мерцающей в игре света и тени.
Он боялся распечатать это письмо. Боялся, что холодное, чужое или равнодушное содержание уничтожит и разобьет сокровище, которое он нашел под деревом на лугу над Пилицей и с того вечера носил в своем сердце. Весь день он ходил, так и не распечатав письма, шепча про себя трогательные, нежные слова, которых, конечно, не могло быть в этом письме. Временами его одолевали сомнения, и он уже читал в своем воображении слова суровые, карающие, полные упрека: