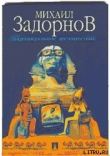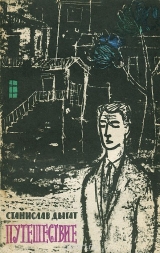
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Проснулся отец, накричал на него и велел лечь в постель. Генрик лег, но сразу же встал и снова принялся слоняться по комнате.
На этот раз проснулась мать и тоже накричала на него. Через минуту она начала гневный диалог с отцом. Наконец все встали.
– Собственно говоря, лучше встать пораньше, – сказала мать.– Надо же навести порядок.
Отец буркнул себе под нос что-то о том, какой это кошмар – проводить отпуск в семейном кругу. Мать приняла это на свой счет, и они поссорились. Янек добросовестно спал. Мир, разбуженный Генриком, мчался прямо в объятия дня.
Генрик ходил из угла в угол и поминутно повторял плаксивым голосом:
– Когда мы пойдем на пляж? .
Он трогал то, что трогать ему было не велено, натыкался на отца, который, намыливая себе лицо, расхаживал по комнате и проклинал сам идею отпусков; мать кричала:
– Перестань путаться под ногами, уймись наконец! – Если ему не терпится,– предложил отец,– пусть что-нибудь съест на скорую руку и подождет нас во дворе. Иначе мы все сойдем с ума.
Вилла выходила на приморский бульвар. Перед виллой был маленький садик, окруженный невысоким забором. Очутившись в этом садике, Генрик вздохнул полной грудью. Крутая черепичная крыша виллы была красочно вписана в сочную синеву неба. Солнце осыпало землю искрящейся пыльцой утреннего тумана. В воздухе что-то звенело, журчало и жужжало. Пролетела пчела. Покружилась над розой и села на нее.
Был слышен шум моря.
Генрик чувствовал себя свободным. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким свободным, и он просто не знал, что с этой свободой делать, как ею воспользоваться. Несколько раз прошелся по усыпанной гравием дорожке от входных дверей до калитки и обратно. Гравий хрустел под ногами. Он остановился у калитки и отодвинул задвижку. Калитка открылась и приятно заскрипела. Генрик решил выйти на улицу. Он был свободен. У него было ощущение, что он впервые в жизни действительно свободен, может входить, выходить, делать, что хочет. В каких-нибудь пятидесяти метрах была видна улица, которая пересекала их улицу и, должно быть, вела к морю. Он мог бы, если бы захотел, встать там на углу и посмотреть наконец на море без всяких помех. Он представил себе совершенно реально, как он увидит там плывущий корабль.
Он вышел и закрыл за собой калитку. Это его немного испугало, он был теперь отделен от дома, ему стало не по себе. Он сделал несколько шагов, но все вокруг внезапно показалось чужим и неприветливым.
«Лучше подождать их,– подумал он,– и пойти с ними».
Он поспешно вернулся в садик, а когда закрывал за собой калитку, в дверях дома появился старик в жилете, высокий, седой и сгорбленный. Он приставил ладонь ко лбу козырьком и разглядывал Генрика.
Чтобы показать себя, Генрик встал на руки, а потом начал высоко подпрыгивать. Старик подошел к нему решительными шагами и заговорил по-немецки. При этом он показывал рукой на улицу.
– Я не понимаю,– тихо сказал Генрик. Он почувствовал, что начинается что-то ужасное.
– Уходи отсюда! – сказал старик на ломаном польском языке. – Это сад частный, здесь играть нельзя.
Генрик оцепенел. Итак, предчувствия его не обманули! Его выгоняют из садика, находиться в котором он имеет полное право. Несправедливость, беззаконие, грубое насилие подавляли, лишали способности понять, что все это только простое недоразумение.
Генрику даже не пришло в голову сказать, что он здесь живет. Он стоял, дрожащий, с опущенной головой.
– Ну!—старик в жилетке взмахнул рукой. – Raus, raus!(Вон!)
Генрик продолжал стоять – он не мог двинуться с места, и тут старик взял его за плечо, вежливо, но твердо подвел к калитке и легонько вытолкнул на улицу.
– Здесь можно играть или на пляже, или в своем садике, но не в моем садике. Это частный садик.
Он тщательно закрыл калитку, повернулся и, пройдя по дорожке так тихо, что гравий даже не хрустнул, дошел до дверей и исчез в них.
Генрик стоял в двух шагах от калитки. Он дрожал от ужаса и отчаяния. Это было что-то большее, чем неприятность. Сознание неотвратимой катастрофы, которая отняла все, что у него было в жизни, поставила его на край пропасти, и невозможно ни перешагнуть ее, ни обойти, ни отступить от нее.
В этом прекрасном городе над морем, в городе, о котором он так мечтал и в котором ждал чудес, была поставлена под сомнение законность его действий, вследствие чего он был выгнан из дому, разлучен с семьей и предоставлен самому себе в чужом и неизвестном месте.
Дети, наделенные богатым воображением, часто утрачивают его в самых неожиданных случаях, необъяснимых и зловещих. Такой случай вырастает до размеров самодовлеющей действительности вне которой уже ничего не может произойти. То же самое, только в ином масштабе и при другие обстоятельствах, случается иногда и со взрослыми. А вообще еще не выяснено, на чем основано такое состояние души. Может быть, оно является результатом здравого рассудка, а не паники. Рассуждения на эту тему завели бы нас слишком далеко, отложим их до более подходящего времени.
Генрику в этом положении не приходил в голову тот простой факт, что сейчас выйдут родители и все тут же объяснится.
Когда наконец родители появились, он успокоился. но только отчасти. В нем осталось смутное ощущение вины, сознание того, что он в конфликте с законностью, и ощущения эти были так сильны, что все соображения о собственной правоте лишались всякого значения.
Родители шли бодрые» примиренные, неожиданно развеселенные солнцем и перспективами модного курорта. Впереди шел Янек. Он нес ведерко, лопатку и формочки для песка, шел, как идет важный чиновник с портфелем в учреждение. Неожиданно за ними показался старик в жилете, в руках у которого были небольшие грабли. 0н весело, вежливо, даже угодливо поздоровался с родителями, обменялся с отцом какой-то шуткой и фамильярно потрепал Янека но голове. Янек не реагировал, даже глазом не моргнул; казалось, важность и достоинство его были неуязвимы.
При виде старика в жилете Генрик тихо вскрикнул и спрятался за дерево. Ему не только не хотелось, чтобы старик в жилете, убедился, что он принадлежит к этой семье и имеет право жить в этом доме, наоборот, он боялся этого. Ему казалось, что, может быть, родители объединятся со стариком в жилете против него, или, может быть, старик, убедившись, что Генрик принадлежит к их семье, прогонит их всех, или же случится что-то еще, что даже трудно предвидеть. Можно ли тут что-нибудь знать?
В то же время признаки явной симпатии и согласия между стариком в жилете и родителями усиливали в нем чувство обиды и бесправия.
Выйдя за калитку, отец остановился и огляделся по сторонам.
– Генек! – позвал он.
Старик в жилете наклонился над клумбой с цветами и стал разрыхлять землю своими грабельками.
– Может быть, он побежал на пляж?—сказала с беспокойством мать.– Это нехорошо. Я не хочу, чтобы он привыкал ходить на пляж один.
– Э, если даже он имел это намерение, то наверняка, в последнюю минуту передумал и вертится где-нибудь около дома,– сказал отец.– Меня иногда ужасно огорчает, что он такой тихоня.
– А я хочу, чтобы он был тихоней, это лучше, чем подвергать себя опасностям.
– Для тебя, Анет, весь мир полон опасностей.
– Да, к твоему сведению. -
– Но так ты воспитаешь Генека слюнтяем.
– Я его плохо не воспитаю. Только вот и сомневаюсь, хорошо ли влияет на его воспитание, то что ты болтаешь при нем разные глупости.
– А я,– сказал отец торжественным тоном и с чувством собственного достоинства,– сомневаюсь, хорошо ли для воспитания сына, если он слышит от матери, что его отец болтает глупости.
Хорошее настроение рассеялось в пустом и мелочном споре.
Минуту шли молча и старались, ослепленные солнцем и синевой первого дня отдыха, о котором столько мечтали, сдержать теснящиеся, издавна накопившиеся обиды, упреки и претензии.
Миновали дерево, за которым стоял Генрик.
– В конце концов,– тихо сказала мать,– я это говорю не при нем, мой дорогой.
– В данную минуту нет,– сказал отец так же тихо.– Бывало, однако, что нечто в этом роде ты говорила и при нем.
– Выдумываешь.
– Припомни хорошенько.
Речь шла уже не о Генрике, не о его воспитании. Даже не о деликатном вопросе взаимного уважения. Они – как два завистливых поэта, которые, не желая сказать, что они думают друг о друге, препираются в неудержимой потребности поспорить на тему, что лучше– разбивать ли яйцо, сваренное всмятку, ложечкой или обрезать ножом, и приводят в недоумение непосвященных свидетелей тем, что способны в этот пустяк вкладывать столько пыла и ярости.
Когда, почти забыв о существовании пропавшего Генрика, они так же молча свернули вправо, Генрик, уверенный, что старик в жилете, стоящий к нему спиной, занят расчисткой грядок, выскочил из-за дерева и догнал родителей.
—А, это ты, – сказал отец с облегчением, радуясь, что нашелся предлог избежать войны или хотя бы отсрочить ее.
Оба начали резко упрекать Генрика, нелогично, непоследовательно. Оба чувствовали облегчение, что нашелся объект, против которого можно объединиться.
Однако гнев родителей принес Генрику успокоение. Он ощутил возвращение ритма повседневных событий, а после пережитого потрясения повседневность была пределом его мечтаний. Он не рассчитывал уже ни на какие необычайные и чудесные события. В то же время, едва только ритм повседневных событий обрел норму, нависла новая, еще не совсем определившаяся угроза: ведь, возвращаясь с пляжа, они должны пройти через садик, а значит, могут опять встретить старика в жилете. Трудно рассчитывать на то, что ему можно будет как-нибудь проскользнуть, пробраться незамеченным. Наконец, даже если бы это удалось, успех был бы весьма сомнительный, так как до конца их пребывания здесь ему предстоит по нескольку раз в день терпеть муку, выходя из дому и возвращаясь домой.
Когда дошли до пляжа, отец сказал торжествующе: – Пожалуйста. Вот твое море, которое ты так жаждал увидеть.
Генрик бессмысленно смотрел перед собой, и неожиданно ему пришло в голову: человек в жилете уже стар, значит, может случиться, что он вдруг умрет.
И тут же он испугался, что так подумал. За такую мысль господь бог может наказать его собственной смертью, или смертью родителей, или Янека, или всех их вместе.
Отец смотрел на Генрика с такой улыбкой, как будто сам сотворил море и ждал за это заслуженных похвал. Однако он не мог прочесть на лице Генрика ни восхищения, ни даже интереса; улыбка начала мешать ему, как непрошеный гость, и он странно скривил губы.
Мать тоже смотрела на Генрика выжидающе. Генрик мучился, так как чувствовал, что на нем лежит какая-то ответственность, что он должен как-то реагировать, что-то изобразить на своем лице, а это ему не удавалось.
– Интересно,– сказала наконец мать.—Сильные впечатления не проявляются у детей никакими видимыми признаками. Только глядя на Генека, я понимаю что значит «остолбенеть от восторга».
Отец облегченно вздохнул, и лицо его приняло спокойное выражение.
– Ну, ну, привыкнет, а через несколько дней море будет для него таким же обычным, как воздух и земля,—сказал он, гладя по голове Генрика, который делал над собой огромные усилия, чтобы казаться остолбеневшим.
К его тревоге прибавилось еще чувство досады на то, что он обманывает родителей.
Все это время Янек смотрел на море испытующе, наморщив лоб и сжав губы, как директор фабрики автомобилей на новую модель или как шахматист на неожиданный ход противника, который хотя и не озадачил его, но, во всяком случае, заставил призадуматься.
– Этот не много еще понимает,—сказала мать растроганно, с некоторым пафосом.
– Э, что тут понимать, рассердился вдруг отец неизвестно почему. – Что тут вообще понимать? Что вы носитесь с этим морем! Пошли!
Мать пожала плечами и вздохнула так, что это могло бы дать повод к новой стычке, но отец уже был далеко и не услышал этого вздоха.
У женщин имеются такие особенные вздохи, защитно-наступательные, которые формально должны выражать, что они существа слабые, бессильные и забитые, а на самом деле содержат скрытый заряд необыкновенно острого и агрессивного пренебрежения.
Когда наконец все улеглись на песке, отец, снова веселый и беспечный, вдруг крикнул:
– Ну, ребята, теперь прыгайте, бегайте, стройте замки из песка, а когда солнце поднимется повыше, пойдем купаться.
Мать раскрыла розовый зонтик и вздохнула.
– Замки из песка. Да, да, замки из песка.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил отец.
– Ничего. Разве всегда нужно что-то чем-то сказать? Просто повторила: замки из песка.
– Ага! А зачем закрываешься от солнца? Загорай!
Для чего? Чтобы были веснушки?
Янек сейчас же начал играть, максимально используя весь предназначенный для морских игр реквизит. Трудно было, собственно, назвать это игрой. Деловитость, ответственность, большие, но рациональные затраты, целеустремленность начинаний, неиссякаемая энергия, подвижность – все создавало впечатление, что это не маленький ребенок играет на песке, а взрослый человек борется с природой, улучшая условия жизни человечества.
Генрик лежал, съежившись, в некотором отдалении от родителей.
– А долго мы будем сидеть на пляже? – вдруг спросил он.
– Вот тебе и на! – воскликнула мать. – Сначала измучил всех, чтобы скорее шли, весь дом поднял на ноги ни свет ни заря, а теперь уже хочет обратно.
– Это, к сожалению, для него типично,– огорченно сказал отец.– Краткодействующий запал и энтузиазм, а потом сейчас же скука. Ты, может быть, вообще хотел бы вернуться в Варшаву?
Генрик едва сдержался, чтобы не крикнуть: «В Варшаву, да, да, в Варшаву!»
—Вставай немедленно! – крикнул отец.– Бегай и играй! Хватит ныть!
Мать это раздосадовало.
– Оставь его в покое. У него столько впечатлений, он устал. К тому же он не выспался, пусть отдохнет. Нужно, в конце концов, понимать ребенка.
– Эх,– вздохнул отец,– если бы меня так кто-нибудь понимал.
– Знаешь, ты иногда бываешь очень странный,– сказала мать.
– Для тебя я всегда странный. Позволь тебе сообщить, что я знаю об этом и очень тебе сочувствую. Но позволь тебе сообщить также, что ты тоже странная. Ты все принимаешь всерьез, и при тебе даже пошутить нельзя.
Все трое долгое время молчали. Мать отдыхала полулежа. Со своим зонтиком она напоминала даму из стенного календаря.
Наконец отец снова заговорил:
– Всегда, когда Генрик слишком вежлив и слишком спокоен, я подозреваю, что он или болен, или у него совесть нечиста. Признайся, в чем ты провинился?
Он сказал это в шутку, чтобы расшевелить Генрика и вообще восстановить спокойствие. Но в тот день ничего никому не удавалось.
– Ого! – воскликнул он,– смотрите. Даю слово, он покраснел. Ну, признавайся во всем.
– И вовсе он не покраснел, он красный от солнца,– сказала мать,– Чего ты от него хочешь?
– Боже! – воскликнул отец, разводя руками. —Неужели действительно с вами никогда нельзя пошутить? Разве должно быть мрачно и серьезно? Хорошо! Хорошо, раз уж вам этого хочется!
Он хотел было демонстративно повернуться к ним спиной и вдруг издал радостный крик:
– Генек! Смотри, какой красивый пароход.
Со стороны Гданьска недалеко от берега шел большой пассажирский пароход.
– Папочка, спросил Генрик, – сколько лет тому господину?
– Что?
– Тому господину. Ну, тому, в жилете, у которого мы живем. Сколько ему лет?
– А какое мне до этого дело, черт возьми! – закричал отец в отчаянии.– Что вы все сегодня ко мне пристали?
Он вскочил, смешно подпрыгивая, побежал к морю бросился в воду.
В ту же минуту вскочила и мать, так как Янек стукнул ведерком по голове какую-то девочку, которая взяла его формочку для песка.
Генрик вздохнул с облегчением. Наконец-то он побудет один, не возбуждая ни в ком никаких подозрений.
С пляжа они возвращались утомленные жарой, разбитые, разморенные, растаявшие, как леденцы на залитой солнцем витрине магазина. Кожа у всех была безобразного огненного цвета, они были похожи на поросят, и никому не хотелось ни спорить, ни даже разговаривать. Только Янек как-то умудрился остаться таким же свежим, он не устал и не обгорел, шагал бодро и имел вид довольного собой чиновника, который возвращается домой после плодотворно проведенного дня.
В садике их приветствовал веселыми возгласами старик в жилете. Он обменялся с отцом шутливыми замечаниями по поводу солнца, воды и воздуха, а увидев Генрика, который старался спрятаться за спину отца, сказал:
– О, у вас есть еще и старший сын? Это хорошо, очень хорошо!
Неизвестно, что должна была означать эта похвала. Старик в жилете погладил Генрика по голове.
Трудно сказать – может быть, он его не узнал или считал, что утренний инцидент не стоит того, чтоб о нем вспоминать.
Можно было считать, что отчаянное положение, в какое попал Генрик, было благополучно улажено и что больше нечего бояться неприятных последствий.
Так оно в известной степени и было. Однако до конца каникул при каждой встрече со стариком в жилете Генрик чувствовал неуверенность в своей легальности и каждую минуту боялся, что она может быть подвергнута сомнению.
3
В четвертом классе гимназий Генрик подружился с Юреком Малиновским.
Дружба, как и любовь, часто возникает из недоразумения. Это похоже на то, как мы иногда останавливаем на улице незнакомого человека, приняв его за приятеля. Но в таком случае достаточно сказать: «Извините, это ошибка» и можно спокойно идти дальше. Если же два человека, будь то друзья или влюбленные, приходят к выводу, что прожитое вместе время было чем-то вроде уличной ошибки, сказать: «Извините, это ошибка» недостаточно и пойти спокойно дальше, пожалуй, не удастся.
Они должны взять реванш за свои загубленные чувства, должны дать какой-то выход накопившемуся раздражению. То, чего уже нельзя совершить в любви, пусть совершится хотя бы в ненависти.
И, таким образом, потерянное время будет расти и расти в изнурительных интригах возмездия, которыми руководит уязвленная гордость —это странная поза, которую человек принимает почти всегда не тогда, когда нужно, и себе же во вред.
Когда Генрику было четырнадцать лет, он влюбился в Мери Пикфорд, популярную в то время киноактрису, игравшую роли подростков. Любовь к киноактрисам в юношеские годы – самое чистое, самое красивое и самое бескорыстное чувство. Поэтому не правы взрослые, презирая и высмеивая ее, а иногда даже борясь с нею. Она дает нам также пережить возвращающееся позднее уже только в снах тепло самого жаркого и самого нежного пламени, у которого можно было бы согреться и в жизни, если бы людей не охлаждали их необузданные необоснованные стремления, если бы среди них не проказничали злые духи повседневных забот, так часто вырастающие в могучих демонов.
Любовь действовала на Генрика облагораживающе. Учился он хорошо, дома был вежлив и предупредителен. Он любил мир и любил человечество, а одно время подумывал даже, не стать ли ему в будущем святым. Однако ряд запретов, необходимых для достижения такого совершенства, исключающих его участие в светской жизни, заставил его отказаться от карьеры на этом поприще. Он скорее склонялся к чему-нибудь такому, что, наряду со служением человечеству, не исключало бы участия в радостях жизни.
Он стал очень впечатлительным. Читал стихи, восхищался красотой природы, его задевало и ранило все крикливое, грубое и ординарное. Из-за этого он мог стать посмешищем в школе, но его спасало то, что он был прекрасным спортсменом и завоевал первенство школы по теннису.
Из всех одноклассников меньше всего годился ему в товарищи Юрек Малиновский. Это был мальчик развязный и шумный, грубиян, употреблявший уличные выражения, охотно затевавший драку с теми, кто послабее, интересовавшийся главным образом газетной уголовной хроникой, а о воспитанницах соседней гимназии говоривший в таких выражениях, которые заставили бы покраснеть даже героев рассказов Марека Хласко.
Было очевидно, что у Генрика не может быть с ним ничего общего. Потому-то за столько лет совместного посещения школы они не сказали друг другу ничего, кроме общих, ничего не значащих слов.
Однажды Генрик возвращался домой. Как обычно —кружным путем, чтобы пройти мимо кинотеатра «Пан» на Новом Святе, где шел «Подросток» с Мери Пикфорд. Из-за этого кружного пути он всегда опаздывая к обеду, а горькие упреки матери принимал молча и с той внутренней пламенной гордостью, которую испытывают безвинно преследуемые за благородное дело.
Когда с обычным блаженным восхищением и сладкой тревогой он остановился перед хорошо ему известными снимками, он услыхал позади себя голос:
– Хочешь пойти? Советую. Превосходная вещь. Я был уже два раза.
Генрик оглянулся. За ним стоял Малиновский, приятно и мило улыбаясь.
– Ну,—сказал Генрик,–я был уже четыре раза. – Он солгал. Он тоже был только два.
– Ты её любишь? – спросил Малиновский.
Он не сказал; «Ты любишь Мери Пикфорд?», а только: «Ты её любишь?» В этом «ее», произнесенном с особенным ударением, как будто заключалось скрытое предложение более глубокого союза. Таким образом не знакомые друг с другом единомышленники, встретившись, пробуют каким-нибудь им одним известным словечком обнаружить друг друга.
– Люблю? —Генрик засмеялся, откинув назад голову как это делал отец, когда кто-нибудь, кто не знал о том, что он считается в Польше лучшим игроком в бридж, спрашивал его, любит ли он эту игру.—Люблю? Это, безусловно, лучшая актриса в мире.
– И самая красивая,– добавил Малиновский. Само собой разумеется,– подтвердил Генрик. – Хочешь, я покажу тебе один ее снимок, который я лично считаю самым лучшим.
—О, я хорошо знаю этот снимок,– сказал Юрек. —Но не уверен, что он самый лучший. Предпочитаю другие, из картины «Полианна».
Они спорили недолго, но деловито, с той взаимной симпатией и взаимным признанием, когда несущественная разница мнений лишь свидетельствует о совместном энтузиазме, направленном на общее дело.
Малиновский проводил Генрика до дому. По пути говорили о фильмах с Мери Пикфорд. Прощаясь, они условились, что в субботу пойдут вместе еще раз на «Подростка».
«Как обманчива внешность,– думал Генрик.– Ведь этот Малиновский порядочный, симпатичный и интеллигентный парень».
Любовь к киноактрисам имеет еще ту хорошую сторону, что соперничество не разъединяет, а объединяет, и притом без оговорок, без скрытых поддразниваний и конфликтов.
На другой день в школе они избегали друг друга, как влюбленные, которые избегают друг друга после первого поцелуя, желая сохранить свои иллюзии и боясь, что прекрасное чувство может сказаться только мимолетным капризом одной из сторон.
Но на второй перемене Малиновский подошел к Генрику и сказал, смущенно улыбаясь:
– Знаешь... я принес несколько ее фотографий. Хочу тебе показать.
– А знаешь, я тоже принес,—сказал Генрик.
– Прекрасно, давай обменяемся.
Они пошли смотреть фотографии в уборную. Как будто затем, чтобы их не отнял какой-нибудь учитель, а на самом деле потому, что стеснялись товарищей.
С этого времени они стали неразлучными друзьями. Вместе шли после школы домой, рассказывали друг другу интересные подробности из своей жизни, говорили о том, что будут делать, когда вырастут. Если бы кто-нибудь внимательно прислушался к их разговорам, то заметил бы, что говорит один Генрик, а Малиновский только поддакивает. Оба они хотели уехать в Америку, и каждый мечтал стать кем-нибудь – они не могли точно определить кем, но, во всяком случае, каким-нибудь великим и благородным искателем приключений, который защищает угнетенных и громит эксплуататоров. Малиновский утверждал, что он уже был в Америке в детстве со своим отцом, и рассказывал о своих приключениях. Генрик знал, что он врет: рассказы были убогие, лишенные всякой фантазии, абсолютно неправдоподобные– неуклюжие заимствования из американских фильмов и романов,– и, однако, он слушал их с удовольствием.
Если раньше случалось, что Генрик иногда обменивался с товарищами критическими замечаниями о характере и поведении Юрека Малиновского, то теперь он резко реагировал, если кто-нибудь в его присутствии осмеливался сказать о Юреке что-нибудь плохое.
Товарищи, хорошо знавшие Генрика, не могли надивиться, видя, как он восхищается грубыми выходками Малиновского.
Однако общая любовь к предмету, столь мало конкретному, как актриса из американского кинофильма, не могла быть источником вечного согласия. Чем больше мальчики сближались и отношения их делались фамильярнее, тем чаще страдал Генрик от грубости Малиновского. Испытанные на собственной шкуре, эти выходки уже не казались Генрику невинными и заставляли пересмотреть такие понятия, как темперамент, жизненные силы и индивидуальность. Генрик еще пытался находить оправдание всему, что исходило от Малиновского, однако это было все труднее и труднее.
С момента встречи у кино «Пан» Малиновский считал Генрика чем-то вроде своей собственности. Он купил его недешево, платил полноценной монетой, преклоняясь перед Мери Пикфорд. В действительности Мери Пикфорд нравилась ему не больше, чем другим мальчишкам, которым она должна была нравиться совсем как варшавская гимназистка. Он всегда считал, что дает большое доказательство своей дружбы и поступает необыкновенно тонко, льстя чувствам Генрика и притворяясь влюбленным более, чем это было на самом деле. На этом основании он считал вполне естественным, что хлебный квас, семечки, ириски «Альфа», «Американку», билеты в кино и все аттракционы оплачивает Генрик. Через неконтролируемые границы его сознания свободно проникало убеждение, что Генрик должен быть ему благодарен до конца жизни. Это убеждение было так сильно, что заглушало всякие сомнения по поводу оснований для благодарности. Генрик же был некоторое время так ослеплен, так изумлялся и восхищался всем, что исходило от Малиновского, что не видел ничего плохого в том, что тот залезал к нему в портфель, ел его яблоки и сардельки, брал его книги и школьные принадлежности, когда хотел.
Как-то раз Генрик машинально взял карандаш Малиновского, не спросив его разрешения. Малиновский вырвал у него карандаш и грубо выругался. Генрик почувствовал странный холод в сердце, ему стало ужасно стыдно.
Во второй половине дня они пошли в кино на фильм c новой звездой, пользовавшейся все растущей популярностью,– Кларой Боу. По дороге Малиновский рассказывал, не выбирая выражений, подробности из личной жизни своей сестры, за которой он иногда подглядывал в замочную скважину. Генрик, раздраженный, буркнул:
– Это мерзко. И вообще все это меня не интересует. Прошу тебя не рассказывать мне такие вещи.
Малиновский не ответил. Это случилось впервые. Он испытал чувство, которое, вероятно, испытывали сатрапы, получив известие о бунте рабов. В кино на замечания Генрика он холодно цедил сквозь зубы, а после кино сейчас же попрощался, отказавшись выпить на углу кружку хлебного кваса.
На другой день в школе Малиновский держался высокомерно и сдержанно, а на большой перемене заявил Генрику:
– Утверждаю, что Клара Боу – высший класс, а Мери Пикфорд ей в подметки не годится.
– Что ты сказал? – спросил Генрик. Он был уверен, что ослышался.
– Рядом с ней она кажется просто смешной.
Малиновский презрительно засмеялся и отошел, оставив Генрика в полном замешательстве.
Малиновский ни одной минуты не думал о том, чтобы порвать выгодную дружбу с Генриком. Клара Боу или Мери Пикфорд – обе одинаково мало его трогали. Он хотел только проучить Генрика за попытку к бунту, целясь в самое больное место. Хотел продемонстрировать свою независимость, укрепить свое главенствующее положение в их дружбе.
Но Малиновский переборщил. То, что он сказал, явилось для Генрика серьезным потрясением. Это было уже не только богохульство, оскорбление идеала. Выходка Малиновского серьезно поколебала основы многих суждений Генрика и его уверенность в самом себе. Отпала единственная причина ослепления, из-за которого, несмотря на охватывающие его порой сомнения Генрик терпел Малиновского,—с этой минуты он увидел в нем обыкновенного хама и шалопая, а сам себе казался круглым болваном. Когда рушится вера в мифы, это приводит человека к мысли, что он болван. Подобные выводы для человека нетерпимы. Поэтому он пытается всеми возможными способами склеить, спасти этот рушащийся миф, сохранить его. Генрик после лихорадочных и противоречивых размышлений на уроке истории, во время которого учитель несколько раз делая ему замечания за его рассеянность, пришел к выводу, что было бы наивно и глупо порвать дружбу из-за такого пустяка, как различные точки зрения по поводу двух идеалов, и решил не придавать этому инциденту значения.
После уроков, как обычно, он подождал Малиновского и по пути домой сказал:
– Если Клара Боу тебе нравится больше, это твое дело. Я продолжаю считать, что Мери Пикфорд выше всех женщин в мире. Она недостижимый идеал. Рядом с ней твоей Кларе Боу нечего делать.
Малиновского это застигло врасплох и смешало его планы. Он имел намерение подразнить Генрика, а потом, насладившись его унижением, взять свои слова обратно и сказать, что он пошутил. Он был глуп, но природная хитрость подсказывала ему, что единственной основой этой выгодной для него дружбы может быть их общее поклонение Мери Пикфорд. Неожиданная терпимость Генрика разозлила его: он перестал понимать, что происходит, а пренебрежение приятеля к Кларе Боу задело его самолюбие. Он вдруг на самом деле почувствовал себя ее горячим почитателем.
– Разумеется,– ответил он, принужденно улыбаясь. —Ты совершенно прав. О вкусах не спорят. Разреши, однако, выразить тебе соболезнование: у твоего идеала кривые ноги.
—Кривые ноги! – воскликнул Генрик.– На такую клевету не стоит даже отвечать! Все знают, что у нее самые прямые ноги в мире. Каждый это подтвердит. Я даже считаю, что они слишком прямые. Если уж можно было бы к чему-нибудь придраться, так это именно к тому, что они слишком прямые. А если бы у нее действительно были кривые ноги, то я бы сказал: лучше иметь кривые ноги, чем косые глаза. Вот!
Малиновский с притворным изумлением поднял брови.
– Прости,– сказал он,– но я не понимаю, куда ты клонишь.
Они как раз проходили мимо газетного киоска. Генрик остановился перед выставленным там журналом с большой фотографией Клары Боу на обложке. Клара Боу не была косоглазой, но на этом неудачном снимке она косила. Генрик смотрел на нее и громко смеялся. Малиновский стоял за ним в зловещем молчании. У Генрика от смеха тряслись плечи, он смеялся так, как будто его рассмешил этот случай сам по себе, без связи со всем остальным, и притворялся, что забыл о присутствии Малиновского.