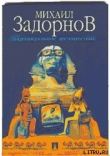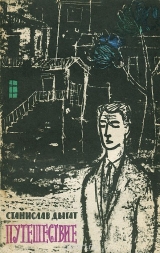
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
«Право, не знаю, неужели я дала тебе повод безнаказанно обижать меня такой дерзостью...»
К вечеру он оказался в Лазенках и сел на скамейку, на мгновенье закрыв глаза, прижал письмо к груди и резким, отчаянным движением распечатал его.
Пан Генрик!
Не прибавляю к обращению ничего, так как боюсь, чтобы вы не рассердились, но вы сами должны догадаться. Я очень обрадовалась вашей открытке, так как подумала, что, может быть, вы меня не так уж не любите, как я думала, потому что вы никогда не хотели со мной разговаривать, даже не смотрели на меня. Еще бы. Не на что. Там, в Варшаве, наверно, такие девушки, на которых и посмотреть приятно и стоит поговорить. Но хотя я некрасивая и неумная, все-таки вы обо мне вспомнили, отчего я несколько дней ходила такая счастливая, что вы не можете себе представить. Я бы вам сказала, что о вас говорили все девушки в Бялобжегах, когда вы уехали, но не хочу, а то вы начнете воображать. Пожалуйста, не сердитесь, но я иногда о вас думаю, а два раза плакала, что вас уже здесь нет, и я не могу хотя бы вас увидеть. Нет. Три раза плакала. Потому что один раз плакала, когда вы не пришли на гулянье на луг, а я думала, что вы придете, и только ради вас я туда собиралась, и наряжалась, и надушилась «акацией», так как в «Звене» сказали, что вы этот запах любите, а вы не пришли, и я плакала. Пожалуйста, напишите мне еще когда-нибудь хоть словечко, а если бы вы когда-нибудь захотели приехать, то я бы, наверно, умерла от радости, потому что вы даже не знаете, а я вам ничего не скажу.
Очень извиняюсь.
Ядя.
Генрик долго еще сидел на скамейке, растерянный и пораженный. Он чувствовал, что не хочет, не желает отказываться от того, что еще минуту назад было самой нежной и самой сокровенной сущностью его мечтаний. Первый раз в жизни женщина признавалась ему в своих чувствах. Это наполняло его паническим страхом и смятением. Ему казалось, что кто-то посягает на его физическую целостность, бесцеремонно домогается права на интимность. То, что еще минуту назад казалось ему мерцающим сиянием тепла и нежности, превратилось вдруг во что-то тепленькое и душное. Генрик скомкал письмо, которое неприятно жалобно зашелестело. Он встал со скамейки и пошел к выходу. По дороге он бросил смятое письмо в урну. Лицо его исказила какая-то пренебрежительная, не свойственная ему гримаса. Он чувствовал себя подлецом. И только оказавшись на Иерусалимских аллеях, пришел в себя. Ему было тошно и стыдно.
Ему очень хотелось убежать, но он не знал, от кого и куда.
7
Генрик познакомился с Олей, когда был на втором курсе факультета истории искусств. Теперь он все чаще с грустью думал: кому нужна история искусств? Вначале ему казалось, что именно здесь он найдет удовлетворение своих несбывшихся артистических стремлений, но довольно скоро понял, что на этом пути искать удовлетворения бесполезно.
Своих сомнений он не открывал никому. Он чувствовал то, что чувствует путешественник, который в пути узнает что сел не в тот поезд, но стыдясь обнаружить свою ошибку, никому об этом не говорит и только терпеливо ждет первой станции, на которой сможет сойти.
Отец был очень недоволен избранной Генриком специальностью.
– Что это вообще такое?—спрашивал он с раздражением.– Человече! Нужно ведь иметь какую-то профессию. Профессию. Такие вещи можно изучать, будучи любителем, но в наше время надо обязательно иметь профессию.
Быть может, такая позиция отца и повлияла на то, что, вопреки собственному желанию, Генрик не бросал избранный факультет. Его возвышало в собственных глазах то обстоятельство, что его занятия и энтузиазм не поняты и даже как будто преследуются.
Домом правили обычные житейские трудности. Отец уже не предсказывал скорых перемен к лучшему, работал в министерстве на средней зарплате. Во всем царил дух кроткого смирения, который в свою очередь порождал атмосферу, типичную для варшавского обывателя. Они продали виллу и переехали в трехкомнатную квартиру на Вильчей улице. Отец по вечерам читал газету, мать штопала и пыталась бороться с беспорядком, который, однако, всегда оказывался сильнее ее. Генрик мечтал о том, чтобы стать самостоятельным и уйти из дома. Тем временем он пассивно наблюдал, как его все более засасывает обыденность, чувствовал, удивляясь и сознавая свое бессилие, как в скуке, дремоте, отсутствии интереса к миру медленно тают на Вильчей улице все его еще недавно такие светлые упования, как тускнеют и исчезают стремления и даже мечты,
Янек преподнес всем сюрприз. Получив аттестат зрелости, он поступил в драматическую школу. Атмосфера дома не влияла на него ни в малейшей степени. Могло показаться, что такое экстравагантное решение он принял в знак протеста, если бы он когда-нибудь и сколько-нибудь с домом считался.
По отношению к Генрику он не изменился. С ним он не разговаривал и обращался к нему только в самых необходимых случаях. Трудно утверждать, следовал ли он при этом определенному решению или же ему просто не о чем было с Генриком говорить. Генрик занимался мало, много спал, читал книги, которые большей частью вызывали у него скуку. Ему шел двадцать второй год, и женщин он еще не знал. Он не умел проявить инициативу, а если случай представлялся, его охватывал страх, и он убегал.
С Олей он познакомился случайно, и потом всегда считал этот случай странным и, может быть, даже немного сверхъестественным.
Оля 3., известная художница, была в Варшаве личностью весьма популярной. Ей было тогда около тридцати лет, и она пользовалась большим успехом у мужчин. Пожалуй, не особенно красивая, она обладала необыкновенным женским обаянием, тем обаянием, которое так очаровывает мужчин и которое состоит из сочетания детской наивности с распутством. Оля не была ни наивным ребенком, ни распутницей. Обаяние женщин – свойство, касающееся вещей исключительно внешних, свойство, так сказать, рекламное, и оно ни в коей мере не объясняет черт их характера. Оля была прежде всего темпераментной актрисой. Это был тип женщины сугубо современной, сегодня, быть может, уже устаревший, тип женщины абсолютно независимой, демонстративно независимой, уравненной в правах с мужчиной наперекор природе даже в сексуальной жизни, женщины, которую не может уязвить никакая обида, женщины умной, умнее своей эпохи и ее предрассудков.
Генрик увидел ее однажды на улице, в тот момент, когда она застегивала чулок. Она не вошла в подъезд, как это в большинстве случаев делают женщины, но совершенно непринужденно, может быть даже демонстративно, застегивала чулок посреди тротуара. Генрик знал ее в лицо, знал отлично, кто она. Эта картина показалась ему такой прекрасной, что он не мог удержаться, чтобы не оглянуться. Он даже на мгновенье остановился. Оля посмотрела на него и показала язык. Генрик отвернулся и хотел бежать, но она позвала его:
– Эй, молодой человек, подите-ка сюда на минутку! Он стоял в нерешительности, не зная, подойти к ней или бежать. Наконец она застегнула чулок, одернула платье и старательно пригладила его ладонями. Казалось, она уже забыла о том, что остановила его. Генрик хотел незаметно отойти, но она снова крикнула:
– Эй, молодой человек. Разве вы не слышите, что я вас зову?
Генрик, красный и смущенный, подошел к ней и неуклюже поклонился. Оля нагнулась и взяла завернутый в бумагу большой подрамник, прислоненный к стене.
– Возьмите-ка это,– сказала она,– и помогите мне донести.
Она посмотрела ему в глаза и засмеялась.
– Боже, какой вы смешной. Если бы вы могли себя видеть!
Генрик почувствовал вдруг злость и внутреннее сопротивление.
– Если вы задерживаете меня только для того, чтобы надо мной смеяться, то в таком случае разрешите откланяться.
Он передал ей подрамник и поклонился.
– Прощайте.
Однако он не ушел, а продолжал стоять и смотреть на нее. Она казалась ему такой красивой, что он не мог оторвать от нее глаз.
Оля перестала смеяться, и лицо ее приняло серьезное выражение.
– Простите меня. Мне очень неприятно, если я вас обидела. Вы очень молоды и не понимаете, что я просто хотела показать вам свое расположение. Если вам это безразлично, пожалуйста, идите.
Генрик стоял неподвижно и смотрел на Олю. Оля снова начала смеяться.
– Но, право же, вы такой забавный, что я не могу удержаться! Поймите, это же комплимент, это очень хорошо, когда мужчина кажется женщине забавным.
Генрик продолжал стоять неподвижно и смотреть на Олю. В нем произошло что-то такое, что он не мог даже шевельнуться. Он стоял, вытянувшись, как солдат по стойке смирно, и вдруг тоже начал смеяться.
– А вы над чем смеетесь? – спросила Оля.– Надо мной?
– Не знаю. Ах, нет. Над собой. Тоже, пожалуй, над собой.
– Кто вы, собственно, такой? – спросила Оля, морща брови.
– Меня зовут Генрик Шаляй,– выпалил Генрик, продолжая стоять «смирно»,– я студент факультета истории искусств.
– А, истории искусств! – воскликнула Оля.– Это замечательно. Наконец-то студент-искусствовед на что-нибудь сгодится. Возьмите, пожалуйста, этот подрамник и помогите донести.
Генрик взял подрамник из рук Оли. Он смотрел на нее. Смотрел ей в глаза, вернее, не смотрел, а присматривался к ее глазам. Подрамник упал на землю. Генрик испугался, что Оля упрекнет его в неловкости, но она ничего не сказала. У нее были умные и живые зеленые глаза.
Генрик почувствовал вдруг прилив гордости и счастья. Ему казалось, что все смотрят на него с удивлением и завистью. Он шел рядом с такой прекрасной, необыкновенной женщиной, которой до этого дня восхищался только издали. Все это случилось так неожиданно. В течение нескольких секунд из неприметного прохожего он был превращен в блестящего героя. Серая обыденность преобразилась вдруг в сверкающий солнцем и лазурью мир исполненных мечтаний. В действительности Генрик никогда не мечтал о том, чтобы идти по улице рядом с Олей, но мог бы и мечтать. Просто как-то так не случилось, не пришло в голову. Но могло прийти. Дело случая. Вещь совершенно формальная. Рассуждая практически, Генрик имел право радоваться и упиваться исполненной мечтой.
Оля шла, наклонив голову, наморщив лоб, как будто думала о чем-то очень серьезном. Она внезапно утратила всю свою жизнерадостность и задор и выглядела озабоченной.
Позднее она не раз говорила Генрику:
– Не понимаю и никогда не пойму, как это случилось, что я тебя тогда остановила на улице. Это действительно за меня решила судьба. Видимо, не могло быть иначе. Ведь я никогда в жизни ничего подобного не делала, и вообще это не в моем стиле. Когда мы шли тогда вместе, я вдруг испугалась того, что наделала, и подумала: Иисусе Мария, что этот мальчик обо мне подумает? Я очень удивилась, поймав себя на том, что мне не все равно, что ты обо мне подумаешь.
Генрик тоже твердо верил, что сама судьба предрешила его встречу с Олей.
Судьба так судьба. Однако этот факт, что любовь между двумя людьми часто решает какая-нибудь смешная и случайная мелочь, о которой никак нельзя подумать, что она вообще может что-либо решить, а не только такую необыкновенную вещь, как любовь.
У Оли была увеличена щитовидная железа, ее иногда охватывало возбуждение, которое должно было каким-то образом разрядиться. Как раз в таком состоянии она и была, когда поправляла чулок, и поэтому остановила Генрика. Потом она почувствовала себя неловко, поняла, что сделала глупость, и думала только о том, как бы от этого парня отвязаться, а вовсе не о том, что он о ней подумает. Конечно, не следует считать, что, когда позднее она рассказывала Генрику все это по-другому, она его обманывала. В ее сознании это стало настоящей правдой, а значит, фактом. Так, а не иначе развивающиеся события вносят небольшие в прошлое коррективы и определяют конечную инстанцию истины. В тот момент Оля считала, оценивая случившееся в целом, что сделала что-то глупое и ненужное. Если бы вслед за этим не случилась пустяковая, смешная неожиданность, определившая дальнейший ход событий, то истиной, содержавшейся в убеждении Оли, что она сделала что-то глупое и ненужное, должна была бы остаться мысль, что ей следует каким-то образом от Генрика отвязаться. Но так как все же пустяковая, смешная мелочь последовала и придала дальнейшему течению событий прекрасный, искренний и трогательный характер, то истиной, содержащейся в убеждении Оли, что она сделала что-то глупое и ненужное, должна была стать прекрасная, трогательная и нежная мысль: Иисусе Мария, что этот мальчик обо мне подумает?
Во всяком случае, не известно, каким образом развернулись бы дальше эти события, если бы у Генрика не развязался вдруг шнурок. Мало того, что развязался. Развязался настолько, что ботинок чуть не слетел у него с ноги.
Генрик был в отчаянии. Ему казалось, что это уже конец, что так комично и нелепо кончилась первая в его жизни минута настоящего счастья. Он проклинал сапожников, шнурочников, ботинки и шнурки. О, как же часто, извечные невежды, проклинаем мы тех, кто нам помогает. Он обдумывал, что сделать, искал какой-нибудь выход из этого положения, но, так как единственным достойным выходом было броситься под проезжавшую машину, он остановился и сказал:
– Простите, у меня развязался шнурок.
– Его надо завязать,– сказала Оля таким ледяным, как показалось Генрику, голосом, что он тут же пожалел, что не бросился под машину.– Ну? Что вы так растерялись? Чего вы ждете?
Генрик вздохнул, прислонил подрамник к стене дома и встал на одно колено на тротуаре. Оля думала, не воспользоваться ли случаем; чтобы убежать, но стала смотреть, как Генрик завязывает шнурок, и вдруг увидела в этом что-то очень трогательное. Этот большой парень, наклонившийся над своим ботинком, казался ей по-детски беззащитным. Он слюнявил шнурок, чтобы продеть его в дырку, и при этом складывал губы клювиком, моргал глазами и морщил лоб. Оля улыбнулась, закусила губу и втянула голову в плечи, как мы это делаем, когда что-то нас очень рассмешит, а громко смеяться нельзя. Генрик никак не мог справиться с ботинком и был этим так расстроен, что перестал обращать на Олю внимание. Олю это очень забавляло, как забавляет нас запутавшийся в веревке котенок, который хочет от нее освободиться. У нее появилось желание потянуть Генрика за волосы или за ухо, может быть даже толкнуть, чтобы он опрокинулся и покатился с жалобным писком. Но затем ее залила горячая волна альтруизма. Она наклонилась над ним и сказала теплым, грудным голосом:
– Ну, перестаньте мучиться. Я вам помогу.
Она наклонилась еще ниже и вырвала из его рук шнурок, который он собирался послюнить.
– Что вы! – Пробормотал Генрик пораженный.– Нет, нет. Что вы!
– Тише, тише, глупышка. Ох, вам нужна женская рука. Ох как нужна... Так... вот так, и вот шнурок на месте... И еще вот так, и шнурочек прекрасно завязан бантиком. Вот.
– Но... правда... мне очень стыдно. Большое спасибо...
Оба медленно выпрямились и смотрели друг на друга. Оля заметила, что у Генрика галстук съехал набок, и мягким, ловким движением поправила его.
Любопытно сравнить отношение женщин к одежде мужчин и мужчин к одежде женщин. Основная тенденция, я бы сказал, инстинктивный рефлекс мужчины по отношению к женским нарядам – это желание внести беспорядок, дергать, рвать, тянуть, мять. Совершенно иное отношение женщины к одежде мужчины. Это желание привести ее в порядок, выгладить, поправить, почистить.
Откуда вытекает, на чем основана эта одна из столь многих противоположностей между женщиной и мужчиной?
Я не смог бы дать на это удовлетворительный ответ. А мои домыслы мне самому кажутся столь странными, что я не осмеливаюсь их высказать.
Оля поправила Генрику галстук и даже прищурила глаза – такую приятную дрожь ощутила она при этом. Затем смахнула пыль с лацкана его пиджака, а потом, слегка раздувая ноздри, тщательно пригладила его.
Генрик смотрел на нее широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот, взглядом пойманного звереныша, понимающего, что ему угрожает какая-то опасность, странная, доселе неизвестная, которую он чует, но не может понять.
Оля взяла его за пуговицу пиджака, легонько потянула и зашептала горячим шепотом:
– Нужно будет ее пришить. Еле держится.
Мурлыкая, как кошка, нежащаяся на солнце, она одернула на нем пиджак, поправила в карманчике платок, еще раз галстук, и было заметно, что, приводя в порядок его костюм, она понемногу начинает терять власть над собой. И вдруг, издав приглушенный крик, прижала ладони к его щекам и легко и быстро, но как-то жаляще поцеловала его в губы, схватила подрамник и убежала.
Генрик приложил руку к губам и застонал. Стройная фигурка Оли уже исчезла среди прохожих в глубине Мазовецкой улицы.
Вот к чему может привести такая на первый взгляд мелочь, как развязавшийся шнурок.
Оля, женщина опытная и сугубо современная в том смысле, как эту современность понимают от Монпарнаса до Мазовецкой, вдруг повела себя, как институтка. До сих пор она понимала любовь очень по-современному. С настоящей страстью, но без особых сентиментов. Как украшение жизни, но боже сохрани, не ее смысл. Она часто меняла любовников, а когда попадался какой-нибудь чересчур сентиментальный, говорила ему, восхищаясь собственным цинизмом:
– Делай дело и уходи, береги свое и чужое время.
Для своего мужа, врача, коллекционера холодного оружия, она была идеальной женой. Заботилась о доме, даже проявляла живой интерес к коллекции мужа, хотя на самом деле это ее нисколько не занимало. Она считала, что такое отношение к мужу и к дому вполне отвечает требованиям современности. Более того, даже составляет ее весьма эффектный реквизит. Муж относился с большим пониманием к Олиному стилю жизни. Он хотел быть современным любой ценой. Считал (а по сути дела полностью принимал тезис Оли), что самым ужасным преступлением против современности является взаимное ограничение, вторжение в личную жизнь другого. Это вовсе не означало, что он допускал факт существования у нее любовников. Ни о каких любовниках он не знал и знать не хотел.
Два эти человека были из совершенно разных миров. У них не было общих друзей и очень мало общих знакомых. Их не объединяли ни общие вкусы, ни общие интересы. Доктор Кемпский был человек очень богатый, но Оля и сама много зарабатывала и жила почти исключительно на свои деньги. Этого требовало от нее не только самолюбие, но прежде всего современность. Они не чувствовали друг к другу физического влечения. Доктор поддерживал тайные связи с санитарками и некоторыми пациентками.
Они составляли тот ни на чем не основанный и непонятный союз, которому все постоянно предсказывают скорый конец, но который оказывается прочнее самой большой, самой страстной любви. Может быть, тут действует сила инерции, а может быть, отсутствие общности, контакта, абсолютная бесконфликтность являются настолько могущественным, что не дают повода для разрыва. Или, может быть, тут имеет место более глубокое, не всем понятное взаимное понимание. Увы, может быть, именно это отчуждение и является самым лучшим залогом согласия, создает чувство безопасности и покоя, чего в сущности ищут все, а больше всего страстные искатели бурных и необыкновенных переживаний.
Эта сентиментальная брешь в стройной системе современности была за многие годы первым открытым и естественным рефлексом Оли. Она слыла особой экстравагантной и весьма оригинальной. Рассказывали много разных анекдотов, настоящих и выдуманных, о ее необыкновенных выходках, в которых, демонстративно шокируя общество своим пренебрежением к его правилам, она умела, как говорят, соединять незаурядное чувство юмора с высоким интеллектом. Поддержание этой славы стоило ей немалых усилий. Она была рабой искусственного стиля, который сама себе выбрала ради рекламы и который по существу очень мало подходил к ее натуре. Мы все в большей или меньшей степени являемся жертвами выдуманного нами стиля. Абсолютная и безусловная естественность – это роскошь, которую, живя в обществе, нельзя себе позволить. Нас часто мучает тоска по свободе, желание убежать от себя самого в мир, совершенно не похожий на тот, в котором мы находимся. Мы не отдаем себе отчета, что очень часто это желание не что иное, как стремление освободиться от чуждого, но принятого нами стиля, стремление дать свободу своей неиспорченной натуре и что тот, другой мир, о котором мы мечтаем, собственно, и есть наш настоящий мир. Иногда нашу подлинную сущность высвобождают неожиданные и трогательные встречи, которые мы привыкли довольно приблизительно называть любовью. Двое людей под влиянием необычайных эмоций, сущность которых, несмотря на усилия поэтов, писателей и ученых, еще абсолютно не выяснена и которые, по всем признакам, относятся к явлениям сверхъестественным,– итак, двое людей под влиянием необычайных —добавлю еще, возвышенных, благородных – эмоций взаимно очищаются друг перед другом от фальши искусственных и выдуманных ими стилей и предстают друг перед другом в своем нагом, истинном, ничем не исковерканном естестве. Что ж из этого? Что из этого, мой боже? В самом этом очищающем, прекрасном, возвышенном и действительно объединяющем два создания акте уже заключен зародыш самых страшных и неизбежных притворств и лжи. Жизнь в обществе заставляет их вернуться к выдуманному ими стилю, а эти выдуманные стили начинают сталкиваться, мешать друг другу, угрожать, а потом уже не только стили, но и обладатели их все яростнее и раздражительнее начинают препираться друг с другом. И тогда возникает неутолимая тоска, неутихающая обида.
– Ах, ты был тогда другой. Ты ловко притворялся, ты обманывал меня.
– Это ты была другая. Ты обманывала меня. Скрывала свое настоящее лицо.
– Жизнь показала твое настоящее лицо, негодяй.
– Ха-ха, ты сорвала с себя маску, ведьма.
Бедные влюбленные! Именно тогда вы были искренни. И если жизнь столкнула вас в болото искусственности и фальши, не оскверняйте же по крайней мере тот чистый источник, в который на мгновение вы погрузили наготу единой вашей правды. Уберегите от ужасающего опустошения хотя бы это чистое воспоминание.
Э, бесполезно с ними говорить. Глупые и слепые, безумные и неистовые, они перекрашивают все в желто-зелёный цвет ненависти.
Оля была ошеломлена происшествием на Мазовецкой улице. Она, организатор и режиссер своей экстравагантности, заботящаяся о том, чтобы молва о каждом ее оригинальном «номере» распространялась быстро, широко, с оттенком скандала, ни минуты не думала, что то, что она сделала с этим юношей, было не просто экстравагантностью, наоборот, она думала со страхом, не видел ли этого кто-нибудь из знакомых. Ошеломленная, она даже не заметила, как этот страх внес в ее жизнь что-то совершенно новое и особенное. Не раз любовники упрекали ее, что она несдержанна, не умеет хранить тайны, неизвестно для чего афишируя свои отношения с ними. Олю это забавляло и подстрекало к еще большей демонстративности.
А вот на этот раз ей хотелось, чтобы никто не видел того, что случилось, чтобы никто об этом не знал. Это было ее собственное, личное переживание.
Наконец-то собственное, личное переживание.
После стольких лет подавления чувств искусственностью и фальшью в ней вдруг пробудилась тоска по свободе, стремление к простоте и непосредственности, к настоящей нежности, ко всему тому, чего она искала и чем, впрочем, порой пренебрегала.
Каким-то невинным, но страстным движением она потянулась перед зеркалом, улыбнулась себе, подняла руки.
Но тут же вздрогнула, тихо вскрикнула и схватилась рукой за голову.
Господи, ведь она, может быть, никогда уже больше его не увидит. Она не знает, кто он, не помнит даже имени и фамилии, которые он назвал.
Но сразу же успокоившись, улыбнулась.
– Он найдет меня. В этом не может быть сомнения.
Поэтому, когда вечером Оля вышла из дому, она могла без всякого притворства сказать стоящему в воротах Генрику, измученному многочасовым ожиданием:
– Я знала, что вы меня найдете, я знала.
Для Генрика мир выглядел так, будто его кто-то прибрал, вычистил, вымыл, освежил, подкрасил. Все было новое, красивое, стройное и сверкающее. Воздух дышал надеждой, на горизонте вырисовывались очертания сбывшихся мечтаний.
Они встречались каждый день. Сидели в безлюдных кафе, ходили на прогулки по пустынным окраинам, иногда прятались в темноте кинозала, иногда выезжали за город и бегали по лесу.
Держались за руки, разговаривали, обнимались.
Оля ждала, что Генрик найдет какую-нибудь комнату, в которой они будут встречаться, но быстро поняла, что для него все это не так просто. Поэтому она действовала чрезвычайно осторожно. Она боялась отпугнуть его чем-нибудь, что могло показаться ему вульгарным. Она хорошо узнала и поняла его наивность и впечатлительность, абсолютную чистоту его чувства, которая уже начинала понемногу ее раздражать.
Однажды Оля потеряла терпение. Она напоила Генрика и решила повести его в гостиницу.
Это была дешевая гостиница, помещавшаяся на втором этаже в доме на углу Маршалковской и Иерусалимских аллей. Входили в нее по лестнице прямо с улицы. Лестница была ярко освещена.
Генрик, хмурый и насупленный, позволил вести себя за руку, как мальчик, который знает, что будет наказан за шалость.
Шел дождь, тротуары блестели. Со стороны Аллей на крыше дома, в котором помещались гостиница, горели розовые неоновые лампы, рекламирующие товары Пульса.
Перед дверями гостиницы Оля остановилась. Взяла Генрика за отвороты пиджака и посмотрела ему в глаза.
– Я люблю тебя,—сказала она,– и поэтому так злюсь.
Генрик глупо улыбнулся и посмотрел на освещенную лестницу.
– Когда я был маленький,– сказал он,– пределом роскоши и комфорта был для меня отель «Полония». Но именно эта маленькая гостиница имела для меня какое-то особенно таинственное очарование большого города. По вечерам, лежа в кровати, я представлял себе, как я во фраке, в цилиндре, в накидке, с белым шарфом вокруг шеи и с сигаретой в углу рта вхожу туда, не то граф, не то апаш, черт знает кто, но какая-то весьма таинственная и романтичная личность.
В глазах Оли появились скука и досада.
– Иногда,– сказала она,– ты кажешься идиотом.
Размечтавшийся Генрик не слышал ее.
– В этой гостинице должны были происходить какие-то необыкновенные вещи. Но я никогда не мот узнать какие, так как сразу же засыпал.
Оля снова посмотрела на него с нежностью.
– Нет, ты не идиот,– сказала она,– ты большой ребенок. Мне хочется надрать тебе уши, чтобы ты заплакал, а потом взять тебя на колени, ласкать и целовать.
Оля потянула его к лестнице.
– Идем,– сказала она решительно.
Генрик слегка упирался. Оля крепко стиснула его руку и потянула.
Он понял, чем кончится этот день. Его охватила огромная радость и безотчетный, смутный страх.
Внезапно все чувства, которых за минуту до того было еще такое множество, рассыпались совершенно так, как если бы внезапно на половине такта замолк оркестр среди бешеного тутти .
Оля гладила Генрика по голове, шептала ему на ухо какие-то слова, которых он не слышал, которые казались ему бессмысленным, даже раздражающим бормотаньем.
Ему хотелось смеяться. Это желание смеяться в первый момент господствовало над всем остальным. Ему хотелось смеяться над доктором Кемпским.
«Здорово я обставил доктора Кемпского»,– повторял он про себя, и хотя, собственно, не хотел этого повторять, это как-то само в нем повторялось и само хохотало.
Никогда прежде не занимала его особа доктора Кемпского. Он просто не принимал его во внимание, доктор Кемпский не учитывался, не существовал.
И вот теперь ни с того ни с сего фигура доктора Кемпского выросла и стала самой главной. Единственное удовлетворение которое Генрик чувствовал в этот момент, вытекало из факта, что он обставил доктора Кемпского, и это было наполовину спортивное, наполовину фатовское удовлетворение, что он кому-то наставил рога. Сознание превосходства над другим мужчиной, его унижение и посрамление вызывали в нем неизведанное до этого чувство заносчивой гордости.
И если Генрик почувствовал себя мужчиной, то в первый момент он был обязан этим скорее доктору Кемпскому, чем Оле.
Но эта странная, ядовитая и недобрая веселость длилась очень недолго, всего несколько секунд и тут же внезапно исчезла, а вместе с ней исчезла и фигура доктора Кемпского.
Генрик почувствовал страшную грусть. «Значит, вот чем все это кончилось,– подумал он.—» Значит, вот как это выглядит».
Ему вдруг стало страшно жаль всего, что было до этого между ним и Олей. Сердце его сжалось, когда он вспомнил тот первый поцелуй на Мазовецкой улице.
Он оплакивал все это, как мы оплакиваем далекое, невозвратное детство.
Ему стало очень жаль Олю. Она молча лежала рядом с ним, голая, с головой, втянутой в плечи, со спутанными, разбросанными по подушке волосами. Эта нагота, которая рождала самые вдохновенные видения, когда Оля была одета, теперь казалась чем-то обыкновенным и немного смешным, скорее тривиальным, чем возвышенным.
Несмотря на все это, чувство его к Оле не изменилось и не уменьшилось. Напротив. Ему казалось, что он любит ее еще больше, что его любовь значительно выросла, как вырастает любовь людей, которые вместе пережили тяжелую утрату.
Он нежно обнял ее за шею и несколько раз горячо поцеловал.
Потом его охватила приятная сонливость. С детской доверчивостью уткнулся он в Олино плечо и задремал.
Во фраке, в цилиндре, в накидке, с белым шарфом вокруг шеи и с сигаретой в углу рта увидел он себя поднимающимся неторопливо и небрежно по лестнице отеля. Сейчас тут произойдет что-то необыкновенное. Вещи совершенно необычайные, абсолютно противоречащие всему, что приносит повседневность. Вот он подходит к дверям с матовыми стеклами, кладет руку (в белой шелковой перчатке) на позолоченную, блестящую ручку, открывает их стремительным, широким жестом.
Он заснул.
Разбудили его чьи-то шаги в коридоре. Ему показалось, что это отец возвращается с затянувшегося собрания, может быть немного пьяный, в последнее время это случалось. Его успокоила мысль, что ночь еще длинная и можно еще спать и видеть сны о вещах, недостижимых наяву. Но вдруг он широко открыл глаза, увидел слабый желтый свет, падающий из коридора через стекло над дверью, и вспомнил, где он.
С улицы проникал свет, холодный и грязный. Сквозь гардины ложились тени на стены, оклеенные обоями в цветочки. В комнате царил полумрак. Время от времени проходили трамваи. Тогда все тряслось и стучало, а металлический шарик на спинке кровати позвякивал. На Мраморном ночном столике лежал опрокинутый стакан. Капли воды с большими интервалами капали с мраморного столика на пол, где стояла деревянная пепельница, а на дырявом коврике валялись окурки. Где-то били часы. Били долго – должно быть, полночь.