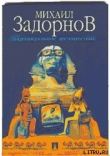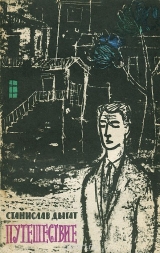
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
– Мне стыдно, что я такой неловкий, прошу прощенья,– сказал он, отряхивая Генрика. Генрик смеялся, и пожилой господин тоже начал смеяться.
– Глупости,– сказал Генрик.– Должно быть, у меня был очень смешной вид. Это я неловкий, а не вы.
– Главный виновник – пароход,– сказал пожилой господин.– Но стороной агрессивной, независимо от своей воли, разумеется, был я. Значит, привилегия принести извинения за случившееся, несмотря ни на что, принадлежит мне.
Генрик оглянулся, ища взглядом чемодан, который в момент падения выскользнул у него из рук. Чемодан лежал рядом, но нагнуться он не успел – это сделал незнакомец, вручивший ему чемодан с легким поклоном.
– ...несмотря ни на что, принадлежит мне,—повторил он.– Поэтому я был бы весьма признателен, если бы вы пожелали дать мне какое-либо доказательство, что не затаили против меня обиды. Если бы вы согласились выпить со мной в буфете рюмку коньяку, то это было бы для меня доказательством совершенно достаточным.
– Охотно принимаю ваше предложение, – сказал Генрик,– но с одним условием, что это будет доказательством не столько того, что я не оскорблен, о чем вообще не может быть и речи, сколько той большой симпатии, которую вы и ваше поведение вызвали во мне с первой минуты.
Генрик с необыкновенной легкостью впал в тот возвышенный стиль, которым изъяснялся незнакомец, подумав про себя, что таким языком люди разговаривали в последний раз в первой половине восемнадцатого века.
Незнакомец, застигнутый врасплох, смотрел на Генрика со смешанным чувством удивления и задетого самолюбия. Он хотел что-то сказать, но сдержался. Помотал головой, взглянул на прикрепленную к чемодану Генрика визитную карточку, на которой кроме фамилии большими буквами было написано: Varsavia , Ро1оniа, и, просияв, воскликнул торжествующе:
– Держу любое пари, что вы поляк. Только поляки способны быть такими великодушными и изысканными!
– Вы угадали! – воскликнул Генрик, изображая сильное удивление.– Право, я не знаю, чему больше удивляться: вашей проницательности или вашей галантности. Однако мне кажется, что вы чрезмерно добры к полякам.
– Только, пожалуйста, ничего плохого о Польше и о поляках, если мы собираемся остаться друзьями. Я люблю эту страну и ее прекрасных обитателей.
– А я в свою очередь люблю Италию и итальянцев.
– Значит, действительно ничего другого не остается, как отметить эту встречу рюмочкой коньяку.
Незнакомец широким жестом схватил руку Генрика и долго и сердечно тряс ее.
– Меня зовут Цезаре Памфилони,– объявил он и рассмеялся, как будто сказал что-то необыкновенно остроумное.
– А меня зовут Шаляй, – сказал Генрик и опустил голову, как будто чего-то устыдившись.
– Шаляй,– повторил синьор Памфилони, не выпуская руки Генрика.– Шаляй, очень приятно. Может быть, вы родственник известного режиссера? Кажется, он поляк по происхождению.
– Нет, нет. Я не имею с ним ничего общего! – воскликнул Генрик с таким жаром, что синьор Памфилони отпустил его руку, почесал голову, чуть приподняв шляпу, и, потупившись, поглядел на Генрика, огорченный, что совершил какую-то бестактность.
—Ну, естественно. Вы не можете иметь с ним ничего общего. Это ясно,– сказал он на всякий случаи.– Пойдемте, однако, пить наш коньяк. Кажется, мы слишком долго здесь стоим.
Узкие проходы и отвесные лесенки дали им много великолепных поводов продемонстрировать взаимное уважение, что удвоило время, необходимое для перехода с палубы в бар.
В баре сквозь широкое панорамное окно был виден приближающийся Капри. Уже можно было различить дома и сады.
– Добрый день, синьор доктор,– сказал бармен.
– Добрый день, Пеппино,– сказал синьор Памфилони.– Что у тебя слышно? Все еще неприятности с женой?
– А у кого их нет, синьор доктор?
– У меня их нет, – сказал синьор Памфилони.– Дай нам два коньяка. Это мой хороший приятель, синьор Шаляй из Польши.
– Добрый день, синьор,– сказал бармен.
– Добрый день, синьор Пеппино,—сказал Генрик. Ему вдруг стало очень хорошо.
– У меня был приятель поляк,– сказал синьор Памфилони.– Его звали граф Козловский.
Бармен поставил перед ними две рюмки коньяку. Они выпили и закусили зелеными оливками. За окном приближался Капри. Уже был виден мол и окна домов в порту.
– Я хотел бы посмотреть, как мы подъезжаем к Капри,– сказал Генрик.
– Ничего интересного,– сказал синьор Памфилони.– Налей еще, Пеппино.
– Пожалуйста,—сказал бармен.—Это не интересно вам, синьор доктор, но синьор Шаляй здесь, наверно, в первый раз.
– Ах, да, конечно! – воскликнул синьор Памфилони.– Очень хорошо, Пеппино, что ты обратил на это моё внимание. Очень тебе благодарен. Разумеется, сейчас же пойдем на палубу и посмотрим, как пароход будет входить в порт.
Выпили снова и снова закусили оливками. На этот раз черными. Генрика вдруг охватила детская радость Он любил синьора Памфилони, любил Пеппино и любил Капри.
– А теперь пойдемте,– сказал синьор Памфилони. – До свиданья, Пеппино.
Он протянул ему две красные бумажки.
– Большое спасибо, синьор. До свиданья, синьор доктор, до свиданья, синьор Шаляй.
– До свиданья, Пеппино.– Генрик махнул ему рукой.
Синьор Памфилони взял Генрика под руку, и они вышли на палубу.
– У меня было много приятелей,– сказал синьор Памфилони,– но вы самый лучший мой приятель. Это Анакапри, а это Капри. Там подальше живу я, но отсюда мой дом заслоняют другие дома, а вон там сфинкс на Сан-Мишеле.
Пароход медленно входил в порт.
– Тут все прекрасно,– сказал Генрик.– Когда-то я старался представить себе Капри, и мне казалось, что я заставил свое воображение создать самую прекрасную и самую необыкновенную картину. Но никакое воображение не в состоянии создать такой свет и такую простоту.
– Возможно,– сказал синьор Памфилони,– но если где-нибудь проживешь почти тридцать лет, то все надоест и станет обыденным. Тут все-таки очень узкие горизонты.
– Как это так – узкие горизонты?
– Я говорю в переносном смысле. Люди мелкие и ограниченные. Вы знаете в Польше графов Козловских?
– Знаю. Два работают вместе со мной.
Синьор Памфилони открыл рот, но тут же закрыл его. Наверно, хотел спросить, где именно они вместе работают, но был слишком деликатен, чтобы задавать такие вопросы. Теперь он смотрел на Генрика с еще большим восхищением.
– Всю жизнь я мечтал о большом мире и необыкновенных переживаниях, а обречен жить в этой дыре, среди абсолютного однообразия. Я здешний врач.
Генрик вдруг вспомнил, что ночью ему снилось что-то очень красивое, что, проснувшись, он долго лежал и думал об этом, но сейчас совершенно не мог вспомнить, что это было. Его охватило какое-то необычное горячее чувство, которое он испытал во сне, но оно исчезло, он не смог удержать его. Он обернулся и посмотрел в сторону Неаполя. Это был уже только темно-голубой, однообразный контур широкого холма.
– Этот Аксель Маунт был страшный ловкач. Он сделал карьеру на животных, которых терзал и мучил,– сказал синьор Памфилони.– Я слишком люблю людей, и это меня губит. Люди – ужасная дрянь.
Прибежал матрос и начал отвязывать какой-то канат с такой поспешностью и рвением, как будто произошло что-то неожиданное и ужасное.
На молу, к которому медленно подходил пароход, прохаживались мужчины в разноцветных рубашках и женщины в ярких юбках. Тут же стояли, сбившись в кучу, элегантные портье в белых пиджаках и круглых шапочках, на которых были написаны названия отелей. Они конкурировали между собой, но разговаривали друг с другом дружественно и галантно, словно представители дипломатического корпуса, которые ожидают на аэродроме приезда выдающегося государственного деятеля. Немцы, в большинстве своем с рюкзаками, приветствовали Капри торжествующими руладами на тирольский манер, американцы же начали фотографировать, что можно было подумать, будто настоящую ценность и значение мир имеет для них только на фотографии.
– Надолго вы сюда приехали? – спросил синьор Памфилони.
– Я еще не знаю,– ответил Генрик.– Это зависит от того, как у меня сложатся дела.
– Ах, значит, вы приехали сюда не в качестве туриста!
– Не совсем. Не совсем хотя... Генрик вдруг обрадовался – он может громко заявить, что куда-то приезжает с определенными намерениями. Намерениями, которые могут осуществиться или не осуществиться. Ведь он приехал сюда с какой-то целью, с какими-то надеждами. Капри показался ему не только красивым, но даже дружелюбным и знакомым. Он почувствовал себя свободным и уверенным.
– Я был бы весьма счастлив,– сказал синьор Памфилони,– если бы вы пожелали остановиться у меня. Но не знаю, насколько это для вас удобно, поэтому не смею настаивать. Часто ли вы встречаетесь с графами Козловскими?
– Ежедневно. Право, я очень вам признателен, но у меня здесь назначено свидание... В отеле «Белиссима»...
– О, это тут недалеко, немного повыше. Вот та терраса, видите? Выходим. Но прийти ко мне вы должны. От этого я вас не освобождаю.
Они сошли на мол по трапу, дрожащему, как робкая девушка во время первого танца. Портье выкрикивали названия своих отелей и их особые достоинства, точно краткие заголовки экстренного выпуска. Синьор Памфилони сделал несколько движений рукой, которые должны были избавить Генрика от назойливости портье. Они выкрикивали: «Добрый день, синьор доктор!» – совершенно так же, как названия своих отелей и их особых достоинств.
На маленькой площади возле мола стоял маленький автобус.
– Я живу в вилле «Принцесс»—сказал синьор Памфилони, – Улица Санта Агата, семь. Мой дом вам
покажет каждый.
– Здравствуйте, синьор доктор,– сказал шофер автобуса.
– О, синьор доктор,– сказал обрадованный кондуктор и помог войти синьору Памфилони. Уже сидя в автобусе, синьор Памфилони схватил руку Генрика и долго пожимал ее.
– Итак, дорогой друг, я жду вас и уверен, что вы меня не обманете. Мы пережили в этом путешествии необыкновенные вещи, а это по-настоящему соединяет и обязывает.
Автобус отошел, а Генрик еще с минуту стоял, улыбаясь, и махал рукой, ему было жаль, что синьор Памфилони уехал.
Отель «Беллиссима» находился в состоянии того непередаваемого беспорядка, какой обычно царит на всех курортах перед началом сезона. Вдобавок ко всему владелец отеля потерял очки, и поэтому в профессиональную учтивость по отношению к Генрику вплетались проклятия по адресу персонала. А так как он боялся, чтобы Генрик не принял это раздражение на свой счет, он каждый раз перед ним жалобно оправдывался. Горничная вытирала заплаканные глаза, парень с блестящими черными волосами суетился – по-видимому, совершенно бесцельно. Время от времени он натыкался на Генрика, и владелец воспринимал это с большим облегчением, так как мог дать волю своему раздражению, защищая пострадавшего клиента. Генрик заметил под стопкой бумаги на стойке краешек тонкой роговой оправы. Он приподнял бумаги, вытащил очки и подал их хозяину. Хозяин издал торжествующий крик и, схватив руку Генрика, долго тряс ее, не в силах ничего произнести от избытка чувств.
Это был мужчина лет пятидесяти, не толстый, но кругленький, производивший впечатление порядочного человека.
– Поистине добрые боги привели синьора на Капри,– сказал он.– Такой замечательный клиент —это верная примета, что наступающий сезон будет удачным. Благодарите синьора, негодяи! – кричал он слугам. – Благодарите его, он спас вас от гибели!
Парень поклонился, горничная сделала реверанс, Генрик дал им по сто лир, и воцарилось хорошее настроение.
Позвякивая ключами, горничная проводила Генрика в его номер. В коридоре пахло накрахмаленным бельем и жарящимся оливковым маслом.
– Наш хозяин невыносим,—сказала горничная.—С ним надо иметь большое терпение.
Теперь было видно, что она притворялась, что плачет. У нее были сухие глаза и спокойное лицо, даже чуть ироническое.
– Он стал таким после того, как убежала синьора,– сказала она.
– Кто? – спросил Генрик рассеянно.
– Синьор Чапполонго, наш хозяин. Синьора убежала с американским фоторепортером.
– С американским фоторепортером? – удивился Генрик.
– Ну да, с американским фоторепортером. Синьор часто бил синьору. Но не сильно и всегда за дело. Синьора была очень красивая.
Горничная открыла дверь. Генрик вошел в комнату, она вошла за ним.
– Синьор вообще порядочный человек, только с ним трудно,—сказала она.– Вот ваша комната. Вам нравится?
– Очень нравится,– сказал Генрик.
Номер не имел ничего общего с вычурной роскошью больших шикарных отелей, лишенных своего лица, где все напоказ, как поддельная позолота на униформе швейцаров. Номер был уютный, немного легкомысленный и какой-то домашний. На окнах висели миленькие розовые занавески в малюсеньких яблоках и грушах, а обстановка выглядела какой-то сказочной: казалось, едва пробьет полночь, и все вещи оживут. В углу стоял высокий комод темно-коричневого дерева, покрытый белой салфеткой, на нем подсвечник. Широкая кровать с покрывалом из того же материала, что и занавески, только голубого. Шкаф был в стиле комода, а стул – в стиле кровати. Между окном и балконными дверями висела маленькая картинка, изображавшая собачку, стоящую с растерянной мордочкой над опрокинутой миской молока.
– Я рада, что этот номер вам нравится,– сказала горничная.– Мы тут все очень рады, когда гостям у нас нравится. Синьора тоже всегда радовалась.
С улицы доносился размеренный цокот лошадиных копыт и голос поющего мужчины. Казалось, этот цокот и это пение входят в обстановку номера вместе с запахом накрахмаленного белья и жарящегося оливкового масла, вместе с голубовато-золотым светом, падающим из окна.
– Благодарю вас, синьора,– сказал Генрик.
– Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, звоните,– сказала горничная. Она вышла и закрыла
дверь.
Генрик стоял посреди номера.
«Что мне снилось сегодня ночью?» – подумал он.
Он взял чемодан, положил его на кровать, но передумал и поставил на стул. Потом подошел к умывальнику, отвернул кран и тут же закрыл его. Пересек комнату, распахнул дверь и вышел на большую террасу, ту самую, которую ему показывал с парохода синьор Памфилони. На террасу выходила не только дверь номера, который занимал Генрик, но и двери всех других номеров этого этажа. Генрик подошел к балюстраде. Перед ним наклонно к горе поднималась улица. Конь, чей цокот он слышал, и мужчина, который пел, отдалились уже на значительное расстояние, но оказалось, что это был не конь, а ослик, тащивший маленькую повозку на двух колесах, и пел не мужчина, а девушка с низким грубым голосом. Одной рукой она держалась за палку, торчавшую из повозки, в другой была зажата сухая ветка, которой она ударяла по палке в такт песне; песня была длинная, и в ней все время повторялось слово рiccolino(малыш). Улица внезапно обрывалась, и сразу внизу плескалось море. Со стороны Сорренто шла моторка, и Генрику показалось, что он уже стоял когда-то вот так на этой террасе, что так же шел ослик, запряженный в повозку, и пела девушка низким голосом, и со стороны Сорренто шла моторка.
Генрик вернулся в номер, сел на кровать – он думал о синьоре Чапполонго, о его жене и американском фоторепортере. Потом встал, подошел к чемодану, открыл его и тут же снова закрыл. Оглянулся, минуту постоял, постукивая ногой и что-то насвистывая, и вышел из номера.
– Рекомендую вам наши обеды и ужины,—сказал синьор Чапполонго, когда Генрик проходил через зал.– Они превосходны.
– Да. Действительно превосходны,—сказала горничная, проходившая со скатанной дорожкой и выбивалкой.
– А ты сиди тихо! Чего суешься? – сказал синьор Чапполонго.– Считаешь, что моей рекомендации недостаточно?
Горничная пожала плечами, посмотрела выразительно на Генрика, как будто хотела сказать: «Ну, я же говорила»,– и вышла. В ту же секунду послышались глухие удары выбивалки.
– Она вообще хорошая женщина,– сказал синьор Чапполонго, – только вечно во все суется. Желаете ли вы заказать обед?
– Благодарю,– сказал Генрик. Он подал хозяину ключ от номера.– Я думаю, что дела задержат меня сегодня в городе.
Синьор Чапполонго с грустью покачал головой. В конце концов, ему было все равно, но он жалел Генрика за то, что тот легкомысленно отказывается от такой замечательной кухни.
Генрик пошел вниз по улице, ведущей к маленькой площади, с которой отходил автобус. Перед магазинчиками сидели толстые женщины в больших соломенных шляпах и без особой навязчивости предлагали что-нибудь купить. Где-то часы пробили одиннадцать. В магазинчиках продавали фрукты и ягоды или сувениры. Сувениры были некрасивые, как везде, в любой стране. Сувениры и не должны быть красивыми. Красивыми должны быть воспоминания. С лотка, выставленного перед одним из магазинчиков, Генрик купил маленькую стеклянную собачонку, не понимая, для чего он это делает. У собачонки на спине была надпись «Капри», она была еще уродливее, чем другие сувениры, но у нее была грустная мордочка, как у той собачки, которая опрокинула миску с молоком на картинке в отеле «Беллиссима».
Генрик сел в автобусик, который сразу же тронулся. В нем было несколько моряков (они говорили, оживленно жестикулируя, все сразу), молодая американская чета (оба в очках склонились над путеводителем), женщина с корзиной и еще два человека, ничем не примечательные.
«Пришел ниоткуда и еду в никуда»,– подумал Генрик. На него снизошло такое спокойствие, какого он еще никогда не испытывал. Он едва сознавал, кто он, так как все, что его касалось, было далеким и безразличным. Автобусик поднимался по серпантиновой полоске дороги, вьющейся среди простых белых домишек и садиков, в которых росли лимонные деревца. По мере того как автобус поднимался, все необъятнее становился горизонт, где, синея, сливались море и небо; вырастали склоны белых скал. Но все то, что было сделано руками людей и относилось к людям, было каким-то маленьким, как будто уменьшенным. Маленькими были дома, сады, телеги и автобусы, маленькой была семейная трагедия синьора Чапполонго. Все маленькое, людское противостояло гигантской мощи природы и запечатлевало победный поцелуй на лице мира. Господь бог, согласно наивной, но красивой легенде человечества, создал мир и все в нем. Создал, разумеется, и лимоны. Но эти лимоны человек высаживал там, где ему нравилось, освоил их, приручил, и не господь бог, а человек срывал их с дерева и ел или шел продавать на красивый рынок, полный разноцветных ягод и фруктов, удивительных зверей с морей и материков, полный ярких цветов и всяких других творений, на производство которых бог заключил с человеком соглашение, сняв с себя при этом часть ответственности. Мир без человека был бы ничто. Нелепый, голый и претенциозный студень. Как ничто без человека и пространство. Это лучше всех поняли поляки, которые, любя людей и все человеческое, как мало кто любит, послали на пустую, бледную Луну своего пана Твардовского.
Автобус въехал на рынок, вернее, остановился возле самого рынка на небольшой, специально для него предназначенной площадке. Если бы он въехал на рынок, там не осталось бы места ни для чего другого. Рынок был такой же, какими обычно бывают большие рынки, только маленький. Сбоку стояла колокольня. Тоже такая же, как полагается, только маленькая. Два кафе, одно против другого, со столиками на открытом воздухе. Лестница с левой стороны (или с правой – в зависимости от того, как вы стоите). Широкая лестница, ведущая на извилистую, теряющуюся за домиками улочку. На ступенях лестницы сидели самые различные люди. Здесь были дети, и две элегантные американки с фотоаппаратами, и чета стариков (он – взволнованный, она – сердитая), и поручик военно-морского флота с еще молодой матерью.
Рынок казался грандиозной декорацией какой-то оперы, сжатой по необходимости на маленькой сцене провинциального театра.
«Сирены заманивали своим пением проплывающих рыбаков, они высаживались, и тут их охватывало предательское безразличие ко всем делам и ежедневным заботам,– думал Генрик, стоя посреди рынка.—Я долго упирался, но и меня заманили сюда. Это хорошо. Это очень хорошо».
Часы на колокольне пробили один раз. Было пятнадцать минут двенадцатого. Генрик прошел под сводом, который выходил на узкую, извилистую улочку. Генрик в жизни не видел такой извилистой улочки. Она вилась, поднималась и опускалась, шла по всевозможным лестничкам, под самыми различными сводами. Может быть, это была не одна улочка, а много разных улочек. Генрик проходил мимо витрин магазинов и ресторанов, совершенно таких же, как везде, только значительно уменьшенных. Улочка то скрывалась в тень, то оказывалась под ослепительным солнцем, но непременно изменяла краски. И казалось, что все цвета, будь то голубизна неба, или зелень деревьев, или красные лангусты в витрине ресторана, белизна виллы или фиолетовое вечернее платье в витрине модного магазина,– все эти цвета взяты из одной и той же коробки лучших в мире красок. Виллы, большей частью белые, утопавшие в садах, расположенные на разной высоте, отличались полукруглыми и куполообразными формами. Казалось, они вытесаны из одной глыбы.
Генрик шел очень долго и не думал ни о чем – только о красках и формах. Иногда он останавливался. Прислонялся к какому-нибудь каменному заборчику или садился на ступеньку и смотрел в простор неба или прямо перед собой, если между виллами показывался кусочек моря. Он понял, что, собственно, думает не о красках и формах, а о таких вещах, о которых, если учесть, какое они приносят беспокойство, на Капри думать не следует, а краски и формы – только защита от этих мыслей.
Но все-таки это, по-видимому, была не одна улочка, а несколько улочек, потому что совершенно неожиданно он очутился на лестнице, где сидели разные люди, на рынке, как раз напротив свода, через который вышел полчаса тому назад. Часы на колокольне снова пробили один раз. Было без четверти двенадцать. На лестнице еще сидели взволнованный старик и сердитая старушка, сидели дети, но уже не было двух американок и поручика с моложавой матерью. Зато тут сидели два немца, которые пели фальцетом на пароходе. Они были задумчивы и не проявляли желания петь.
Еще пятнадцать минут.
«Но, может быть, она не придет? Если у нее хватит такта и она что-нибудь понимает, она, конечно, не придет. Но почему она должна быть тактичной и все понимать?»
Генрик спустился по лестнице и свернул вправо. Эта улица была шире, чем те улочки, которые он принял за одну. Тут даже были тротуары, вернее, тротуарчики, и много красивых магазинов; эта улица довольно скоро переходила в другую улицу, подобную ей. На ней также были красивые магазины, но главным образом роскошные пансионаты и рестораны – и все это уходило вдаль и напоминало расставленные игрушки. На террасе из красного кирпича с зеленой деревянной балюстрадой сидели люди за столиками под цветными зонтами. Американская чета в очках молча ела макароны. Над ними, как и над всем на этом острове, витал дух вечности.
Немного дальше был квартал победнее, а может быть, и не беднее, а попроще. Магазин с открытками и мылом, пассаж с лавочками и сразу при входе – бар, довольно темный и невзрачный. Но оказалось, что это было не дальше, а ближе, потому что когда Генрик заглянул в пассаж, который в длину был не более семи метров, он обнаружил, что пассаж каким-то чудом выходит с другой стороны на рынок.
«Если ее не будет до пяти – или нет, до десяти минут первого, я буду считать себя свободным»,– подумал Генрик и вошел в бар. Он попросил рюмку граппы, а когда бармен налил ему, сказал:
– Нет. Это годится только для кролика. Еще, пожалуйста.
– Кролики не пьют граппы,– сказал бармен.
Он поставил перед Генриком стакан и наполнил его до половины. «Ваше здоровье»,– сказал Генрик и протянул руку. В эту минуту начали бить часы на колокольне. Генрик повернулся и выбежал из бара.
На рынке изменилось не многое, только немцы перебрались со ступенек лестницы в кафе. Они сидели за пивом и очень тихо пели печальную песню, похожую на погребальную. В кафе сидело еще несколько человек, но Зиты среди них не было. Часы пробили двенадцать.
«Не приехала»,– подумал Генрик.
Он услышал, что идет автобус, и побежал к остановке у самого входа на рынок, за колокольней. Автобус за углом ворчал, рассерженный крутым подъемом. Через минуту он появился и подкатил, пузатый, запыхавшийся. Вышли люди, среди прочих – американская чета в очках (другая, разумеется), но Зиты не было.
«Не приехала»,– подумал Генрик. Ему стало грустно, ему даже показалось, что над ним витает призрак безнадежности.
Он возвратился на рынок. Там все еще сидели две элегантные американки с фотоаппаратами, которые перед этим сидели на лестнице. Они жевали резинку и рассматривали иллюстрированный журнал.
Но Зиты не было.
Часы на колокольне показывали три минуты первого.
«Только три минуты,– подумал Генрик.– Она может еще прийти. Придет обязательно. А если не придет?»
Он увидел перед собой пустыню. Абсолютную пустыню, абсолютную пустоту, которой, как утверждают ученые, в природе не существует. Ученые об этом ничего не знают. Но спросите обманутых любовников.
Генрик быстро побежал в бар у пассажа. На стойке стоял его стакан с граппой. Бармен улыбнулся ему.
– Я должен был на минуту уйти,– сказал Генрик. – Это бывает,– сказал бармен.
Генрик залпом выпил стакан и вынул сигареты.
– Хорошо пьете,– сказал бармен.– Это семидесятипроцентная граппа.
– У нас в Польше пьют крепкую водку.
– Поляки пьют здорово,– согласился бармен, улыбаясь, и протянул Генрику зажигалку.
«Она, наверно, уже приехала,– подумал Генрик.– Сидит в сторонке, там, немного позади, в тени. Пришла раньше двенадцати, вышла пройтись и запуталась в этих улочках».
Приятное тепло разливалось по телу. Он зажал сигарету в углу рта и с удовольствием затянулся. Это придало ему уверенности в себе и веру в удачу. Он заплатил и посмотрел на часы.
Было десять минут первого.
«Теперь пусть она немного подождет,– подумал он.– Пусть помучается от нетерпения и неуверенности».
Но он тут же встал и пошел к выходу. Когда он был уже в дверях, бармен крикнул ему:
– Мое почтение, мое почтение. Надеюсь, вы к нам еще заглянете!
– Простите,– Генрик остановился.– Я не попрощался. Я сегодня немного рассеян. Тут у вас на Капри так красиво.
– Это ничего. Это лучшее доказательство того, что вы к нам еще вернетесь. До свиданья.
В кафе немцы преодолели депрессию. Они не были уже задумчивы, как на лестнице, и не пели свою печальную песню, а снова рассказывали анекдоты, смеялись, хлопая себя по ляжкам и коленям. За столиком, где сидели две элегантные американки с фотоаппаратами, теперь появились еще два итальянских моряка. Американки не отличались красотой, хотя смеялись так, как будто были красавицами.
Но Зиты не было, и Генрику солнце вдруг показалось невыносимо жгучим, краски назойливо яркими, а миниатюрность всего окружающего – мучительным видением горячечного бреда. Он долго стоял без движения. Потом подумал: «Зачем я тут стою?» Он поднялся по ступеням, на которых сейчас уже никто не сидел, а только бегали дети, и пошел по направлению к извилистым улочкам. Он шел, опустив голову, и вдруг показался самому себе таким смешным, что расхохотался.
«В чем, собственно, дело?» – спрашивал он себя. Ведь они условились не совсем серьезно. Почему же он принимает все это близко к сердцу? О, это только по привычке. Как добросовестный актер —свою роль.
Вдруг он почувствовал усталость. Все это вместе взятое вовсе его не касалось, не имело с ним ничего общего. Он с нежностью подумал о своей комнатке в Варшаве. Вот он возвращается из министерства. Виктория подает ему обед, что-то очень вкусное, он ест, слушает радио, узнает, что там происходит на белом свете, ложится в постель, читает интересную книжку, например о каких-нибудь романтических приключениях на Капри, а перед тем как заснуть, думает; «Ну что ж, может быть, завтрашний день принесет что-нибудь необыкновенное».
«А если она придет и, увидев, что меня нет, уйдет?» – промелькнуло у него в голове.
Он повернулся и побежал к рынку. Бежал и думал: «Зачем все это? Ведь ее нет. Не может быть».
Он бежал так быстро, что, хотя намеревался задержаться у лестницы, чтобы осмотреть все оттуда, остановился только тогда, когда сбежал уже до половины.
В кафе, с краю, в тени сидела Зита. Генрик почувствовал, как душа его оттаивает. Он испытал облегчение, какое мы испытываем, когда преодолеем что-нибудь и убедимся, что опасность миновала и счастье наконец улыбнулось нам. Призрак безнадежности исчез, солнце снова стало пригревать ласково и нежно, краски оживились, а миниатюрность окружающего приобрела смысл.
Неизвестно почему, Генрик решил, что девушка, сидящая в кафе,—Зита. На ней были большие темные очки, она читала книгу. Одета она была в голубое. Темные волосы, гладко причесанные спереди, сзади были собраны в «конский хвост». Она сидела в небрежной позе, но это была изящная небрежность благовоспитанного человека, а не вульгарная развязность невежи. Она производила впечатление современной девушки из хорошей семьи и ничем, кроме, может быть, цвета волос, не напоминала Зиту. И все-таки это была Зита.
«Как хорошо, что она приехала»,– подумал Генрик. Он спустился с лестницы. Он был рад, что больше не должен спешить. Он прошел мимо столика Зиты так близко, что она подняла голову, скользнула по Генрику взглядом и снова склонилась над книгой. Она сделала это с таким равнодушием, что Генрик начал сомневаться, действительно ли это Зита. Он сел за соседний столик, надел темные очки и стал ее разглядывать. На ней была широкая голубая юбка с большими белыми кругами, белая блузка и голубые туфельки на шпильках. Комплект, который был на манекене с лучезарной улыбкой в магазине дамского платья на виа Рома. Издали, с лестницы, он заметил только, что она в голубом, и не останавливался на деталях ее туалета. Он заколебался, когда она равнодушно посмотрела на него. Но когда, усевшись за соседний столик, Генрик убедился, что на ней та самая юбка, блузка и туфли, которые были на манекене с лучезарной улыбкой, он был уже совершенно уверен, что это Зита. Он сидел сзади нее, видел ее плечи и время от времени профиль; читая, она поворачивала голову.
Женщина словно наделена радаром, информирующим о том, что сзади на нее смотрит мужчина. Ее плечи, хотя и неподвижные, начинают тогда проявлять беспокойство, а рука то и дело тянется к волосам, поправляет их, как бы подает позывные, одновременно взывающие к осмотрительности и рассудку, умоляющие опомниться.