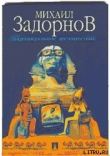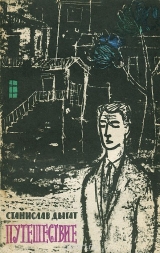
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Поверишь ли, твой отъезд возвратил им на какое-то время желание жить, оживил их, разбудил в них стремления и надежды. Я думаю, их добила беспросветность серенького существования, которая их засосала, несоответствие между этим существованием и былыми стремлениями. И вот внезапно что-то случилось, что-то произошло, что-то, вокруг чего можно было сосредоточить свои ощущения, что-то, что будило печаль, тоску и беспокойство. Самые различные живые человеческие чувства. Что-то, вокруг чего могла вращаться жизнь, что вносило в жизнь напряженность и смысл... Нет сомнения, что родители очень любили нас обоих. Разумеется, каждого по-разному. Но, что самое смешное, беспокоились и тревожились они о тебе, а не обо мне. Я доставлял им обыкновенные хлопоты, которые обычно доставляют дети своим родителям. Ты не доставлял им абсолютно никаких хлопот. Это противоречило общепринятым понятиям и обычаям, должно было раздражать и вызывать опасения. Это так. Посредственность не раздражает, не вызывает опасений. Я ручаюсь, что если бы провести опрос среди родителей всего мира, хотят ли они, чтобы их ребенок был гением, большая часть ответила бы отрицательно. Не знаю, отдавали ли себе родители отчет в том, что ты человек гениальный. Скорее наоборот, они были глубоко опечалены и очень досадовали, что чуть ли не от рождения не было в тебе ничего из тех милых, простых, определенных черт, которыми ребенок украшает и наполняет жизнь родителей.
И вот твой внезапный отъезд, твой окончательный разрыв с домом возвратил родителям то, чего им так в тебе не хватало. Начал создаваться миф о твоей личности, вырисовываться твой милый облик, состоящий из простых человеческих и детских черт, которых в тебе никогда не было, но которые так хотели видеть в тебе твои родители. Ах, как свободно и с каким огромным облегчением можно было создавать тебя таким, каким хотелось! Расстояние, пространство, в котором ты исчез для нас, время, которое опустило за тобой завесу, создавали полную обаяния атмосферу грусти и одновременно охраняли от твоего личного физического вмешательства, которое должно было грубо исказить твой образ, восстановить истину там, где были неиспользованные желания этого наивысшего добра, этой милости, этого двигателя жизни, спасения и пристанища сереньких существований.
Твой вымышленный образ занял столько места в нашей жизни, что, вспоминая детство, я и сам иногда не знаю, каким ты был в действительности.
Умом, трезво, когда я думаю о тебе, я вижу тебя, каким ты был в действительности. А порой, когда я вспоминаю детство, невольно, но с огромной убедительностью встает перед моими глазами тот Янек, которого мы выдумали себе после твоего отъезда.
Странное дело. Обращаясь (к сожалению, очень редко) к твоему творчеству, я нахожу в нем так много от того неизвестного тебе, созданного исключительно нашей тоской, нашим беспокойством, нашей неудовлетворенностью воображаемого Янека.
Боже мой! Чем объяснить такие чудеса?
Во всяком случае, родители вскоре после твоего отъезда и благодаря тебе на некоторое время воспрянули духом. Отец даже начал снова интересоваться искусством, но не так, как когда-то, гораздо скромнее и серьезнее, а мать, неизвестно зачем, начала заниматься английским.
Снова стали иногда принимать гостей и сами бывали в гостях. Стали бывать в театрах и на концертах, а отец уже не приходил в полночь пьяный.
Но это был искусственный подъем, напряжение и энергия которого довольно скоро иссякли.
Родители вернулись к своим прежним занятиям. Отец – к окну, в которое он мог неподвижно глядеть часами, мать – к печи, прислонившись к которой часами смотрела в потолок.
В 1939 году исчезла целая эпоха. Вместе с нею исчезли и наши родители.
Исчезли в буквальном смысле этого слова. Я не знаю, что с ними стало. Вскоре после вторжения немцев они ушли из дому. Куда и зачем – неизвестно. И уже не вернулись.
Я искал их везде. Искал их все время оккупации. Я ни на что уже не надеялся, но хотел по крайней мере знать, что с ними стало. Я использовал для этого различные знакомства, истратил много денег, (разумеется, впустую) на разных шантажистов, аферистов и мошенников.
Напрасно.
Мне не удалось даже напасть на след. Они просто исчезли.
Итак, мы виделись с тобой последний раз в 1937 году.
Я тогда переживал, кажется, очередную неудачную любовь, после чего с факультета истории искусств перешел на философский.
А может быть, все. было и не так?
То есть это точно, что с истории искусства я перешел на философию, но, может быть, я и не переживал в то время несчастной любви.
Впрочем, это не имеет значения.
Важна, пожалуй, только моя вера в то, что в жизни заключены огромные возможности, что меня ожидают самые замечательные вещи и уж наверняка необыкновенные переживания.
Тут судьба могла бы вмешаться и упрекнуть меня в том, что я считаю себя обойденным. Разве мало было
необыкновенных переживаний, разве мало было их отпущено мне за последние годы?
Нет, нет! Достаточно, вполне достаточно! Благодарю!
Дело, однако, в том, что точка зрения Судьбы и моя собственная на то, что следует понимать под необыкновенными переживаниями, принципиально различны.
Вообще Судьба за последнее время стала очень принципиальной. Она обюрократилась, стала равнодушной и занимается политиканством. Просто трудно поверить, что это та самая Судьба, которая с таким пафосом и размахом развивала свою оживленную деятельность в прошлом, которая с таким чудесным вздохом печали и отчаяния разлучала влюбленных в романтические времена.
Я бы должен был, дорогой брат, описать тебе, что случилось со мной со времени твоего отъезда из Польши, то есть с 1937 года, то есть за последние двадцать лет. Но, как видишь, очень уж это трудно.
Потому что, собственно говоря, ничего и не случилось. Да, ничего не случилось, кроме того, что я всё-таки ждал, что что-то случится.
Ничего не случилось.
Я обыкновенный чиновник министерства, без всяких перспектив на какую-нибудь карьеру. Даже на карьеру чиновника.
Вот что случилось за эти двадцать лет. Так стоит ли описывать тебе мои удивительные, моментами– без ложной скромности – может быть, даже и героические похождения во время военных политических и общественных потрясений, которыми так богата наша эпоха?
В самом деле, даже не знаю, как, почему и когда это случилось, что из гордого юноши, полного возвышенных стремлений, веры и надежд, я превратился в стоящего у окна чиновника.
Знаешь ли ты, что это значит – стоять у окна? Помнишь, как стоял у окна отец в последние годы перед твоим отъездом?
Помнишь, наверно, а про себя думаешь: «Ну что ж, стоял, так ему нравилось, так ему хотелось, такую завел привычку, подумаешь, большое дело».
Ошибаешься. Стоять у окна, простаивать у окна с заложенными за спину руками – это в определенном возрасте и на определенном жизненном этапе очень серьезный и очень скверный признак. Кто начинает стоять у окна с заложенными за спину руками, того можно считать погибшим человеком. Человек, стоящий у окна, думает о том, как прекрасна была его молодость и как все, чего он ждал в жизни и на что рассчитывал, обмануло его. Думает без горечи и без злости. Увы, горечь и злость – это чувства стремительные и активные, которые придают человеку энергию, побуждают его к действиям и к бунту. Но человек, стоящий у окна, думает о своих разочарованиях только с грустью и болью. Грусть и боль – это чувства, лишающие воли. Они заставляют соглашаться с тем, что есть, покориться необходимости, а надежду принуждают уйти в подполье и действовать, соблюдая строжайшую конспирацию.
Человек, стоящий у окна с заложенными за спину руками, никогда не думает о том, что плохого и неправильного в его теперешней жизни, не задумывается над тем, что следовало бы в ней изменить и улучшить, каких ошибок избежать в будущем. С каким-то сладостным страданием исправляет он мысленно то, что исправить уже невозможно, изменяет былые решения, без колебаний шагает вспять – и все это в своем далеком прошлом – и представляет себе, как бы выглядела его жизнь сегодня, если бы он тогда поступил иначе, чем он поступил.
О да! Это состояние очень опасно и внушает тревогу, а может быть, оно и не внушает тревогу, потому что для тревоги уже слишком поздно, когда в мечтах возникает не будущее, а прошлое, когда мечты и неосуществленные стремления сплетаются в братском объятии.
Что ж, мой милый! Разве для такого человека, как ты, то, что я писал, не представит более ясной картины моей жизни, чем если бы я просто перечислил тебе факты и подробности?
Как у образцового чиновника (с любой точки зрения), у меня возникает желание произвести тщательную инвентаризацию, подсчитать и установить процентное соотношение людей, стоящих у окна. Это задача нелегкая, хотя бы потому, что люди, стоящие у окна, неохотно в этом признаются.
Полагаю, однако, что количество таких людей очень велико, больше, чем может показаться на первый взгляд. Не следует думать, что они вербуются только из средних и мелких чиновников; среди них может оказаться и министр, хотя, вероятно, это не типично. Не
следует также думать, что это исключительно чиновники, но, конечно, по большей части это чиновники.
В юности человек мечтает о своем будущем. Мечтает о том, чтобы стать инженером, артистом, врачом, изобретателем, великим политиком, или выдающимся путешественником, или знаменитым полководцем. Никогда еще не приходилось мне слышать, чтобы кто-нибудь в юности мечтал стать средним или мелким служащим. Это существование принудительное и, по мнению самого пострадавшего, случайное, репрессия со стороны судьбы, но, к счастью, временное. Это заблуждение исчезает по мере того, как человек все чаще останавливается у окна с руками, заложенными за спину.
Боже мой! Как это могло случиться, что один брат достиг вершин жизни, а другой, точно червь, весь век копошится в средней чиновничьей среде?
Нет, нет, прости! Опять тебе может показаться, что эти слова диктует мне какая-то обида или досада. Для меня было бы очень горько, если бы ты так подумал. Удел каждого из нас—та судьба, какой он заслуживает.
Но что я могу поделать, если так часто тоскую по тому, чего я ждал от жизни и что ушло от меня раз и навсегда. Существует в литературе произведение, до сих пор абсолютно не прочтенное, несмотря на всю свою славу и популярность. Это «Фауст» Гете. Преувеличенное значение придают в нем философским рассуждениям, в наше время и на мой взгляд очень натянутым и наивным, чего никто еще не отважился признать, и не обращает внимания на то, что является в нем самым существенным, истинным и ценным с точки зрения человеческого бытия.
«Фауст» – это в сущности история среднего чиновника, который растратил казенные деньги, чтобы поставив все на карту, пережить хоть в короткое мгновенье то, о чем всегда мечтал, и чего ждал от жизни, и что казалось ему недосягаемым. Гете (который, помнится, и сам был чиновником) облачил все это в необычайные романтические одежды, воспользовался, согласно требованиям эпохи, романтическими метафорами и символами и, наконец, дав волю ложному самолюбию, позволил себе уйти от первоначального замысла на скользкий путь поисков окончательного и единственного разрешения загадки бытия.
А ведь единственное, что действительно ценно в этом произведении, единственное, что от него осталось,– это история о растрате казенных денег человеком, стоящим у окна с заложенными за спину руками. Только малых детей можно обмануть (и то уже довольно трудно) Мефистофелем и проданной душой.
Разочарование в жизни, отчаяние из-за безвозвратно утраченных и никогда не пережитых ее радостей, а более всего тоска по единственной женщине, которая так и не встретилась,—это чувство искони в человеке —самое простое и самое подлинное. Испытывает его почти каждый обыкновенный смертный и даже некоторые из необыкновенных, в том числе наши современные прозаики, несмотря на то, что они постоянно и упорно силятся убедить нас в том, что человек по своей природе – существо, интересующееся только политикой, а все, что находится вне политики, для него ничто, чепуха, не стоящая и плевка. Единственное, что они, современные прозаики, в последнее время сделали, это наградили живущего политикой человека способностью впечатляться высокими моральными проблемами, очень этим гордятся и чувствуют себя на высоте положения.
Не так ли?
А этот наш живущий политикой человек, способный впечатляться высокими моральными проблемами возвращается домой пьяный, с общечеловеческой тоской и бьет жену за то, что она не Маргарита; а на другой день ему гадко и стыдно, ибо, кроме всего прочего, он привязан к ней, сжился с ней, как-то там ее любит и знает, что она не виновата.
Дорогой мой брат! Я не могу растратить казенные деньги, потому, что, во-первых, никогда бы на это не решился, во-вторых, не имею к ним доступа, в-третьих, по правде говоря, не знал бы толком, на что их истратить, чтобы удовлетворить свои неутоленные желаний.
Знаешь, однажды в министерстве я говорил с коллегами о том, что каждый из нас сделал бы, если бы к нему явилась волшебница и пообещала исполнить какое-нибудь одно его желание.
Кроме референта Казьмирека, который сказал, что потребовал бы, чтобы начальник отдела Мрожонка во время выступления на торжественном заседании в присутствии высшего начальства икнул, кроме него одного, все остальные без колебания выразили желание, чтобы время повернуло вспять.
Ты не волшебник и не в твоей власти вернуть мне минувшее. Но ты мог бы сделать для меня нечто подобное: вызвать меня в Италию. Изменить для меня если не время, то пространство.
Ах, очутиться бы вдруг где-то далеко от всего, что меня окружает. Хотя бы раз, хотя бы на краткий миг, как растратчик, решившийся на все, насладиться жизнью. Быть независимым, ни с чем не связанным и таким образом умно воспользоваться тем, чем не умел воспользоваться в прошлом.
Ты, мой брат, мог бы стать для меня волшебником, исполняющим желания. Мефистофелем, возвращающим утраченную молодость.
Души я тебе за это не продам, потому что такую ветошь я не рискнул бы тебе предложить, да и вообще ничего не могу тебе предложить взамен, кроме братской благодарности. Обещаю, что на шее у тебя сидеть не собираюсь, и больше месяца, одного какого-нибудь месячишка, не пробуду. В особые расходы я тебя тоже не введу, так как я привык к самому скромному образу жизни, только бы отдохнуть от дома и от всех здешних забот. Ведь ни о чем другом в сущности речь не идет, а все остальное, написанное здесь,– это только так, метафоры для удовлетворения собственных рефлексий:
Дорогой Янек! Пожалуй, слишком много я отнял у тебя времени всеми этими глупостями. Итак, сердечно тебя обнимаю и с нетерпением жду ответа.
Твой Генрик».
Варшава, 10 января 1957 года
Генрик писал это письмо очень долго. Пожалуй, целую неделю. Он очень мучился и очень старался – не для того, чтобы произвести впечатление или в выгодном свете предстать перед Янеком, одним словом, не с какой-либо корыстной целью, а так, для самого себя. Он был настолько погружен во всё это и рассеян, что коллеги в министерстве начали над ним подтрунивать, уверяя всех, что он влюбился.
Эта неделя была не из худших в его жизни. Письмо, собственно сам процесс его писания, было для Генрика каким-то тайным убежищем, в котором он укрывался от повседневности. Не обошлось, конечно, и без некоторых затруднений и осложнений.
– Что ты там такое пишешь уже несколько дней? – подозрительно спросила однажды Виктория.
– Ничего,– ответил Генрик.
– Ничего? – повторила Виктория испытующе.– Ах, ничего. Не прикрывай рукой, мой милый, это совершенно лишнее, меня это очень мало интересует. Я просто так спросила. Что в этом особенного? Может быть, мне вообще не следует интересоваться тобой и твоими делами? Пожалуйста, пожалуйста! Я согласна. Мне только хотелось обратить твое внимание; я тебя вежливо спросила, что ты пишешь, и ты бы мог мне также вежливо ответить, если уж не хочешь или не можешь объяснить. А когда вместо этого ты отвечаешь—«ничего», да еще таким раздражительным тоном, ты тем самым доказываешь полное отсутствие уважения ко мне.
– Ну, ничего, понимаешь,– сказал Генрик, стараясь говорить спокойным и естественным тоном.—Ничего– это значит, боже мой, ничего интересного. Это я для краткости так выразился. Неужели с тобой нужно говорить только полными и законченными предложениями?
Все это он сказал шепотом – громким сдержанным шепотом, который, как ему казалось, свидетельствовал о самообладании и исключал всякое намерение уязвить собеседника.
Но Виктория именно этот шепот сочла за явный факт грубого невнимания. Она тихо, сдавленно крикнула, как будто ей дали пощечину, и выбежала на кухню.
Оттуда послышались всхлипывания. Она старалась плакать тихо, приглушить рыдания, желая при этом, чтобы эти рыдания показали ее душевную мягкость и одиночество и дошли возможно яснее до ушей адресата.
Это было старое и проверенное, эффективно действующее средство.
Генрик тихо вздохнул, отложил перо, сложил исписанные листы и сунул их в карман. Потом встал и подошел к окну.
Сгущались сумерки. Во дворе многоквартирного дома кричали дети, играя в снежки. По радио, включенному на полную мощность, передавали Пятую симфонию Чайковского. Гремели литавры и барабаны, торжественно звучали тромбоны.
Генрик был вынужден искать другое место, где бы он мог закончить свое письмо. Он пытался писать в министерстве, но и тут его ждали недвусмысленные шутки и намеки коллег, которые видели в этом подтверждение своих подозрений, что Генрик влюблен.
Он вынужден был искать убежище в унылых и пустынных кафе и там продолжать начатое дело.
По правде говоря, он находился в состоянии, похожем на влюбленность. По утрам он просыпался с приятным и живительным чувством, что его ждет не только серая повседневность, что у него есть уютный мирок, какие-то свои интимные радости, которые не только приносят ему некоторое утешение в печалях в настоящий момент, но обещают еще и широкие надежды на будущее.
Отыскивая наиболее правдоподобные предлоги, которые не так трудно найти в наше время чиновникам министерства, он спешил в кафе, чтобы продолжать свое письмо, как на свидание с любовницей.
Когда наконец он кончил писать это письмо, он облегченно вздохнул и с огромным удовольствием начал его перечитывать. Прочитал, покривился, посмотрел в глубь кафе, где заспанная официантка машинально гладила сидящего у нее на коленях кота, и вздохнул – на этот раз с сомнением. На него словно нашла апатия.
Эти тайные признания, которые будили в нём всю неделю такое умиление, теперь вызывали глубокое отвращение. И уж величайшим унижением посчитал он конец письма. В особенности этот «месяц, один какой-нибудь месячишко» казался ему чем-то очень оскорбительным для его достоинства. Без сожаления, с какой-то злостью взял он свою внушительную рукопись и не торопясь, хладнокровно разорвал на мелкие кусочки. «Недоставало, еще,– думал он, —чтобы я унижался перед этим комедиантом».
Генрик вышел из кафе очень довольный собой.
Ему не повезло в жизни, это правда. На то были разные причины. И вина в том была и его и чужая. Но он может себе сказать, что, несмотря на все житейские поражения, он сумел сохранить нетронутой одну ценность: собственное достоинство!
Падал снег, фонари на Новом Святе тускло мерцали, В их свете лица прохожих казались поблекшими.
Люди налетали друг на друга, нервно толкались, спешили, точно в панике. Казалось, они стремились как можно скорее убежать от чего-то ужасного, что через минуту должно произойти на улице.
Генрик шел, держа руки в карманах пальто, с поднятой головой – он был доволен собой, что за последние годы с ним бывало редко.
Внутренний голос иронически шептал, что ради этого ощущения он действительно много потрудился, и к тому же очень оригинальным и необыкновенным образом.
Ему стало холодно. Он поднял воротник пальто и тщательно закутал шею шарфом. Этот заботливый жест по отношению к самому себе как-то умилил его и растрогал.
Он ощутил тоску по дому, в котором как-никак было тепло, в котором лампа горела приятным и теплым оранжевым светом благодаря абажуру, ни с того ни с сего купленному на прошлой неделе, когда он внезапно поддался тоске по домашнему уюту.
Ему стало неприятно, он подумал, что Виктории он плохой муж, а Адаму плохой отец. Правда, Адама это мало заботило. И тоже по его, Генрика, вине. Конечно, этого быть не должно.
Он вошел в цветочный магазин и купил три красные гвоздики, потом в комиссионном магазине купил перочинный нож с многочисленными лезвиями, который Адам давно уже безуспешно у него клянчил.
Он поднимался, по лестнице к себе домой с такой доброй и милой улыбкой, что ему даже хотелось плакать.
Виктория, удивленная и ошеломленная, в первую минуту была не в состоянии ничего сказать. Нюхала гвоздики, улыбалась и пожимала плечами. Потом в ней пробудилось подозрение, что все это явится для Генрика серьезным аргументом в их будущих стычках. Она перестала улыбаться и помрачнела. Как расшалившийся заяц, который неожиданно попал в капкан.
– Мне очень неприятно, – сказал Генрик, – что я последнее время не всегда был к тебе внимателен. Но это все нервы. Столько народу приходит в министерство со своими хлопотами и дурацкими делами, что, право же... А ты себе сразу бог знает что воображаешь.
Он стоял с покорным видом, ломая пальцы, стоял, как мальчик, который перед первой исповедью пришел просить прощения у родителей.
Виктории стало жаль его, и это рассеяло все ее сомнения и подозрения.
Так они стояли друг против друга, и каждый жалел другого, стараясь как-нибудь скрыть это.
Но Виктория, кроме того, его любила. Она погладила его по щеке, словно хотела показать этой лаской, что простила его, и сказала:
– Ты измучен, милый, тебе непременно надо уехать куда-нибудь отдохнуть.
– Уехать! – воскликнул Генрик с такой живостью и с таким отчаянием, что Виктория посмотрела на него удивленно.– Да. Я должен уехать.– Генрик овладел собой и повторил это слово уже внешне спокойно.– Но, разумеется, в данную минуту не приходится об этом даже мечтать. А знаете что? – воскликнул он вдруг весело.– А что, если мы все втроем пойдем в кино? Мы уже давно нигде не были вместе.
– Да, да! – воскликнула Виктория, радостно хлопая в ладоши.
Она засуетилась, начала приводить себя в порядок, улыбающаяся и счастливая. Адам скептически разглядывал перочинный нож. Он даже не сказал спасибо, а буркнул только: «Лучше поздно, чем никогда». И отрицательно замотал головой.
– Я никуда не пойду,– сказал он,– я сговорился с Генеком, которому дядя привез из Москвы электрическую железную дорогу.
Из кино они возвращались под руку, как молодая влюбленная пара. Виктория смеялась и болтала, и Генриха это нисколько не раздражало.
– Знаешь,– сказал он,– помнишь, тогда ты меня спрашивала... Это я писал письмо Янеку, моему брату. Мне пришло в голову, что в конце концов надо его поблагодарить за посылки, которые он нам присылает. Но потом я раздумал и разорвал письмо. Не знаю почему...
Он хотел сказать еще, что просил Янека в этом письме пригласить его в Италию, но в последнюю минуту удержался.
– И правильно поступил,– сказала Виктория.– Что он такого для тебя делает, твой брат, великий человек? Эти ерундовые посылки? Подумаешь, какое одолжение. Мог бы сделать для тебя что-нибудь и посерьезнее. А не мог бы он, например, прислать тебе вызов в Италию?
Генрика пронизал неприятный холод.
– Э, куда хватила,– сказал он.– Уж ты придумаешь. Да хоть бы даже и прислал, я бы не поехал.
– А почему?
– Ну как ты думаешь? Поехал бы я без тебя?
Он почувствовал, что ему стало еще холоднее. Виктория на мгновенье задумалась.
– Если бы тебе представился такой случай, уж я бы тебя заставила.
– Об этом нечего и говорить.
Виктория помолчала.
– Ну что ж! Мы могли бы поехать вместе.
Генрику стало не по себе от страха.
– Что ты, моя дорогая. Ведь это совершенно невозможно. Нечего даже мечтать о том, чтобы нам вместе дали отпуск, а кроме того, с кем мы оставим Адама?
Он сказал это так запальчиво, что Виктория посмотрела на него удивленно.
Генрик рассмеялся.
– Зачем говорить о невозможном, Янеку это не придет в голову, а уж я, конечно, не унижусь до того, чтобы его об этом просить.
На другой день в министерстве—Генрик даже не мог припомнить, как и когда это произошло,– он совершенно машинально написал письмо:
«Дорогой Янек! Очень благодарю тебя за посылки,
которые ты присылаешь мне многие годы. Надеюсь, ты не в обиде на меня за то, что я только теперь об этом пишу? У меня ничего нового. Был бы очень тебе благодарен, если бы ты мог хоть на короткое время пригласить меня к себе. Мне нужно такое приглашение с указанием, что ты берешь на себя все расходы, для того чтобы я мог на это сослаться при получении паспорта. Уверяю, что не доставлю тебе особых хлопот. Сердечно приветствую тебя, не сердись на мою просьбу.
Генрик».