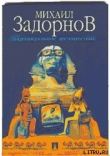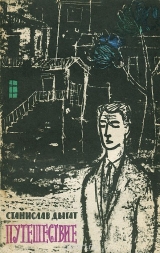
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Этот слегка лысеющий со лба шатен в небрежной позе, так обаятельно смеющийся,– Янек.
Формально это Янек. Но если он им и является, то только под давлением биографических совпадений и анкетных данных, таких, как дата и место рождения, образование, профессия, заразные болезни, перенесенные в детстве, судимости, награды. Янек, каким бы чудаком и оригиналом он ни был в детстве, несмотря на всю свою гениальность и необычность и абсолютную независимость от дома и семьи, все же в прошлом был просто Янеком. Янеком с Иерусалимских аллей, со Сташица, с Вильчей улицы.
А этот господин на фотографии, так обаятельно смеющийся, не Янек, и поиски фактических или формальных родственных связей, попытка использовать эти связи – отвратительна.
Этот господин на фотографии – одна из выдающихся личностей эпохи, а кроме того, человек, живущий в роскоши и женатый на одной из красивейших женщин в мире.
Молодые люди мечтают стать такими, как он, а старики говорят, что могли бы стать такими, если бы с самого начала все сложилось иначе, если бы не стечение неизменно неблагоприятных обстоятельств и не географическое положение.
Об этом мечтают молодые и старые, мечтают постоянно, но Янек никогда ни о чем таком не мечтал. Это произошло само, без мечтаний, как что-то естественное, что-то не имеющее существенного значения.
Генрик всю жизнь мечтал о том, чтобы быть талантливым, известным и богатым, добиться любви одной из красивейших женщин в мире.
О таланте, славе и богатстве он уже давно перестал думать. Думать о любви он не перестанет никогда. Только это имеет в жизни какую-то ценность. Но именно это и является самым неуловимым.
Человек мечется ночами в ужасной тоске по любимой, которой нет и быть не может. Он кричит в глухую темноту, кричит безнадежно и напрасно.
Но ведь где-то она есть. Где-то должна быть. Чувствуешь, что она где-то рядом с тобой. Маргарита!
Не приходит. Только иногда, когда уже засыпаешь, чувствуешь ее поцелуй на своих губах, но она исчезает раньше, чем ты, вскрикнув, вскакиваешь.
«Эрмелинда и Джованни Шаляй – в мире кино чета необыкновенная. Их взаимная любовь и верность вошли в поговорку. Эту пару можно сравнить разве только с Филемоном и Бавкидой, которых уважаемые читатели помнят еще со школьной скамьи.
Благодаря поистине исключительной доброжелательности и любезности нашего великого земляка мне удалось получить интервью у прекрасной Эрмелинды.
Должен сразу же сказать, что «в натуре» она ничего не теряет. Даже, может быть, наоборот. Она мне показалась более красивой, чем на экране. Самым невероятным, просто ошеломляющим является то, что Эрмелинда Германо, которую мы знаем на экране как дерзкую и капризную красотку, в жизни очень скромна, даже несколько робка, она привлекает и сразу покоряет собеседника своей непосредственностью и простотой.
– Поляки – моя слабость, – говорит она, улыбаясь и показывая зубы исключительной белизны.
– Это понятно. Благодаря мужу. Ну, а почему никогда до сих пор мы не видели вас обоих в Польше?
– Ах, мы так давно собираемся. Джованни все откладывает. У него очень много работы.
– Пожалуйста, разрешите задать один вопрос, может быть немного нескромный, но вы понимаете, какую ценность имело бы интервью со знаменитой киноактрисой без нескромных вопросов, ха-ха! Итак, почему никогда до сих пор мы не имели случая видеть вас в фильме, режиссером которого был бы ваш муж?
Эрмелинда улыбается так очаровательно, что, пожалуй, любая коронованная особа отдала бы за эту улыбку полкоролевства.
– Я отвечу вам совершенно откровенно,– говорит она.– Джованни как-то сказал мне: «Ты знаешь, дорогая, как сильно я тебя люблю, но актриса ты не самая лучшая. Пусть уж другие мучаются с тобой».
– Без сомнения, ваш уважаемый супруг только пошутил.
– Нет, нет. Он действительно так считает.
– Это, однако, не мешает вам прекрасно ладить между собой.
– О нет. Конечно, нет! – восклицает Эрмелинда, и в ее глазах загорается какой-то яркий огонек».
Они сидели на плотине.
Целую неделю Генрик приходил за Викторией в университет и провожал ее домой. В воскресенье они поехали на прогулку за город.
Генрик был счастлив.
«Это неправда,– говорил он себе,– что судьба над нами издевается и платит только злом. Я страдал долго, но наконец нашел то, что искал».
Генрик носил в себе такой большой запас любви, что мог создать в мечтах все то, чего в действительности не существовало.
Они сидели на плотине. Виктория покусывала травинку, Генрик сидел в некотором отдалении и смотрел на нее.
Виктория была ошеломлена всем этим. До сих пор мужчины не обращали на нее особого внимания. Она объясняла это собственной недоступностью, считала себя особой серьезной. Только избалованные девчонки могут развязно держаться с мужчинами.
Но она заметила с удивлением, что с этим парнем ей иногда ужасно хочется быть избалованной девчонкой. Ничего подобного она прежде не испытывала. Она была особой серьезной во всех отношениях, готовилась к научной деятельности, в университете ценили ее исключительную выдержку, собранность и умение себя держать.
А тут вдруг под влиянием этого парня, который был моложе ее по крайней мере года на три, у нее иногда появлялось желание стать избалованной девчонкой.
Покусывая травинку, она вдруг сказала:
– Но улитку ради меня вы бы не съели...
Генрику показалось, что он ослышался.
– Простите,– сказал он,– я не понимаю.
– Вон там ползет улитка,– сказала Виктория. Она показала травинкой на большую улитку, которая ползла по пню.
– Если бы я попросила, чтобы вы ее съели, чтобы вы сделали, это ради меня, вы бы, конечно, этого не сделали.
Генрик внезапно почувствовал прилив небывалой смелости. Он встал, подошел к Виктории, наклонился над ней и легонько толкнул ее. Она упала на спину.
Она даже не успела крикнуть. Он бросился на нее, прижал к земле, придавил ее лицо своим лицом.
Через месяц они расписались. Свидетелями были коллега Генрика по продаже конфет и приятельница Виктории с романского отделения. В загсе Генрик внезапно удивился: что это, что здесь происходит? Ведь все это должно было быть совершенно иначе.
Да, все, все должно было быть совершенно иначе. Это какая-то ошибка. Пожалуйста, остановитесь.
Все не так.
Должна была быть молоденькая красивая девушка с румянцем, с вуалью, в белом платье и с букетом белых роз. Должен был быть костел, заполненный благовонным дымом кадил и звуками свадебного марша Мендельсона. Кругом много родных и знакомых.
Потом пышная свадьба. Шум, поздравления, объятия, суматоха, толчея.
– Иди, иди, любимая, иди сюда, спрячемся на минутку в этом темном коридоре. Побудем минутку вдали от людей, одни, принадлежа только друг другу.
– Теперь мы навсегда вместе. Ах, что ты делаешь, любимый, что ты делаешь, упала моя вуаль...
– Одни, одни и только друг с другом. Одни, одни и только друг с другом.
Потом весь свадебный кортеж устремляется вместе с молодыми на вокзал.
Свадебное путешествие. Венеция, Неаполь, Капри, Счастье невероятное, длящееся вечно.
У чиновника загса было страшно важное лицо. Коллегу по продаже конфет душил смех, он еле сдерживался.
Генрик тоже боролся с собой, чтобы не расхохотаться, громко, неизвестно отчего. На Виктории был плохо сшитый костюм из дешевой шерсти, швы на чулках перекручены; ее приятельница, раскрыв рот, с богобоязненным ужасом смотрела на чиновника.
Все должно было быть совершенно иначе. Генрику стало очень жаль Викторию именно за то, что ее костюм так плохо сшит, это его даже растрогало. Он вспомнил, как она склонилась над ним, когда он лежал на матраце в Прушковском лагере, раненый, как она отвезла его в больницу в Миланувек и как потом он, уверившись, что уже никогда, никогда больше ее не увидит, неожиданно встретил ее на Краковском Предместье. Он легонько взял ее за локоть и прижал к себе. Она посмотрела на него и улыбнулась, кротко, чуть печально, с таким очарованием, как только может улыбаться женщина в день своей свадьбы, какой бы эта свадьба ни была.
Потом коллега по продаже конфет устроил свадебный обед во второразрядном ресторане, напился и рассказывал старые анекдоты.
Подруга по факультету очень много ела и не произнесла ни одного слова. У Генрика сжималось сердце от непонятной тоски. Виктория сидела вся красная и казалась счастливой.
Потом родился Адам.
Викторию в университете очень уважали, ее оставили в адъюнктуре, научная карьера ее развивалась успешно. Правда, об этом знало лишь несколько человек, и польза от ее деятельности была довольно неопределенной.
Адам почти с младенчества был малопривлекательным ребенком. Генрик любил его как сына скорее по административно-биологической обязанности, но привязан к нему не был. Если бы не факт, что Адам никогда в жизни не видел Янека и даже о нем не слышал, можно было бы сказать, что он каким-то образом унаследовал его худшие черты. Поскольку в нем не чувствовался талант, не говоря уже о гениальности, его неоправданная уверенность в себе была исключительно проявлением наглого высокомерия. Все он знал лучше других, хотя ничего не умел делать, презирал взрослых, пренебрежительно относился к родителям.
Генрик никак не мог смириться с его умничаньем и с тем, что в нем не было ничего детского.
Однажды, когда Адам пытался вмешаться в разговор, желая высказать свое мнение по поводу социалистического реализма, Генрик вспылил и крикнул на него:
– Перестань умничать,– и, обратившись к Виктории, добавил: – Меня начинает серьезно беспокоить, что из него выйдет.
Адам презрительно улыбнулся и спросил:
– А что вышло из тебя?
Генрик и Виктория начали ссориться уже через несколько недель после свадьбы. Из-за чего они ссорились, трудно было даже сказать. В Виктории заговорила женщина и вряд ли можно было заставить ее замолчать. В университете она была очень серьезной, но дома хотела быть избалованной девчонкой. Генрика это раздражало и утомляло, так же как и умничанье Адама, он не пытался скрыть это, у них происходили бесконечные скандалы. Хотя Виктория не говорила этого прямо, но тонкими намеками, весьма туманно, давала понять, что он проявил двуличность еще тогда, когда не захотел съесть ради нее на плотине улитку. Генрик злился и думал про себя:
«На что это похоже, чтобы у старой бабы до сих пор были такие капризы?»
А вслух говорил:
– Я знаю, ты не можешь забыть эту улитку. Я тебя просто не понимаю. Интересно, что подумал бы твой профессор, если бы я ему рассказал, чем занята твоя голова?
Виктория краснела и говорила:
– Какая улитка? Не знаю, о чем ты говоришь. Я догадывалась, что ты глуп, но не представляла, что до такой степени.
Тут уже краснел Генрик и вставал в позу мученика, исполненного гордости и достоинства.
– Если я глуп, то ты хорошо знаешь почему.
– Тра-ля-ля. Старая песенка. Не пошел в университет потому, что тебе было стыдно передо мной быть студентом, а не потому, что должен был как можно скорее поступить на службу.
—Ты хорошо знаешь, что это неправда. Ты подтасовываешь факты.
– Это правда, это правда, ха-ха-ха!
Виктория начинала смеяться, и тогда Генрику хотелось, чтобы она как можно скорее заплакала. И он говорил что-нибудь такое, от чего Виктория начинала плакать. Но уже через минуту он раскаивался, что довел ее до слез, ему становилось неприятно и стыдно.
Виктория, захлебываясь от рыданий, в свою очередь стараясь задеть его, намекала, что, собственно, она спасла ему жизнь, и это было самое худшее из всего, что она могла придумать.
Генрик подходил к окну и подолгу стоял задумавшись. Ведь и в самом деле она спасла ему жизнь, и, во всяком случае, в этом смысле она может предъявить ему претензии. Это пробуждало в нем не столько чувство благодарности, сколько сознание, что он безнадежно увяз.
Он вздыхал, глядя в окно, и думал:
«Там, за окном, свободный мир. Люди ходят свободно и делают, что хотят. Там события, в которых человек может участвовать, которые украшают жизнь. А я приговорен к пожизненному заключению, для меня нет спасения и помилования».
Ему становилось так грустно, его охватывала такая жалость, что он нежно просил прошения у Виктории, и на несколько часов воцарялась видимость покоя и умиротворенности.
Жизнь Генрика протекала между службой и скандалами дома. Скандалы были разные и по разным поводам. Но в них всегда фигурировали одни и те же основные элементы: улитка, неоконченный курс в университете, спасение жизни.
Маргарита!
Где ты, Маргарита?! Ты видишь? Я сижу в странной коробке, украшенный розовыми и голубыми полосками, стремлюсь неизвестно куда и для чего из-за безумной любви к тебе.
Маргарита! Почему ты не отзываешься?
Я живу только для тебя, а ты молчишь и прячешься. Ради тебя я продам душу и принесу в жертву тело. Неужели действительно уже слишком поздно? Кто ты, Маргарита? Я чувствую твое присутствие, ощущаю тебя совсем рядом, но не знаю твоего лица.
Нет, я знаю его. О, хорошо знаю. Но не могу вспомнить. Ты склоняешь голову и оплакиваешь меня. Твой взор затуманен слезами.
Но ведь ты существуешь, Маргарита! Ты реальнее, чем я. Из нас двоих реально существуешь только ты. Движешься, скользишь, танцуя с вплетенными в волосы цветами, которые я украл для тебя на Марсе. Какая же удивительная и могучая сила заставляет меня постоянно думать о тебе, заставляет надеяться, когда уже нет места надежде, заставляет двигаться и действовать, хотя уже нет для этого ни сил, ни желания.
Кто я?
Я не знаю, кто я. Я не тот, кем должен был быть. Но это все равно, кто я, я буду тем, кем ты прикажешь мне быть.
Кто я?
– Попрошу предъявить паспорт!
– Что случилось? Кто это?
– Проснитесь же наконец. Граница. Пан офицер просит ваш паспорт.
– А, паспорт...– буркнул Генрик, протирая глаза. Его спутник, кряхтя, слезал с верхней полки. На нем были длинные фиолетовые кальсоны. Он ворчал:
– Не дают людям покоя.
«Неаполь, 5 апреля 1957 года
Дорогая моя Виктория!
Пишу тебе это письмо из Неаполя, куда я сбежал на несколько дней, чтобы отдохнуть от Рима, который, по правде говоря, немного утомил меня и опечалил.
Наверно, ты удивишься, что такой красивый и полный чудес город может утомить и опечалить. И все-таки это так. Почему? Мне трудно объяснить, но возможно, что в этом виноват не столько Рим, сколько я сам.
Однако следует описать тебе все с самого начала; из открыток, которые я тебе посылал, ты, наверно, мало что могла узнать о моем путешествии.
А впечатлений и переживаний, разумеется, масса. Трудно, правда, описывать эти впечатления, такие они сильные и необычные. Что же делать! Описывать свои впечатления лучше всего умеют поэты и писатели, но и им это не всегда удается. Что же говорить о чиновнике министерства!
Я буду описывать тебе только факты, а что касается впечатлений, то дополни их как-нибудь собственным воображением.
Когда поезд тронулся (с варшавского вокзала), я сразу же лег спать. Спал не очень хорошо, время от времени просыпался и ворочался с боку на бок. Меня беспокоили самые различные мысли и порядком мешали спать. Признаюсь, что всей этой затеей с путешествием я был очень возбужден, хотя, может быть, и меньше, чем представлял себе раньше.
Переезд через границу был мало приятен. Заспанный человек, которого чуть не среди ночи вытащили из постели в одном белье, притом в голубую и розовую полосочку, должен предстать перед человеком в мундире, бодрым, с массой ремешков, металлических пряжек, окруженным атмосферой какой-то сверхъестественной власти.
Пограничная стража и таможенники на редкость любезны и благожелательны.
Сам факт, что такой любезный и формально благожелательный офицер берет мой паспорт и изучает, не фальшивый ли он, делает невозможным какие-либо теплые отношения, лишает меня равноправия, обесчещивает.
Что из того, что он в конце концов подтверждает, что я человек совершенно честный и имею полное право путешествовать? В его поведении не удается заметить ни тени сожаления, никакого замешательства, которое мы обычно испытываем, убеждаясь, что неправильно подозревали кого-нибудь в подлости. Нет! Офицер пограничной службы возвращает вам паспорт энергично, даже несколько надменно, подчеркивая, что снимает с себя всякую ответственность за достойное сожаления недоразумение, сваливая все на высшую необходимость, чьим невинным орудием он является.
Однако я думаю, что именно в силу этого люди должны поддерживать между собой отношения товарищества, быть по отношению друг к другу лояльными, вежливыми, братски расположенными, чтобы спасти свою человечность.
Например, я вменил бы офицеру в служебную обязанность, так что без этого проверка паспортов не имела бы законной силы, чтобы он, возвращая пассажиру документы, опускал глаза, тихонько вздыхал и даже, если угодно, отворачивался и, кусая губы, поглаживал его по руке.
Путешествие по Чехословакии утомительно. Поезд еле тащится, подолгу простаивая на маленьких станциях. Впрочем, все это мне уже известно, ведь я был здесь, как ты знаешь, в 1953 году в качестве члена смешанной комиссии, помнишь, я тогда привез тебе сумочку и туфли, а Адасю самокат.
После переезда польско-чехословацкой границы я уже не спал, оделся, съел все бутерброды, которые ты мне приготовила, вышел в коридор и стал смотреть в окно и думать о том о сем.
С нетерпением ждал я, когда мы переедем австрийскую границу, потому что Вена чем-то дорога моему сердцу, хотя и незнакома. Уже в самом названии таится особое обаяние. Его звучание навевает грезы о никогда не пережитых в действительности событиях.
Стоя у окна в ожидании неизвестного мне мира, я думал о том разочаровании, которое он мне принесет. Ведь я очень, очень беден и еду только за разочарованием. На что же мне, такой голытьбе, рассчитывать думал я.
Да! Я давно уже решил про себя, что еду только за разочарованием и ни за чем больше. Но вдруг я подумал (стоя у окна спального вагона), что, может быть, обманываю себя, что, может быть, из-за отчаянного страха перед разочарованием я предусмотрительно стараюсь как-то его задобрить и приручить, так, на всякий случай. А, на самом деле все еще в глубине души надеюсь, что на мою долю выпадут ослепительные, неслыханные впечатления, переворачивающие весь ход событий, предначертанных судьбой.
Итак, я уже сам не знаю, как все обстоят на самом деле, и мне, пожалуй, не к чему об этом думать.
Хуже всего, что мой попутчик, который после проверки документов на границе сейчас же опять лег спать, проснулся бодрый, полный энергии и красноречия, довольный жизнью, а главное – самим собой.
Это тип совершенно неинтересный, образец чиновничьей посредственности, хотя занимает очень высокий пост, куда ему удалось взобраться совсем недавно. Во всяком случае, этот господин использовал новый пост и новые знакомства для служебной поездки за границу. Он поразительно ограничен, и в нем сочетаются огромная самоуверенность и ловкость собачника, торгующего крадеными собаками. Ограниченность такого рода встречается среди чиновников довольно часто. Приходится согласиться, что и ограниченность может благоприятствовать служебной карьере, но этим я нисколько не собираюсь оправдывать себя.
Директор Млотковский (это фамилия моего попутчика) едет за границу первый раз в жизни, но держится так, как если бы ехал восемнадцатым трамваем на Торговую, Ничто его не волнует и не интересует, кроме очень узкой области всяких нехитрых делишек, касающихся его самого.
Я, пожалуй, не писал бы о нем так много, если бы он самым ужасным образом не помешал мне в процессе моего путешествия. Я говорю «в процессе», ибо мыслю категориями психологическими, а не категориями железнодорожного расписания. Этот человек отнял у меня предвкушаемую радость первой, самой первой встречи с новым и неизведанным миром. Он так извел и замучил меня рассказами о себе, о всяческих своих успехах в работе и общественной деятельности, в любви и на поле брани (в прошлом), что довел меня до состояния полнейшей апатии. Полное отсутствие у него интереса к путешествию было настолько заразительным и деспотическим, что мне стало казаться отсутствием хорошего тона проявление волнения, нервное возбуждение.
Мы подъезжали к Вене. Подъезжали к городу, которого я не знал, но который любил и имел право любить.
Сколько раз я представлял себе ту минуту, когда буду подъезжать к Вене, когда город начнет расти у меня на глазах, расти и вырастать из полевых дорог и дорожек, из сельских домиков и из моих самых смелых мечтаний.
Вена – это звучит как музыка, исторгает самые различные чувства, более реальные, чем события повседневной действительности, несмотря на то, что это только ощущения.
Можно любить неизвестный город так же сильно, как неизвестную любовницу.
Поезд ехал но мосту через Дунай.
Дунай, о котором наши многочисленные писатели и журналисты, приезжающие в последнее время в Вену, торжествующе пишут, что он вовсе не голубой, а серый, и радуются своей оригинальности, не понимая того, что оригинальнее было бы снова писать, что он голубой, не говоря уже о том, что он голубой на самом деле.
Но какой там Дунай!
Директор Млотковский сидел, отвернувшись от окна, и говорил о себе с какой-то странной улыбочкой, восхищаясь самим собой.
Я сидел и смотрел в окно. Мы въехали на улицы Вены.
Но какая там Вена!
Мне хотелось плакать. Казалось, что мне снова семь лет и в наказание меня не пустили в кино. Вена росла и разрасталась за окном поезда, но это была еще не Вена, а только дома, улицы и идущие по этим улицам люди.
Директор Млотковский вдруг вскочил.
– Смотрите, какой-то город. Это, по всем данным, Вена. Только бы нам не проехать, потому что у меня здесь пересадка.
Поезд остановился.
Мы вышли из вагона, шли по перрону с чемоданами, а он мне все рассказывал о себе.
Вена.
Директор Млотковский шагал так, как будто, возвращаясь из Отвоцка, вышел на Центральном вокзале в Варшаве.
Мне хотелось плакать. Я подумал, нельзя ли как-нибудь удрать от него, но это было невозможно. Он сказал, чтобы я помог ему отвезти чемоданы на Западный вокзал, откуда вечером отходит его поезд на Базель. Он был осторожен и подозрителен, точно чувствовал, что я думаю только о побеге.
Я оставил свой чемодан в камере хранения на Южном вокзале, на который мы заехали и откуда в половине девятого вечера отходил поезд на Рим. Было три часа дня, светило солнце. Я сказал, что должен пойти в уборную, он пошел со мной. Я повторял про себя: «Я в Вене»,– но слова были какими-то мертвыми. Южный вокзал великолепен. Зал огромный и высокий, как кафедральный собор. Но современный и новый, недавно построенный. Все сияет чистотой и порядком. Ходят люди, очень много людей —венцев и венок, которые живут в ином ритме и иными понятиями, чем я, и мечтают о совершенно иных вещах.
Но все это я мог видеть и воспринимать как в тумане, так как эта Вена на вокзале была значительно менее реальна, чем любые мои о ней представления.
Неоспоримый факт моего физического пребывания на венском вокзале был ничего не значащей и не приводящей ни к каким результатам формальностью. Практически же, я был в варшавском учреждении, целиком подчиненный его законам и требованиям. Абсолютная безликость директора Млотковского была сильнее, чем венская действительность, она заливала и заполняла собой все. Его врожденная склонность быть руководителем была так же сильна, как и моя естественная склонность быть подчиненным. Я чувствовал себя загипнотизированным, и если бы он приказал мне сделать гадость, я бы ее сделал. Я не думал о том, что я в Вене, а только о том, что мой начальник едет в служебную командировку в Базель, и я должен проводить его с вокзала на вокзал. Я уже не думал о побеге, а только о том, как бы старательней выполнить свои обязанности.
Мы остановились у камеры хранения, и директор Млотковский проворчал, недовольный:
– Ну, поскорее. Долго мне вас ждать?
Чиновник выписывал квитанцию на багаж, а я проклинал его медлительность, которая навлекает на меня недовольство начальства.
И вдруг мимо прошла девушка. На ней была юбка в клетку и короткая темная замшевая курточка, темный берет, прикрывающий пушистые волосы, и спортивные черные туфли на толстой белой резине. В руках она держала фиолетовый зонтик. Она слегка задела меня локтем, повернула голову – личико круглое, румяное, глаза голубые, как воды Дуная, не замутненные запоздалыми стремлениями польских писателей к оригинальности,
– Простите, пожалуйста,– сказала она и улыбнулась.
Улыбнулась, обняла меня этой улыбкой и приласкала.
Я почувствовал, как моя кровь, еще за минуту до этого такая холодная и вялая, начинает струиться нормально. Я оглянулся вокруг и с удивлением подумал, что нахожусь на вокзале в Вене. Это открытие наполнило меня какой-то безумной радостью. Горело множество розовых неоновых огней, и светились большие цветные рекламы неизвестных мне фирм.
Девушка прошла и исчезла в толпе.
Вена.
Сейчас пойду, заблужусь в ее улицах. У меня отпуск, чудесный отпуск, я совершенно свободен и независим.
Чиновник протянул мне квитанцию.
Я держал ее в руке. Рассматривал и улыбался. Первый раз за много времени я чувствовал себя счастливым и нисколько не беспокоился, что это ощущение счастья может каждую минуту исчезнуть.
– Ну, черт возьми, идете вы или нет? —крикнул директор Млотковский.
Я смотрел на него удивленный.
– Нет,– сказал я.– Идите сами и оставьте меня в покое.
Он так оторопел, что долго стоял молча, а потом вдруг опечалился.
– Жаль,– сказал он тихо,– я думал, вы пойдете со мной на Западный вокзал, а потом мы вместе погуляем.
Мне стало как-то не по себе.
– Очень сожалею,– сказал я,– но я вспомнил, что у меня здесь тетка и родные просили ее навестить.
– Ну, ничего не поделаешь,– он слегка пожал плечами,– в таком случае прощайте.– Он протянул руку.– Мне было очень приятно. Моя фамилия Млотковский.
До этого мы не подавали друг другу руки, но когда это произошло, он счел своим долгом представиться.
Он отошел, отяжелевший и мрачный, как-то сразу исчезла вся его самоуверенность, и мне стало его жаль, но, когда он скрылся из виду, я почувствовал огромное облегчение. Наконец я остался с Веной один на один.
По правде говоря, Вена разочаровала меня. Несколько часов, всего несколько часов в городе, о котором столько мечтал и думал,– это должно разочаровать. Мечты и думы должны наполниться чувством, которое трудно найти на незнакомых, чужих улицах. С городом нужно завести дружбу, как с человеком. А для дружбы необходимы общие переживания. Вена не знала меня, я не интересовал ее, ее занимали более важные и более интересные дела. Я был этим обижен и, может быть, поэтому сам стал относиться к ней с некоторым предубеждением.
Мне кажется, что, когда я вечером уезжал, мы оба почувствовали некоторое облегчение.
Что-то тут не получилось, что должно было, как мне казалось, получиться.
Но в спальном вагоне, который вез меня в Италию, мне снилась Вена, и я плакал сквозь сон, а может быть, во сне и тосковал, сам не знаю о чем.
Среди ночи я проснулся и не мог заснуть, но думал не о том, что поезд везет меня в Италию,– вещь сама по себе уже более чем удивительная,– а думал о Вене.
Об автомобилях на Кертенерштрассе, о Бурге, каком-то печальном и опустевшем, некрасивом и широком. Об опере и кафе «Моцарт», о соборе Святого Стефана, единственной действительно примечательной частью которого является видимая издалека башня. Об улочках, узких и извилистых, по которым, может быть, ходил, по которым наверняка ходил Бетховен. О прекрасной женщине в вечернем платье за рулем великолепного приземистого мерседеса, которая чуть меня не сшибла и, даже не взглянув, поехала дальше. О проститутке перед маленькой гостиницей, стройной, в элегантном меховом манто, о которой нельзя было бы подумать, что она проститутка, если бы не походка, напоминающая па из менуэта; одна рука на бедре, в другой сумочка, которой она размахивает. Она тоже не взглянула на меня. О домах, где в окнах после наступления темноты зажигались желтые огни, о старых домах, в которых долгие-долгие годы скапливались человеческие переживания.
А потом я снова заснул и проснулся в Италии. Светило солнце, поезд, петляя по долине между могучими массивами коричневых альпийских склонов, спускался к Удине.
Я жадно всматривался Италию. Было очень свежо, поезд шел медленно, где-то журчал ручей. На шоссе время от времени мигали яркие рекламы, чаще всего Реllegrino rabarbaro. Иногда появлялись маленькие аккуратные городки. Я перестал думать о Вене.
Я был в Италии, и это наполняло меня гордостью и радостью. Я никогда серьезно не думал, что настанет день, и я окажусь тут, и никогда не было у меня полной уверенности, что эта Италия действительно существует. Я тебе рассказывал, что в молодости я много раз собирался в Италию и всегда что-нибудь этому мешало. Поэтому отчасти для забавы, отчасти для защиты своего самолюбия я убедил себя, что никакой Италии на самом деле не существует, что она служит только для того, чтобы манить и обманывать. Людям обещают поездку в Италию, чтобы они могли некоторое время чем-то забавляться и радовать свою фантазию, а потом, в последнюю минуту обнаруживаются трудности, которые делают невозможным их отъезд в эту несуществующую страну. В детстве я полушутя выдумал все это, а в позднейшие годы что-то от этого во мне осталось, и всегда какой-то чертик пищал мне на ухо: «Это все неправда, это все неправда, никакой Италии не существует». Теперь, когда по Паданской равнине мы съезжали к Удине, когда нам встречались маленькие городки среди скал и различные надписи, прежде всего Реllеgrino rabarbaro и реже Реllegrino аranciato, не могло быть уже никаких сомнений, и чертик молчал, надутый, хотя у него была такая мина, словно он хотел сказать: «Ну-ну, еще посмотрим-, чем все это кончится». Признаюсь, после первого ослепления и упоения сознанием, что я в Италии, в душу стало закрадываться какое-то сомнение, какое-то неприятное чувство, что-то вроде неясного и неопределенного страха. Что я здесь, собственно, делаю, какое внутреннее право уполномочило меня устанавливать контакты с этой страной? Еще не успел я впитать первые сильные впечатления, а меня уже начало беспокоить какое-то смутное разочарование. Может быть, я и не ожидал, что мой приезд в Италию совершится при звуках архангельских труб и в категориях небесных, сверхъестественных озарений. Может быть, так далеко не заходили мои мечты, но, во всяком случае, в глубине души у меня была надежда, что это произойдет при каких-то (правда, я не могу точно установить при каких) обстоятельствах, торжественных и не связанных с повседневной действительностью. А тем временем, несмотря на несомненно красивый пейзаж, абсолютно непохожий на все то, что до этого было мне известно, вокруг меня происходили самые обычные вещи. По шоссе шли машины, проходили люди, в воздухе порхали птички, из окон домов выглядывали дети. Все это было повседневным и обычным, происходило на земле и под тем же солнцем, которое греет нас и в Польше.