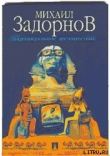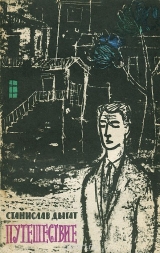
Текст книги "Путешествие"
Автор книги: Станислав Дыгат
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
МАРГАРИТА
Вагон трясся, постукивал и дребезжал.
Генрик, охваченный страхом и изумлением, лежал в фиолетовом сумраке. Он не мог освободиться от нахлынувших на него чувств. Он лежал на спине, положив руки под голову, глаза его были широко раскрыты. Его сосед сопел на верхней полке. Он спал с безмятежностью обывателя, сытого и уверенного в завтрашнем дне. Обстановка купе спального вагона, в особенности при свете фиолетовой лампочки-ночника, напоминала будуар декадентствующей кокотки, даже, пожалуй, провинциальной. Пахло одеколоном и табаком.
Внезапно поезд остановился. Треск, стук и дребезжание смолкли. Зато послышались шипение пара и шум льющейся воды, напоминающий шум ручья. Кондуктор крикнул: «Колюшки». Кто-то бежал, глухо топоча по бетонным плитам перрона, громкие голоса зазвучали под окном и расплылись в потоке барабанящих звуков, вылетающих из громкоговорителя. Раздался далекий свисток паровоза.
Генрику показалось, что до Колюшек он не сомкнул глаз. Но когда поезд остановился, вздрогнул, очнулся и почувствовал тот особый терпкий привкус, который появляется во рту, когда мы внезапно просыпаемся ночью. Значит, он все-таки спал.
Это, собственно, не был сон в полном смысле, а какая-то смесь яви с дремотой, трезвых мыслей с неожиданными видениями, далеких воспоминаний с действительностью, холодных расчетов с таинственными шепотами .
Говорят, когда человек умирает, перед ним проходят картины всей его жизни. Не знаю, правда ли это, как не знаю и того, когда смогу убедиться в этом с полной очевидностью.
Однако, мне кажется, что-то в этом есть, мы испытываем нечто похожее во время отъездов, а уехать – это, по мнению одного французского моралиста, почти то же, что умереть. Когда мы уезжаем, особенно если уезжаем ночью, мы устремляемся к новым переживаниям – радостным или мрачным; на всех путях, ведущих к нашему сознанию, теснятся образы минувших переживаний. Доброе и злое, явное и скрытое, нежное и грубое, наивное и циничное, возвышенное и низменное, благородное и подлое – все это беспорядочно толпится у нас перед глазами и словно просит, ввиду окончания определенного периода, произвести переучет, привести все в порядок, раздать чины, вынести благодарности и взыскания.
В путешествии, особенно, как я уже сказал, если мы уезжаем ночью, нас преследует настоящее, которое а болях и муках превращается на наших глазах в прошлое.
Генрик, неожиданно разбуженный Колюшками от чего-то, что не было сном, осознал, что на нем пижама в голубую и розовую полоску. Это показалось ему нелепым, ему стало стыдно.
Кондуктор объявил: «Прошу садиться!» Кто-то крикнул. Опять кто-то бежал, топая по бетону, на этот раз в противоположную сторону. Послышался красивый звонкий девичий смех и распространился вокруг, как запах цветов. Весной на лугу.
Вагон дернулся. Что-то застонало, как скорбящая душа. Замигал свет, проникающий сквозь неплотно закрытые шторы. Глубоко вздохнув, поезд тронулся. Кто-то прошел по коридору, шлепая туфлями и тихо охая.
Через минуту Генрика охватил панический страх. Ему захотелось вскочить, убежать, выпрыгнуть. Прямо в пижаме первым же поездом возвратиться в Варшаву.
Куда он едет? Зачем? Все это не имеет ни малейшего смысла.
Для чего посылал он это письмо Янеку? Ах, господи, ведь только для того, чтобы дать какую-то псевдореальную питательную среду своим мечтам. Мог ли он предположить, что Янек так быстро ответит, что вообще ответит и пришлет приглашение?
Вагон трясся, трещал, стучал и дребезжал.
Паника прошла. Ее сменило кроткое смирение, тихая покорность ребенка, подчиняющегося необходимости, которую навязывают взрослые с понятной только им одним логикой.
Он повернулся, подложил руку под щеку и уставился на свой ботинок, словно бы облитый фиолетовой жижей из опрокинутой чернильницы.
Внезапно он отчетливо представил себе всю чудовищную бессмысленность своего положения.
В трясущемся, стучащем и дребезжащем будуаре второразрядной кокотки, разукрашенный голубыми и розовыми полосками, он движется темной ночью куда-то вдаль, в неизвестность.
Тут было что-то несуразное в режиссуре, перепутаны декорации, костюмы и эпохи.
Слишком поздно.
И вот через тридцать пять лет сбывалась его мечта: он ехал за границу.
Но уже было слишком поздно.
На верхней полке посвистывал сосед по купе. Это был человек уравновешенный. Он тоже первый раз в жизни ехал за границу, но по делам службы. Ничего особенного в этом он не видел и, конечно, ни о каких путешествиях никогда не мечтал.
Бедная Виктория.
Генрик почувствовал к ней нежность, чего уже очень давно не испытывал.
Собственно, он поступил по отношению к ней подло. Как предатель, шпион. Да, но зачем она отравляла ему жизнь?
Он вспомнил, как однажды, будто по рассеянности, она заперла в шкафу на ключ его брюки и ушла в город, услыхав, как он договаривается с кем-то по телефону. что показалось ей подозрительным. Его охватила злость.
Смесь низости и глупости.
А потом она плакала, когда он на нее кричал, а когда она плакала, то складывала губы трубочкой, как маленький ребенок, и это Генрика совершенно обезоруживало.
Но когда он хотел к ней подойти, погладить ее по голове, он вдруг поскользнулся и, чтобы не упасть, взмахнул руками, а она подняла ужасный крик, ей показалось, что он хотел ее ударить. Она знала, что это неправда, что этого не может быть, но подняла крик, ей просто нужен был предлог, чтобы упрекать его и тогда и потом. Впоследствии она часто повторяла, когда ей это было выгодно:
– А о том, как ты хотел меня ударить, ты уже забыл, да?
Генрик ничего не отвечал, потому что, когда он пытался объяснять этот случай, Виктория начинала смеяться каким-то особенным смехом, как будто бы про себя и вместе с тем так многозначительно, что он должен был делать над собой усилие, чтобы в самом деле ее не ударить.
– Знаете что, господа? Шаляй утверждает, что этот итальянский кинорежиссер его родной брат.
– Еще чего!
– И не стыдно ему так врать?
– Что же, он считает нас болванами?
– Человек всегда хочет произвести впечатление, хотя бы за чужой счет.
– Но это факт, что он получает из Италии посылки. Мне это достоверно известно. Я как-то раз был при этом у него и видел фамилию отправителя: Джованни Шаляй. Точно такая же, как у него, абсолютно такая же.
– Там было написано – Джованни? А может быть, просто Ян? Вспомните хорошенько, пан Папроцкий.
– Может быть, и Ян, черт его знает. Да, может быть, и Ян, но ведь Ян – по-итальянски именно Джованни.
– Эх, пан Папроцкий, вас можно обмануть, как малое дитя. Но меня не проведешь.
– Я знаю,– сказал Петрашевский, который вел в министерстве самодеятельный драматический коллектив и, кажется, под этой маркой обделывал свои темные делишки.– Я точно знаю, что у Шаляя есть в Италии брат, но этот брат обыкновенный чиновник консульства в Милане.
– Мелкий чиновник – и посылает посылки?
– Очевидно, занимается какими-нибудь аферами?
– Да. А с этими посылками тоже делают, вероятно, какие-нибудь комбинации.
– Вы только подумайте, господа: откуда у Шаляя такой брат?
– Панна Стефтя,– панна Стефтя, куда вы так спешите, можно вас на минутку?
– Ну что вам?
– Правда, что Лоллобриджида ваша сестра?
– Зачем вы ко мне пристаете со всякими глупостями! Ха-ха! Ха-ха-ха! Пан Петрашевский колоссальный комик. Ему бы выступать где-нибудь в «Сирене».
С тех пор как Генрик подслушал этот разговор, ой отрицал, когда его спрашивали, брат ли ему знаменитый итальянский режиссер. Но Виктория не обращала на это внимания и вообще не могла понять, чего тут стыдиться и выдумывать. Она часто по этому поводу подсмеивалась над ним, и дело доходило до ссоры.
Но Генрик отказывался от брата не только потому, что был бессилен бороться с мелочностью, злобой и глупостью своих сослуживцев. Если он не смог завоевать себе место в жизни, что ж, ничего не поделаешь. Ему так хотелось быть кем-нибудь. Быть одним из тех, кто вызывает удивление и уважение. Но раз уж ему уготовлена судьба чиновника, он не хотел пользоваться блеском чужой славы, и менее всего – славы своего брата.
Виктория не понимала этого и не могла понять. А он не мог ей объяснить, потому что это было из области таких чувств, о которых не говорят. Она должна была бы считаться с этим уже потому, что это его задевало. Все между ними должно было быть так, чтобы без объяснения причин понимать желания друг друга. Тогда, может быть, и удалось бы сохранить все признаки супружеской любви и ему не пришлось бы бежать в Италию, чтобы хоть немного отдохнуть.
Но почему в Италию? Почему в чужую, далекую страну?
Разве нельзя было уехать в Закопане или в Константин?
Теперь уже поздно. Теперь уже вообще все поздно.
Виктория по невыясненным и необъяснимым причинам не только не пыталась проявить какое-то понимание, но, наоборот, становилась все более придирчивой, непокладистой и принципиальной. Она демонстративно делала все наперекор и – что особенно раздражало – без конца поучала.
Генрика охватывало бессильное отчаяние. Прежде всего потому, что они так безнадежно отдалились друг от друга, что все его усилия – усилия, идущие, правда, не от сердца – сохранить теплые, семейные отношения, были напрасны.
У Виктории были свои собственные требования, несовместимые с их отношениями, лишенные какой-либо реальной почвы. Пожалуй, она его уже не любила, хотя была твердо уверена, что любит. Женщины часто принимают за любовь неукротимое, неистовое желание отомстить за обманутые чувства. Часто это становится страстью более сильной, чем любовь, и сильнее, чем любовь, привязывает их к мужчине.
А все-таки он поляк, этот Шаляй, кинорежиссер.
– Какой он там поляк!
– Поляк, поляк. Я читал интервью с ним.
– Если он в самом деле поляк, тогда тем более все это липа.
– Какая может быть липа? Ведь его фильмы действительно первый класс. И посмеяться можно, и поплакать, и задуматься над жизнью.
– А кто вам сказал, что он сам их делает? Вы были при этом?
– Э, пан Петрашевский, вам везде чудится липа.
– Ничего мне не чудится, но надуть меня не так просто. Нас вокруг пальца не обведешь.
– Но послушай, Эдек, почему он не может быть поляком?
– Поляком-то он может быть, но если он поляк, то тут дело нечисто.
– Но почему же, почему, пан Петрашевский?
– Почему, Эдек?
– Но, господа, посудите сами! Так бы они и дали поляку выдвинуться, эти итальянцы! Но я не верю, что он поляк, потому что фильмы действительно первоклассные.
– А Падеревский?
– Падеревский – это совсем другое.
– А Кипура, Пола Негри? –
—Тоже совсем другое.
– А Кюри-Складовская?
– Тут уж я не знаю, как это было на самом деле.
Фотография мужчины в расцвете лет. Слегка лысеющий со лба шатен. Нога на стуле, подбородок подперт кулаком. Другой рукой показывает на что-то впереди себя и смеется. Сзади виден «юпитер».
Это явно моментальный снимок, а не фотография в ателье. Под снимком подпись: «Знаменитый итальянский режиссер, поляк по происхождению, Джованни Шаляй, создатель «Полишинеля из Турина», в перерыве на съемках фильма «Пять минут первого» по известной книге того же названия американского писателя Уильяма Лоула».
«В первый раз,– подумал Генрик,– в первый раз в жизни вижу Янека улыбающимся».
– А эта знаменитая звезда, эта кошечка с такими грудками, Эрмелинда Германо, это, кажется, его жена?
– Ну, конечно. И вы считаете возможным, что Эрмелинда Германо – невестка Генека Шаляя?
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ох, ха-ха-ха! – Вот это да!
– Ну и Петрашевский! Ха-ха, ну и сукин сын.
– Убедили, честное слово. Сдаюсь. Руки вверх.
– Панна Стефтя, панна Стефтя, куда вы опять так спешите? Знаете ли вы, кто такая Эрмелинда Германо?
– Я очень прошу, чтобы вы раз и навсегда отстали от меня со своими глупостями!
– Эрмелинда Германо. Конечно, конечно.
– А я вам говорю, что у него таких десятки.
– Что вы рассказываете! Ведь это его жена.
– Перед кем вы разыгрываете дурачка, пан Щипек? А разве у вас нет жены?
– Ну, ну, попрошу без намеков.
– А что? Думаете, он вроде Хласко по женской части?
– Кто, Щипек?
– Ну, ну, поосторожней.
– Щипек само собой. Но я говорю об этом итальянце.
– Все итальянцы такие. Не важно, итальянец он или не итальянец. Чего тут много рассуждать. Его фамилия Шаляй. Такая же, как у нашего Генрика.
– Шаляй. Ну и что? Это самая распространенная фамилия. Она везде может встретиться. Не то что такая исконная польская фамилия, как, например, Щипек.
– Прошу вас, отстаньте от меня.
– Щипек, Щипеццо, де Щипе.
– Фон Щиппен.
– Щипеков.
– Щипеску.
– Щипенблюм.
– А может, они просто евреи?
– Кто это они?
– Ну, Шаляи!
– А знаете, если к Генрику получше присмотреться...
– Что за чепуха! Типичный ариец. Я точно знаю, что во время оккупации он не скрывался.
– Э, во время оккупации всякое бывало.
– Бредни. Он католик, я это точно знаю. Но тот, второй, итальянец, – он поляк по происхождению? Гм-гм, поляк.
– Может быть, англичанин из Коломыи?
– Хе-хе.
– Да, панове. Теперь все ясно. Просто еврей.
– А Падеревский?
– Иди к черту со своим Падеревским. Я уже говорил, что это совсем другое.
– В таком случае очень может быть, что это никакие не махинации, а он сам делает фильмы.
– Хорошо, но это только доказывает, что Генрик хотел примазаться к знаменитому братцу.
«Я коренной варшавянин»,– говорит Джованни Шаляй.
Меня предупреждали, чтобы я даже и не пытался встретиться с Шаляем, потому что он очень занят (в настоящее время снимает «Пять минут первого»). Вообще он ненавидит интервью и всякую газетную шумиху, а тем более во время съемок фильма. Однако те, которые меня отговаривали, очевидно, не знают польских журналистов. Невзирая ни на что, я снял телефонную трубку и набрал номер Шаляя, который без большого труда нашел в телефонной книге.
Сi раг1а Еduаrdо Вgеnсic di Varsavia. Е il maestro Scalai a casa? . – (Это говорит Эдуард Бженчик из Варшавы. Дома ли маэстро Шаляй?)
– Unо momепto, unо mоmеntо, аttеndе, реr fаvоrе.
– Рrоntо? – услышал я после минутного молчания низкий, спокойный голос.– Сi раг1а?
– Сi раr1а Еduаrdo Вgеncic, il giornalista роlассо di Varsavia .
Долгое, очень долгое молчание. Я уже думал, что Шаляй просто положил трубку, когда он вдруг отозвался, и так отозвался, что я чуть не упал в обморок. Потому что он сказал на чистейшем польском языке:
– Если вы из Варшавы, то не ломайте себе язык вашим ужасным итальянским произношением, потому что я поляк, коренной варшавянин.
Теперь молчал я.
– Вы знаете, я так удивлен и так взволнован, что, честное слово...
– Ну хорошо, хорошо. Давайте поскорее. Я, по правде говоря, не очень взволнован, зато очень удивлен, что моя жена не смогла, очевидно, оценить по достоинству ваше варшавское произношение и думала, что звонят из Чинечитта. (Иисусе Мария, значит, это Эрмелинда, прекрасная Эрмелинда, ответила мне!) Ваше счастье, хотя так говорить и не принято. Я бы никогда не подошел к телефону, хоть вы и из Варшавы. Но у меня нет привычки идти наперекор судьбе, итак, валяйте быстрее, что вам нужно?
– Что может быть нужно журналисту? Интервью.
– Ах, интервью! Черт вас побери! (Так и сказал: «Черт вас побери!») Ну, если уж так получилось, ничего не поделаешь. Валяйте.
Договорились, что он заедет за мной на машине и возьмет меня с собой в Чинечитта, где я смогу увидеть съемки фильма «Пять минут первого».
Необыкновенный, простой, непосредственный, полный обаяния человек.
Внезапный скрежет, стон и грохот. Какие-то огромные куски железа и камня валятся с дьявольским шумом.
Значит, вот оно?
Значит, началось?
Люди так долго ждали, может быть, выжидали, может быть, молились, чтобы это наконец произошло,
если уж должно произойти.
Это совсем не так страшно, как может показаться тем, кто ожидает и молится.
С твоим телом будут происходить вещи потрясающие и никем не предвиденные. Но в течение нескольких секунд ты привыкаешь и признаешь это единственной и неизбежной действительностью. А когда среди криков, среди блеска дня и мрака ночи со страшными стенаниями, такими, что даже искромсанные стервятники улетают от страха и омерзения, ты дотащишься до холодного камня и положишь на него голову, то убедишься, что существует нечто лучшее, чем та единственная и неизбежная действительность, и почувствуешь себя счастливым.
Внезапно скрип, стон и грохот сменились спокойным, мягким и приятным постукиванием, потом все вообще смолкло и успокоилось и только кто-то насвистывал «Я на висках увидел седину».
На этот раз это всего-навсего затормозил поезд и остановился.
Генрик проснулся и зевнул. Ничего нет более успокаивающего, чем хороший, здоровый зевок. Генрик отвернулся к стене, чувствуя полное пренебрежение ко всем катастрофам, земным и космическим.
Донесся крик: «Отправление!» – но поезд еще долго не трогался.
Может ли мир совершенствоваться и стремиться к лучшему завтра, пока существуют учреждения и чиновники? Люди привыкли жаловаться на чиновников и злословить по их адресу. Поносить каждого в отдельности в каждом отдельном случае и всех вместе как явление. Но задумывается ли кто-нибудь над тем, что если в чиновничестве есть что-то мрачное и ужасное, то от этого больше всего страдают сами чиновники? Разве проклинающие бюрократию так ограничены, что не могут вообразить себе, что делается в сердцах и душах чиновников? А в сердцах и душах чиновников происходит то же самое, что и во всех человеческих сердцах я душах. Тоска по любви, поэзии, по чему-то лучшему и благородному. Надежда... Ах, эта проклятая надежда!
Вы видите лицо чиновника в окошечке учреждения, и он уже ваш враг, потому что из адского страха перед адской машиной, служителем которой он является и которая каждую минуту может его раздавить, он отказывает нам в чем-то, что, казалось бы, зависит от его доброй воли.
Ах, как это смешно – говорить о доброй воле кого-то, кто сам всецело во власти демона!
Вы ненавидите чиновника, вашего врага, его измятую одежду и землистое, унылое лицо без улыбки. Вы оскорбляете его, высмеиваете и стараетесь унизить его человеческое достоинство. Это так же недостойно, как оскорблять и высмеивать несчастную лягушку, в которую превратилась прекрасная царевна.
Да!
В каждом чиновнике дремлет заколдованная прекрасная царевна.
Подумал ли кто-нибудь из вас о том, что оскорбляемый и ненавидимый вами человек вчера вечером рыдал, слушая по радио свое любимое «Размышление» из оперы «Таис» Массне или «Грустный вальс» Сибелиуса? А о чем он, слушая и плача, размышлял? К этому ваша фантазия даже не приблизится, поскольку у всех вас, заламывающих в ужасе руки над тем, что современный мир стремится к абсолютной механизации, души механизированные. Вы слушаете ежедневно радио, вам кажется, что оно говорит только для вас, а голос диктора – такая же деталь, как зеленый глазок или усилитель. Но неужели в ваших окаменевших сердцах никогда не шевельнется что-нибудь человеческое, когда вы слышите этот голос? Разве в ваших механизированных мозгах, таких же мертвых, как электронные мозги, но менее точных, никогда не вспыхнет такая, например, мысль, что диктор, который в эту минуту бодрым голосом сообщает о том, что во время дискуссии в Организации Объединенных Наций выступили представители...– что этот диктор ежится от страха и отчаяния, потому что сейчас ему надо идти домой, где его ждет жена, а он пропил деньги, которые должен был отложить, чтобы купить уголь.
Вы слышите, как диктор уверенным, спокойным голосом говорит: «Представитель такой-то страны заявил, что махинации такой-то и такой-то державы слишком хорошо заметны и что...» – и так далее.
Но вы не слышите, как в то же время этот диктор шепчет про себя: «Боже моё, боже мой, что теперь будет? Как я покажусь дома? Может, Эдек даст взаймы? Исключено. Эдек купил телевизор, и у него нет ни гроша. Ни у кого нет ни гроша, так как завтра первое число. Почему я боюсь? Чего я должен бояться? А что, разве я не имею права истратить заработанные деньги, как хочу?»
Но все-таки он боится, и никакие здравые рассуждения не могут прогнать этот страх.
И он вспоминает детство, как возвращался из школы в ужасе, что получил двойку: «Пройдет еще несколько лет, я вырасту и не буду никого бояться». И еще думает он, что на свете ничто не меняется, только детство богаче надеждой, чем зрелые годы. А ему даже нельзя вздохнуть, и он продолжает говорить ровным голосом: «Мы передавали сообщения из газет. А сейчас музыкальный антракт».
И ставит «Размышление» из оперы «Таис» Массне.
Конечно, диктор не чиновник, а, скорее, нечто вроде артиста.
А знаете ли вы, что бухгалтер Маковинский, тот самый, у которого только один зуб и который так ужасно чавкает за завтраком, который совершенно одинок и плакал при всех, когда мальчишки убили камнем его кота, тот Маковинский, который объелся паштетом, когда Петрашевский из жалости пригласил его на пасху, так что пришлось вызывать скорую помощь, знаете ли вы, что когда-то его приводили в детский магазин за ручку мама и тетя. Знаете ли вы, что там ему примеряли бархатный костюмчик с кружевным воротничком, а он топал ножками и кричал:
– Не хоцю, не хоцю костюмцик, хоцю лосадку. А приказчик (дед Чаплика, Чаплик клянется, что это было так) говорил:
– Я уверен, что уважаемая мамуся купит молодому человеку лошадку, но на лошадке нужно ездить в этом прекрасном костюмчике.
Вы не знаете этого, а если бы и знали, вас это нисколько не тронуло бы, черт вас побери!
«Мы сидим в буфете в Чинечитта. Кругом страшный, шум. Снуют рабочие в голубых комбинезонах. В Чинечитта отдельный буфет для артистов и отдельный – для технического персонала. Шаляй всегда ходит во второй. Нужно сказать, что буфет этот прескверный и напоминает буфет на вокзале в Колюшках. Только побольше. С нами сидит Альдо Канзавара, первый оператор и приятель Шаляя.
– Мы вместе партизанили,– говорит Канзавара, а Шаляй делает какое-то неопределенное движение рукой.– Джованни действительно проявлял чудеса храбрости. И не только это. У него были необыкновенные полководческие способности, он чертовски быстро продвигался и мог бы стать генералом или маршалом, если бы не...
– Слушай, Альдо,– прерывает Шаляй, делая в блокноте какие-то записи, – те декорации к сцене «В овине» я категорически отказываюсь принять.
Шаляй не обращает никакого внимания на рассказ Канзавара о том, как они партизанили. Он не возражает, как это обычно делают в таких случаях, не кокетничает. Просто это его не трогает.
– Берета упрям,– говорит Канзавара.
– Не люблю работать с упрямыми людьми. Особенно когда они глупы. У меня нет охоты с ними спорить.
– Я сумею его убедить. Ты больше об этом не беспокойся. Ну так вот, вообразите, является однажды Джованни к начальству и просит, чтобы его освободили от службы. Не можете себе представить, как там все удивились!
– Джованни, ты, что, с ума сошел? – спрашивают его.
– Нет,– отвечает Джованни,– просто я пришел к убеждению, что больше не хочу стрелять.
– Но, Джованни, это ведь фашисты! Неужели тебе нужно объяснять такие вещи?
– Я больше не хочу стрелять.
– Но ведь это война. Джованни, ты никогда не пил, но, может быть, ты пьян?
– В данную минуту я совершенно трезв!
– Чего ты хочешь? Не могу понять. Вообще я не знаю, как с тобой разговаривать.
—Я прошу меня отпустить.
Черт побери, Джованни, мы должны эту войну выиграть! Разве ты этого не понимаешь, не хочешь, чтобы мы выиграли?
– Понимаю и хочу. Но стрелять я больше не буду. И начал объяснять командиру философский смысл
своей позиции, но командир из его речей абсолютно ничего не понял. Он был человек простой и честный. С грустным смирением он кивал головой, а когда Джованни кончил, сказал печально:
– Честное слово, не знаю, Джованни, то ли я должен тебя расстрелять, то ли дать тебе отпуск...
В эту минуту к нашему столику подошел развязный американский журналист с карандашом и блокнотом.
– Простите, мистер Шаляй, как правильно нужно произносить вашу фамилию?
Шаляй, не отрываясь от своих записок, ответил: – Я ее произношу – Шаляй, а вы можете ее произносить как вам хочется.
Это было сказано с таким блеском и юмором и в то же время без намерения оскорбить, что американец расхохотался. Потом начали смеяться все вокруг, в конце концов засмеялся и сам Шаляй...»
Вскоре после того, как было подавлено восстание, начали пробуждаться надежды. Осень была прекрасная, в воздухе висели паутинки, стояло бабье лето, за Вислой гремели орудия. В середине октября было жарко, как летом, и когда человек грелся на солнце и смотрел на мир, такой прекрасный в позолоте, в голубизне и блеске знойного дня, ему невольно начинало казаться, что все перепуталось не только в мире людей, но и в природе.
Генрик жил у приятеля в Миланувеке. Торговал конфетами. Дела шли плохо, и прежде всего потому, что он всегда попадал в какие-нибудь неприятные истории. То у него продырявился мешок, то он должен был спасаться от облавы, бросив товар, то еще что-нибудь. Во время восстания он был ранен в ногу. Рана уже зажила, но он еще прихрамывал. Рана была не очень опасна. Все, кто сражался вместе с ним, погибли, и не было никого, кто мог бы засвидетельствовать, что Генрику полагается высокая награда за героизм и отвагу. Итак, героизм Генрика остался незамеченным. От этого он как-то ожесточился внутренне – от этого и от многого другого. Ожесточился на все, что свершилось как в его личной жизни, так и в общественной. Он был обижен на все.
Но осень была так прекрасна, что трудно было долго сохранять злость и неприязнь к миру. Время от времени над Вислой гремела канонада, приходившие оттуда люди приносили хорошие вести: третий рейх уже не трещал, а с грохотом рушился. Небо было прозрачное, голубое и легкое, как паутина бабьего лета, и так же, как паутина, в воздухе висела надежда.
После восстания, вернее, еще во время восстания, Генрик попал в лагерь в Прушкове. Это был необычный лагерь. Отсюда могли отправить в Освенцим или на работы в Германию, но при везении и знакомствах можно было без особого труда выйти на свободу. Неизвестно почему, может быть в пропагандистских целях, гитлеровцы позволили польскому Красному Кресту опекать лагерь. Ежедневно приходили туда санитарки, ухаживали за больными и истощенными, их сметливость, инициатива и умение договориться с немецким врачом позволяли иногда переправить узника на свободу.
Генрик, мрачный, лежал на грязном матраце. Он был обижен, точно так же как когда-то на школьных вечерах, когда видел, что окружающие не обращают на него внимания. Он лежал на животе, одной рукой подперев подбородок, другой постукивая но холодному цементному полу, время от времени пробегая по нему пальцами, точно по клавишам рояля. Он был погружен в мысли о невезении, постоянно сопутствовавшем ему, и это оберегало его, мешало осознать то печальное положение, в каком он очутился.
– Что с вашей ногой? Ведь это кошмар! Генрик повернул голову.
Над ним наклонилась санитарка. Лицо у нее было строгое, она готова была разразиться упреками, выговаривать, как учительница в школе, которая поймала ученика на какой-нибудь шалости.
Генрик был так поглощен мыслями о своих неудачах, что в первую минуту ему показалось, что слова санитарки «ведь это кошмар» относились к его несчастной судьбе. Это сразу же расположило его к ней, теплое чувство благодарности не исчезло и тогда, когда он понял, что она имела в виду всего лишь грязный бинт на его раненой ноге.
Санитарка выпрямилась и посмотрела на Генрика. Генрик улыбнулся. Улыбнулся не как раненый санитарке, а как парень улыбается девушке. Улыбнулась и она, хотя еще минуту назад казалось, что серьезность никогда не пускает на ее лицо улыбку.
Сквозь рамы, расположенные высоко над потолком паровозного депо, падали косые лучи солнца.
Это была уже не санитарка и не учительница, это была девушка с темными глазами, живыми, чуть тревожными. Она стояла выпрямившись и беспокойно перебирала пальцами, потом поправила белую косынку. Это было совсем не нужно, косынка держалась на ее пепельных волосах безупречно. Нет, это была уже не учительница, а скорее ученица.
Генрик почувствовал, как из его души уходит безразличие. Ему вдруг захотелось выйти на свободу, наслаждаться жизнью. После долгих недель он осознал, а скорее вспомнил, что существует нечто, называемое девушкой. В его мыслях не было ничего грубого или животного. Ему захотелось с девушкой, именно с этой девушкой бежать в лучах солнца через поля и луга, держа ее за руку, и даже не за руку, а за кончики пальцев.
– Я очень одинок,– сказал он и сразу понял, что это не имеет смысла и вырвалось у него совсем
некстати.
Голос был какой-то деревянный, хрипловатый, потому что он давно уже ни с кем не говорил.
Санитарка не расслышала. Ее строгое лицо наклонилось над Генриком.
– Что вы сказали?—спросила она. Генрик кашлянул.
– Ничего, ничего.
– Как вы ходите с таким бинтом? Разве можно допускать, чтобы нога была в таком состоянии? Ведь в любой момент может начаться гангрена. Если уже не началась.
– Я вызвал карету скорой помощи, но они запаздывают. Как вас зовут?
Санитарка улыбнулась, но сразу же снова стала серьезной.
—Ваше ранение опасно?
– Этого я не знаю.
– Давно вы тут лежите?
– Не знаю. Время идет быстро.
– Как это? И вы до сих пор ни к кому не обращались, никто вашу ногу не осматривал?
– Никто.
Она опустилась на одно колено и легким движением дотронулась до забинтованной ноги. Генрику было не больно, но он почему-то застонал.
– Вам больно?
– Нет.
– А почему вы застонали?
– Я вспомнил, что, выходя из дому первого сентября, забыл закрыть газ.
– Перестаньте шутить. Это серьезное дело. Вы хотите умереть?
– С тех пор, как я вас увидел, не хочу. Как вас зовут?
Санитарка осторожно ощупывала его ногу. Казалось, она сердилась. Может быть, она не была сердита, а только делала вид.
– Очень прошу вас,– сказала она тихо,– здесь не место и не время для подобных разговоров.
– В таком случае давайте как можно скорее уйдем отсюда.
Санитарка наморщила лоб и посмотрела на Генрика, что-то обдумывая.
Поезд глухо стучит. Может быть, он проезжает по железнодорожному мосту, а может быть, идет сквозь туннель. Вероятно, такой звук издаёт летящая в пространстве межпланетная ракета. А может быть, она гудит? А может быть, свистит или стрекочет? А может быть, летит беззвучно? Такая тишина страшна.