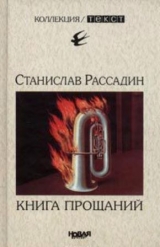
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
«ТОВАРИЩ БОЛЬШЕРОТЫЙ МОЙ»
«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство.
…Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети, ты ли – ангел – ее заслужил?… Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен…Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу.
Это я – Надя. Где ты?»
А он, «Ося», словно бы отвечает Наде, своей вдове, еще надеющейся, что она не вдова, великой прижизненной строчкой: «Заблудился я в небе – что делать?»
Когда я впервые шел в гости к Надежде Яковлевне Мандельштам, я, конечно, не знал об этом письме, и многого не знал. Яи самого Мандельштама прочел, как почти все в моем поколении, поздно: началось с ходившей по рукам машинописи, продолжилось доставанием «допоса– дочных» ранних книг; в конце концов стало ясно, что я обязан о нем написать.
Обязан – перед кем? Да уж не перед человечеством, слава Богу, способным обойтись без моих писаний, а перед собою. Выражаясь хоть неуклюже, зато точнее: перед оглушительным действием, которое произвели на меня стихи. Короче, начал писать и написал что-то вроде небольшой книжки – естественно, ни секунды не рассчитывая на публикацию, даже в обозримом будущем; дальше обозримого я и не заглядывал, сочинил – так, для себя, ну, еще для немногих друзей.
Что рукопись будет читать Надежда Яковлевна, отнюдь не думалось, пока мой приятель, художник, писавший ее портрет, не предложил меня к ней свести.
Я заробел, но одолел стеснительность, чего, как я мельком уже рассказал, не случилось, когда мне предложили «зайти» к Ахматовой, гостившей в Москве. Тогда победило что-то наподобие священного ужаса; теперь же купил, как велел мой спутник, бутылку коньяка и лимон (с чем, не стремясь к разнообразию, и являлся всегда к Надежде Яковлевне, любившей пропустить пару рюмок). Но на подходе к «хрущобе», где на первом этаже обитала вдова Мандельштама, визит чуть не сорвался.
– Знаешь, – сказал мне приятель (к слову, прекрасный мастер, а в ту пору, скажу для понимающих разницу, и прекрасный художник, но притом человек, склонный к фантазиям, попросту имевший в нашей узкой компании незлую, но все же заглазную кличку Ушастый Врун), – знаешь, мне ведь стоило большого труда уговорить ее, чтоб она тебя приняла…
Как?! Я стал столбом, вознамерившись повернуть обратно; художник перепутался, тем паче бутылка лежала в моем кармане, и принялся уверять, что я его не так понял. Хотя его неожиданной выдумке я мог поверить в особенности потому, что о характере Н. Я. был наслышан.
Да однажды и сам убедился при встрече – но еще не знакомстве – с нею…
Поздней осенью 1960 года мы жили в Тарусе с Борисом Балтером, частенько гостюя в теплом доме переводчицы Елены Михайловны Голышевой и ее мужа, кинематографиста Николая Давыдовича Оттена, и вот как-то раз, на минуту прервав застолье, но отказавшись его разделить, к ним заглянули две соседки. Одна сразу меня поразила каким-то необычайным светом выпуклых глаз (оказалось: «Аля», Ариадна Сергеевна Эфрон-Цветаева), но другая… Впрочем, прежде чем разглядеть ее, удивительно некрасивую старуху в нелепом лыжном костюме, я услышал фразу, произнесенную ею еще в дверях:
– Ну, Анька совсем сдурела! Назвала Блока тенором!
А меня как раз только что восхитило стихотворение Анны Андреевны Ахматовой, напечатанное в «Литгазете», где я к тому же служил. Публикация поэта, нескончаемо пребывавшего в немилости у властей, сама по себе была редкостью, а уж строки: «…Тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи» попросту поразили. И вот вдруг… Скажите пожалуйста: «назвала тенором»! Да назвала ли? В опере есть «лирический тенор», есть «драматический» – трагического не бывает. Сказано, стало быть, о чуде, о небывалости Блока.
А как резануло слух: «Анька»!…
Забавно сегодня вспомнить, но слух мой и позже с непривычки шокировался, когда Н. Я., уже в разговорах со мною, бросала:
– Оська сказал…
– Когда мы с Оськой из Чердыни перебрались в Воронеж…
– Если бы я нашла Оськину могилу…
Последнее помню дословно, потому что, высказав это несбывшееся желание, Н. Я. произнесла гениальную фразу:
– …Я написала бы на плите: «Только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык». И все.
Никто никогда так точно не определил сущности поэзии Мандельштама – с помощью его же собственных строк из стихотворения «Батюшков», без сомнения, автопортретного. «Виноградное мясо». То есть – «мясо», подлинная, способная кровоточить плоть, но – «виноградное», нежное. Не насыщающее, а дающее радость. Одушевленная плоть. Материализованный дух.
Продолжу о внешности Н. Я.
Эмма Герштейн описала ее, еще молодую, – не без увесистой капли дамского яду: там были свои обиды. «Со своим длинным крючковатым носом, большим ртом и выдающимися вперед зубами…» Правда, упомянуты пепельные волосы и ярко-голубые глаза, но еще Соня из «Дяди Вани» говаривала, что, когда хотят сказать комплимент некрасивой женщине, хвалят волосы и глаза. Быть может, тем самым невольно – или вольно – намекая, что больше хвалить нечего… Нет, нет, не ждите банальности, согласно которой большая душа, светясь изнутри, преображает лицо (хотя так и есть); речь о другом.
О стихах:
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак.
Кстати, тут все – «как было». Сама Н. Я. рассказала: в сентябре 1930 года, когда они были в Тбилиси, ее тетка принесла им в гостиницу именно ореховый торт. Табак в самом деле крошился – хорошего в лавках не было. А «товарищ» – вот откуда. Накануне им случайно выпало побывать на сухумской даче Орджоникидзе, где отдыхала советская знать, и их забавляло, что партийные жены называли партийных мужей «товарищами». «Где ваш товарищ?» – осведомилась у Н. Я. жена Ежова (!).
Любопытно, что Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец», давая былым знакомцам псевдонимы-клички (Маяковский – Командор, Есенин – Королевич, Бабель – Конармеец, Олеша – Ключик), Мандельштама назвал Щелкунчиком. Вроде бы странно: ведь тот так сказал о жене! И – в то же время не странно. Ничуть.
«Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно», – утверждала Ахматова. «Вообще, – заметим, это слова женщины, которую любили так много и многие, – я ничего подобного в своей жизни не видела». Больше того (если бывает «больше»), «Зачем я тебе нужна?» – как-то спросила Н. Я. у мужа. Он ответил: «Я с тобой свободен». И еще: «Ты в меня веришь». Думаю, мог бы просто сказать: ты – это я.
Когда Н. Я. написала воспоминания и они пошли в самиздат, на них принялись обижаться, даже ругать их – и ее. «Тень, знай свое место!» – словами благороднейшего Евгения Шварца назвал свое открытое письмо ей Каверин, рассерженный ядовитостью многих оценок да, полагаю, и цепкостью памяти, удержавшей то, что иным хотелось бы не вспоминать. Так, вряд ли он сам с удовольствием (есть свидетельства, что совсем напротив) прочитал, как в годы бедствий – других у них, впрочем, и не было – чета Мандельштамов обратилась к нему с просьбой о денежной помощи. Но Вениамин Александрович, единственный из своих(к прочим и не обращались), отказал, сославшись на то, что строит дачу и поиздержался. Правда, еще Сельвинский отделался трешкой, другие, как тот же хулимый ныне Катаев, оказались гораздо щедрее.
Обиды можно понять. У Н. Я. были – вернее, бывали, но не так чтобы редко – злыми и ум, и язык; особенно это относится ко «Второй книге». Возможно, даже наверняка не стоило называть Булгакова, пусть ласково, «дурнем», а 'Зощенко «прапорщиком». Но тем, кто не может ей этого простить, мне хочется сказать: ну издайте ее субъективные мемуары с каким угодно укоризненным комментарием, отведите душу таким полезным манером, и точка. Нет. До сих пор продолжаются нападки, что огорчительно, порою со стороны в общем достойных людей. Например, ту ж фамильярную «Аньку» ей поминают, настаивая на том, что их дружба с Ахматовой была не совсем равноправной, одна говорила другой: «Надя», та – только «Анна Андреевна».
Одно из доказательств неравноправия (цитирую Л. К. Чуковскую, «Записки об Анне Ахматовой»): автор «Записок» не скрывает перед их героиней удивления, что та незнакома с «Воспоминаниями» Н. Я.:
«– А разве сами вы не читали? – спросила я.
– Нет.
– Надежда Яковлевна вам не предлагала прочесть?
– Предлагала.
– Почему же вы не прочли?
– Не знаю… – сделав рассеянные глаза, ответила Анна Андреевна».
Жестче, неприязненнее к Н. Я. подобное изобразил Анатолий Найман. «Я ее не читала», – говорит у него о книге «Воспоминаний» Ахматова. «Удовольствовавшись моим изумлением, добавила: «Она, к счастью, не предлагала – я не просила».
Предлагала?… Не предлагала?… Поди разбери этих женщин, даже – или тем более – гениальных. И – «к счастью»… Вправду ли так? По крайней мере, поэт Мария Сергеевна Петровых (в передаче Л. К. Чуковской) объясняет все это так: «Ахматова была обижена: речь в воспоминаниях идет о событиях, весьма тревоживших ее сердце, а На– де›вда Яковлевна, общаясь с ней, ни разу не упомянула о своей работе». Вернее, Н. Я. предлагала-таки ознакомиться с незаконченной рукописью, но А. А. не стала читать, обидевшись.
Коли так, то и это «к счастью» здесь проявление ревности, свидетельствующей о близости. Если та нуждается в освидетельствовании и засвидетельствовании…
Между прочим, противопоставление его– ей,Осипа Эмильевича – Надежде Яковлевне, принимало формы не только грубого каверинского окрика. Скажем, Твардовский, Мандельштама с его чуждой ему поэтикой на дух не переносивший, прочитав «Воспоминания» и восхитившись – увы, так сказать, частным образом, о публикации речи быть не могло, – и само восхищение выразил в своем роде: «Еще до конца рукописи явилось ощущение, что это, в сущности, куда больше, чем сам Мандельштам со всей его поэзией и судьбой. Вернее, здесь и бедная судьба этого крайне ограниченного, хотя и подлинно талантливого поэта, – с крайне суженным диапазоном его лирики, бедного кузнечика, робкого (умершего, в сущности, от страха еще задолго до конца) и продерзостного – приобретает (судьба эта) большое, неотъемлемое от судеб общества значение»…
Что тут скажешь? Да, в общем-то ничего, помимо того, что в этой снисходительности, сочувственно-высокомерной, по отношению к одному из величайших поэтов русского XX века – отзвук эстетическойдрамы самого Твардовского, неуклонно руководимого опаснейшей для поэта и для поэзии формулой, которую он любил повторять: дескать, настоящие стихи – такие, которые читают и люди, обычно стихов не читающие.
(Сегодня, когда пишу эту книгу, когда смыло, будто бы их и не было никогда, такихчитателей стихов, – нуждается ли формула в специальном опровержении?)
«М. б., соберусь написать автору», – раздумывал (в рабочей тетради) Александр Трифонович. Спасибо ему, написал; еще большая благодарность за то, что, разумеется, удержался от своей оценки поэзии и судьбы Мандельштама, а то было бы нетрудно вообразить реакцию Н. Я. Это при том, что ей среди иных обвинений поминали в укор грустную фразу той поры, когда ее мужа принялись уже помаленьку извлекать из насильственного забвения, примеряя к нему превосходные степени. Что-то вроде: сперва убили, забыли и – вот, наверстывают упущенное. Но Ося – не великий поэт».
Почему так сказала? Почему хоть кому-то подала повод заподозрить ее в недооценке его? Не знаю – но как не расслышать в этой горчайшей фразе ревность не собственницы, но в самом деле второго «я»: мол, мне-то уж не объясняйте, кто он таков и чего стоит…
Поразительно, что именно самому неприкаянному, самому житейски беспомощному из всех российских поэтов – всех, не только XX века – вьшало встретить подругу, столь понимающую, столь верную… Да что там! «Равновеликую», как выразился друг Н– Я., поэт Николай Панченко, – что доказано не только ее книгами, но всею судьбой. Оставим сопоставления со спутницами Блока, Маяковского, Пастернака, но и тот идеал женской преданности, который первым приходит в голову, Анна Григорьевна Достоевская, – можно ль ее вообразить на месте жены Мандельштама? Могло ли ей в самом страшном из снов привидеться то, что наяву произошло с нею и с ним?
Нельзя. Не могло. В той самой степени, вкакой тяжелый конец тяжелой жизни Достоевского несопоставим с тем, как двое зеков оттащат в морг тело поэта, несколько дней бесхозно провалявшееся на лагерной свалке, и веселый блатарь вырвет плоскогубцами из мертвого рта три золотые коронки…
Второе «я» представало в темпераментнейшей пристрастности, с какой оспаривалось то, с чем Н. Я. была не согласна в литературе, и тем более в великолепном презрении к тому, что она полагала достойным только презрения. (Тут было многое, если не все, именно от самого Мандельштама, от его отвращения к «писательской расе», запродавшейся «рябому черту на три поколения вперед» – аккурат до поры, когда уже она скажет: «В своем одичании и падении писатели превосходят всех».) Далее мы с ней с первых минут знакомства начали препираться довольно жестоко, смутив приведшего меня к ней художника, – говорю «даже», ибо спор шел о нашумевшей статье Наума Коржавина «В защиту банальных истин»: мне он был другом, а ей вполне симпатичен. Что ж до других… О-о!
Можно ли было не радоваться, что не в СССР, так в Америке издают полного Мандельштама – пусть относительно полного; речь же еще не игла о зверски обглоданном и, будто конвоем, сопровожденном похабной статьей Дымшица однотомнике 1973 года, насилу изданном и у нас (за которым, впрочем, я, как многие, отстоял в очереди много зимних часов). Я и радовался, с недоумением выслушивая хлесткие реплики Н. Я. насчет составителей и комментаторов Глеба Струве и Бориса Филиппова, чьи ошибки на первых порах и в отрыве от России были попросту неизбежны.
Или – в журнале «Литературная Грузия» выходит, что по тем временам уже само по себе необычно, статья Георгия Маргвелашвили о Мандельштаме, и мало найдется презрительных слов, коими Н. Я. не удостоила бы эту благородную акцию.
Справедливо? Не думаю. Несправедливо? Как посмотреть.
С одной стороны, грузинский журнал, обретавшийся на периферии империи и кое-что себе позволявший из того, чего не позволили бы в столице, и на сей раз высоко оценил полузапрещенного поэта. С другой, находясь под общим цензурным гнетом и словно бы потакая ему, автор изображал Мандельштама вполне лояльным советской власти, этаким беспартийным большевиком, если даже и фракционером, ненавидящим Сталина, зато обожающим Ленина, – что было неправдой, притом во всех отношениях. Лояльности быть не могло, Ленин Мандельштама не занимал, а Сталин как конкретное воплощение грозной власти – весьма, и вынужденные славословия, столь резко контрастирующие со знаменитыми строчками о «кремлевском горце» (ставшими непосредственным поводом ареста и гибели, но не больше, чем поводом, сыскался бы и другой), причиной имели страх. И надежду спастись.
Кстати, когда Н. Я. читала мою работу о поэзии ее мужа и наткнулась на соображения, до чего беспомощны и убоги строчки вроде: «…Прошелестит спелой грозой
Ленин… Будет будить разум и жизнь Сталин», она возразила:
– А вы знаете, что у Оси был и другой вариант: «Будет губитьразум и жизнь Сталин»?
– Надежда Яковлевна! – что называется, возопил я. – Но ведь это еще хуже, эти счеты, эта игра в хорошего Ленина и плохого Сталина! А кроме того – я же все это говорю в похвалу Осипу Эмильевичу! То, что такие стихи бездарны, значит – ему их писать было противно!
Н. Я. засмеялась и спорить не стала…
Так или иначе, статью Маргвелашвили я перед ней защищал. Ведь, убеждал ее я, власти тем самым подсказывается, что Мандельштам – «хороший». Что его наконец можно, не страшно издать! Н. Я. этим тактическим резонам внимать не хотела.
Спрашиваю себя: почему она, напротив, так мягко отнеслась к моей работе, сделав на только что вышедшей книге «Разговор о Данте» надпись: «Стасику с радостью, что он оценил «старика и неряху», т. е. стихи Мандельштама»? Почему?
Спрашиваю – честное слово! – без доли кокетства. Не берусь же, лицемерно потупившись, хулить свою позднюю книгу «Очень простой Мандельштам», – а та была слабенькой, мысли ее не поднимались выше догадок, анализ страдал приблизительностью. Но вот поди ж… И ответ вижу только такой: не обольщаясь насчет достоинств моей работы, Н. Я. была снисходительна к ней потому, что не видела там хитроумия, тактики, оглядки на цензуру, то есть законности ее права мною руководить. Снова – не хвастаюсь: руки мои оказались развязаны лишь по той простейшей причине, что писалось не для печати, а в стол, для себя. Хорошо, что получилось – и для нее, для Надежды Яковлевны. За это спасибо судьбе и приятелю– художнику.
Даром что онже, взревновав, стал причиной прекращениямоих отношений с Н. Я. «Знаешь, она говорила о тебе очень плохо».
Я – опять – остолбенел, от обиды и не подумавши объясниться. Только время спустя услыхал от кого-то: «А Надежда Яковлевна все удивлялась, куда ты делся. Она же к тебе так нежно относилась».
ЭТОТ ОТСТАЛЫЙ КОРЖАВИН, ИЛИ ПЕСНЯ ДОМАШНЕГО ГУСЯ
У меня зазвонил телефон. Кто говорит?…
Говорил некто, смысл слов которого дошел до меня не сразу – то ли по причине дефекта речи собеседника (впрочем, не исключаю нетрезвости), то ли из-за странности самого смысла:
– С вами говорят…
Последовало длинное название какой-то ассоциации – что-то связанное с защитой культуры.
– У нас есть текст в несколько страниц, подписанный очень видными деятелями культуры. О необходимости эмиграции.
Полагая, что не совсем понял, я переспросил, и из трубки поперло яростное: «Страна одичала… После перестройки вернулись в допетровскую эпоху…» И опять: эмиграция! Только эмиграция! Уже осознав, о чем разговор, я спросил: от меня-то, мол, что вам надобно? «Чтобы вы проявили интерес к тексту». – «А в какой форме я должен этот интерес проявить?» – «Подписав его».
Не желая вступать в спор с невидимым и неведомым человеком, я ответил уклончиво, впрочем сказав почти правду:
– Знаете, я подписываю, как правило, то, что сам написал.
И получил – с интонацией, в которой отчетливее всего звучали злость и угроза:
– Ну, погодите! Вот будет Варфоломеевская ночь, тогда вам отрежут яйца!
И – шварк! Звук не положенной, а в сердцах брошенной трубки.
Это – к вопросу об одичании. О том, кто и каким манером готов спасать от него нашу культуру.
Странно – то есть странно для тех, кто не знает близко персону, о коей я собрался говорить, – но, положив трубку, подумал: в какую бы ярость пришел, услыхав предложение моего анонима, Эмка. Выражаясь официальной, Наум Коржавин. Да, он, гражданин США, эмигрант – и уже с многолетним стажем.
Этот титул для меня по сей день звучит дико. Как-то, в один из его визитов на родину, пришлось вести его вечер в каком-то литературном музее, и из зала пришла записка: не странно ли вам видеть на афише у входа: «Наум Коржавин, США»? Я неуклюже отшутился в том роде, что это и в самом деле не более правдоподобно, чем «Наум Коржавин, «Спартак», – и, вероятно, сама неуклюжесть остроты нечаянно отразила нелепость ситуации. Эмка, наш Эмка, существо российское и московское, поистине почвенное, – в Америке?
…– Постоим за веру православную! – едва не первые слова, которые я от него услыхал аж в 1959-м… Нет, вру, незадолго до того я мельком с ним познакомился в издательстве «Молодая гвардия», куда он по переводческим делам зашел к Булату Окуджаве и поразил меня – выражаясь мягчайше – нетривиальным обликом.
Правда, уже давно миновали послевоенные времена, когда Наум Коржавин, тогда еще бывший Наумом Манделем, учился в Литинституте (в общежитие коего потом заявились ночной порой забрать его два энкавэдэшных чина) и ходил зимой в виде уж совсем легендарном. Вспоминают буденновский шлем, шинель на полуголое тело и дырявые валенки, которые он был вынужден… Есть ли такой глагол? Я его, во всяком случае, не сыщу по причине уникальности ситуации. Подбивать? Подгонять? Все не то. В общем, делать так, чтобы продранные подошвы вкупе с прорванными носами загибались наподобие улитки или бараньего рога, а ступня опиралась на пока еще целые голенища.
Но об этом я только слыхал, а если и видел, то, так сказать, во второй реальности, в исполнении скульптора-стихотворца Виктора Гончарова: миниатюрная шаржированная фигурка, где как раз и буденовка, и шинель, и нос картошкой, называлась (по тем временам – точно) «Последний романтик». Каковым Мандель-Коржавин и был:
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах…
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные – кругом…
И я бродил в акациях, как в дыме,
И мне тогда хотелось быть врагом.
Год написания – 1944-й. Автору – девятнадцать…
Словом, увидав его в издательском коридоре, пусть уже в каком-никаком пиджачке, я был заинтригован мгновенно и, когда он, побеседовав с Окуджавой, отбыл, спросил:
– Кто это?
– Очень интересныйчеловек! – со значением, словно выдавая некую полутайну, ответил Булат.
Коржавин вообще ошеломлял – всех и всегда. И той же внешностью, и костюмом, которым не бывал озабочен и в более благополучные годы, ежели допустить, что они у него бывали, и своей странностью, граничащей с несоблюдением всевозможных манер, – слово «странность» произношу в связи с ним не в первый и вряд ли в последний раз. «Ненормандель», – каламбуря, именовал его Евгений Винокуров, что Эмку злило, несмотря на очевидную беззлобность шутки; впрочем, тут же вспоминаю и следующее.
В годы, когда я находился, патетически выражаясь, в опале, а скромнее сказать: меня почти не печатали по причине неких огрехов на ниве идеологии, в Детгизе, едва не единственном для меня месте прикорма, задумали издать Баратынского и заказать предисловие мне. Но тут уж и этот оазис решил поставить шлагбаум при въезде; тамошняя главная редакторша, рассказывают, вскричала: «Рассадину не заказывать ни в коем случае! Он ненормальный!» Хотя не возражала, чтобы автором статьи стал Коржавин, и он, узнав об этом, обиделся. И за себя, и за меня:
– Почему это она про Стасика так сказала? По-моему, я гораздо ненормальней его!
К нормальности-ненормальности нам не миновать вернуться, а пока…
Итак: «Постоим за веру православную!» – врывается этот полузнакомец в комнату «Литгазеты», где сижу и я, только-только туда перешедший. Оказалось, как раз за несколько дней перед тем «Литературке» удалось напечатать стихи столь неблагонадежного автора. И по этим стихам грубо грохнула «Комсомольская правда», в ту пору – дочернее подобие «Правды» взрослой, иной раз дававшее маме фору по части бдительности. Для полулиберального органа, каковым была наша газета, это означало необходимость жалко оправдываться, для сочинителя неугодившего текста – длительное недопущенье в печать.
За что? За проблеск политического оппозиционерства? За «групповщину», как тогда именовали проявление личного вкуса, именно негрупповых взглядов? Нет, за другое. Нот за это:
По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
И далее, вплоть до финала: «Видно, предки верили в бога, как в простую правду земли».
Хотя – передергиваю, цитируя. Тогда невозможна была заглавная буква в слове «Бог» и само оно было под подозрением. Финальные строки в печать не прошли, и мысль стихотворения скромно свелась к восхищению изысканной простотой гениального храма близ Суздаля: «Будто создана ты не зодчим, а самой землей рождена». Только-то.
Тем не менее… «Так и видишь поэта, в молитвенном экстазе стоящего на коленях…» – глумилась официозная «Комсомолка», в годы хрущевского погрома старинных храмов указывая «Литгазете» на идеологическую провинность. Заодно обвиняя поэта – еврея, тогда еще не вошедшего в лоно православия – это случится, но позже, – в недопустимой склонности к оному.
Парадокс? Но что-что, а уж это слово чересчур лестно для противоестественности комсомольско-партийной психологии и совсем плохо вяжется с коржавинским нравом.
Что до Коржавина, его «странность» – в непосредственности. «Ненормальность» в непреклонной нормальности, являемой на протяжении всей жизни. Напомню: не как-нибудь, а «В защиту банальных истин» назвал он статью, напечатанную некогда «Новым миром» Твардовского, породившую нешуточную полемику и чуть не поссорившую меня с Надеждой Яковлевной Мандельштам – ей статья показалась слишком ортодоксальной.
Конечно, не политически, а эстетически.
Вообще способность так бурно воспринимать сочинение, не выходящее за пределы культуры, эстетики, поэтики и т. п. – пусть даже на сей раз задевшее надежду «новаторов» Вознесенского и испугавшее пуганых будто бы выпадом против свободы «формы», – это само по себе характеризовало то время. Литературная полемика не имела возможности вестись по вопросу идеологического выбора, полагалось считать или делать вид, что все мы – в едином строю. Только одни – ретивые «автоматчики» (словцо Хрущева), другие, тоже участвуя – а как же иначе? – в наступлении на общих врагов, хотя бы позволяют себе идти «рассыпанной цепью»; именно так Василий Аксенов первоначально назвал мигом прославившую его повесть «Коллеги». Это, с его стороны, выражало надежду на относительную независимость в той армии, из которой никто пока не смел дезертировать.
Верхом смелости, пока допустимой, но уже рискованной (отчего в моих словах ни в коем случае не надо видеть иронию), была борьба с «проповедью серости и посредственности» – это уже название заметки Твардовского в «Литгазете», в то (свое) время ставшей истинной бомбой. А критерием, согласно которому черта – непримиримая! – между его «Новым миром» с робко примкнувшими «Юностью» и «Литературной газетой» и, по другую сторону, кочетовским «Октябрем» плюс «Молодая гвардия» и «Знамя» Вадима Кожевникова, была фраза того же «Трифоныча»: никакой, дескать, групповщины в помине нет. Просто одни писатели прочли «Капитанскую дочку», другие – не читали.
– Конечно, «мо» было содержательней смысла, лежащего на поверхности, даже в обобщенном его толковании – как овладения или неовладения культурой. Не выходя из тесных границ этой острой фразы, можно сказать: дело было и в том, что вычитывали в «Капитанской дочке» и ее, условно говоря, прочитавшие. Непреклонность следования правилам чести (Петруша Гринев)? Соблазнительность рабской преданности (Савельич)? Готовность к «перемене позиции», к беззастенчивому переметничеству (Швабрин)? О «бессмысленном и беспощадном» бунте, о пугачевщине покуда не думалось.
Говоря короче, статья Коржавина воспринималась – в серьезнейшем смысле и была – явлением общественным.
11ем, впрочем, всегда оказывается акт вразумления, в согласии с каковым дважды два – четыре, а не шестнадцать, не четырнадцать, даже не десять: в данном случае приближение к «банальной истине» истинности не прибавляет… Хотя я уже почти пересказываю коржавинскую же «Арифметическую басню» 1957 года, где участь знающих правильный отпет выглядит безнадежно печальной: «Тот вывод люди шутками встречали и в тюрьмы за него не заключали…»
Заключали, заключали! Как заключили самого автора.
Итак, одних тогда восхитила ясность его мышления («…Поэтическая форма больше похожа не на форму одежды, которую человек может выбрать по своему произволу, а на ту, в которой он себя ощущает, когда говорит: «Я в форме»), других яростно возбудила как попытка ограничить свободу творчества.
Помнится, мы с Бенедиктом Сарновым, безусловные сторонники Коржавина, факультативно веселясь, сочинили стишок, длинно озаглавленный: «Поэту Коржавину, именующему себя Эмма», – отчасти дабы его подразнить, отчасти пародируя логику нападок на него:
Флобер однажды, сидя дома,
Самодовольства не тая,
Похвастался своим знакомым:
Мол, дескать, Эмма – это я!
Давно известно, что Коржавин –
По части слога – не Флобер.
Флоберу он, увы, не равен,
Флобер изящней не в пример.
Но как порой судьба лукава!
Не смысля в форме ни…,
Коржавин все ж имеет право
Воскликнуть: «Эмма – это я!»
– Суки! – вскричал адресат эпиграммы, услышав ее из наших уст. – Про менясказать, что я ничего не понимаю в форме?! Эмочка! – кротко ответствовал я. – Ну, хочешь, мы заменим: «ни в чем не смысля ни…»?
– Но это же будет совсем неправда, – недоуменно возразил поэт, шутки не оценив. И был, разумеется, прав и в одном, и в другом.
Чуть не добавил: прав, как всегда. Да сам он и считал – как считает – именно так.
Никто, пожалуй – а я ведь уже поминал с признательностью замечательных стариков! – не влиял на меня с такой подавляющей силой, как тот, которого я почти сразу стал звать Эмочкой, Эмкой. Что – говорю о влиянии – иных раздражало, по крайней мере во мне. Цитирую дневниковые записи прозаика Марка Харитонова (его книгу «Стенография конца века») – о том, как однажды Давид Самойлов в разговоре с ним хвалебно отозвался о моих писаниях. «Когда я напомнил ему…» Как трогательно: действительно, вдруг тот позабыл? «…Что прежде он не особенно жаловал этого критика, он объяснил: «Они из всего стараются извлечь идею. У Рассадина, Бена Сарнова любимым поэтом был Эмка Мандель. Потому что им нравились у него идеи».
Сейчас, пересказывает Харитонов самойловские слова, «ему нравится, что критик…». То бишь – я, но это «нравится» к настоящему разговору отношения уже не имеет.
Другое дело, что потом я же долгие годы выпрастывался из-под Коржавина, как из-под навалившейся медвежьей туши, навсегда сохранив благодарность за, худо-бедно, вправленные мозги. Да и по молодости иной раз позволял себе бунт – не беспощадный, но уж точно бессмысленный, ибо он был немедленно подавляем.
«Стасик!
Мне очень не по себе после нашего сегодняшнего разговора. Я не понял ничего из того, что ты говоришь.
Не понял, почему у меня появилось самомнение… Не понял, какие общие для меня недостатки проявляются в моей незаконченной поэме, к тому же недостатки, являющиеся продолжением достоинств.
…Разумеется, ты можешь смотреть на мое творчество не совсем так и даже совсем не так, как я сам. Но…»







