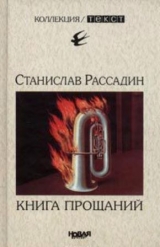
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
СТАРИКИ (2)
Существует, как слишком известно, понятие: профессиональная деформация. У врачей, привыкающих к страданию до степени равнодушия и цинизма, хотя, возможно, продолжающих делать свое дело столь же профессионально. У судебных следователей – и т. д., и т. п.; а как с писателями?
То есть сам вопрос вроде бы чисто риторический: чересчур уж много примеров деквалификации, наглядных тем более, что люди этой профессии на виду («самоубийством» с помощью простейшей метафоры назвал я сам – в книге, озаглавленной соответственно «Самоубийцы», – распространеннейший, хотя всякий раз индивидуальный, случай отказа от собственной талантливости. Ее преодоления). Но можно ли признать подобную деформацию именно профессиональной – по крайней мере, только такой?
Писательство (простите очередную сугубую тривиальность) – такое дело, которое, что б там ни говорили, непосредственно связано с комплексом качеств психических, интеллектуальных, этических, попросту человеческих, – эта связь, добавлю, отнюдь не замечена мною в иных творческихобластях, в живописи или музыке. То, что мы с неудовольствием узнаём о Вагнере, не помешало ему быть гением. «А Бонаротти?…» Почему бы и не поверить в конце-то концов, что Микеланджело в самом деле распял натурщика? Не верит – автор «Моцарта и Сальери», литератор…
В его – говоря широко и от безбрежности широты не пугаясь наглости присоединения, в нашем – деле деформация равна деградации. Я уже мельком упомянул, сам заново удивившись воспоминанию, что Юрий Бондарев в начале шестидесятых был не только талантлив (вот вкуса – его всегда не хватало явственно), но и скромен, симпатичен, порядочен.И при всей кричащей контрастности его прежнего и нынешнего состояний путь, им проделанный, зауряден.
Как бы то ни было, на фоне, где деградация, «самоубийство» этого небуквального рода едва ли не превратились в обычай (да что там – превратились, перестав удивлять), с особенной нежностью вспоминаешь… Ну, к примеру, «старика» Паустовского, с которым лично меня свела судьба, принявшая облик незабвенного Бори Балтера, любимца Константина Георгиевича, в последние годы – его опору; и частые посиделки в тарусском доме Паустовских зимой 60-го и летом 61-го вспоминаются даже не своей содержательностью, может быть, и вовсе не ею, каким бы рассказчиком из породы великолепных врунов ни был «старик» (походя вспомнилось: то и дело прерывавшийся властным жестом супруги, Татьяны Алексеевны: «Костик, ты не так рассказываешь!»), но – счастливой легкостью. Которая робко, под постоянной угрозой исчезновения, вскорости подтвердившейся, еше витала в воздухе той поры, а здесь, в островной Тарусе, словно обретала надежность и легитимность…
Примерно тогда же я недолгое время появлялся в доме Николая Николаевича Асеева – сперва по литгазетским делам, потом по давнему интересу не столько к нему как таковому, хотя, разумеется, не без того, но к нему как «другу Маяковского». И даже пользовался его расположением (поэт Юрий Панкратов – мне: «Он что, действительно поливает для тебя пирожные коньяком? Ну, значит, он тебя полюбил!»). Впрочем, вскоре начал увиливать от визитов, а когда телефонный звонок Асеева, обычно длившийся около часа, настигал меня в «Литгазете», маялся и роптал.
Кончилось его злой обидой (несправедливой, основанной лишь на том, что начальство не захотело напечатать ›1 о статью); до меня доходила ругань в адрес «этих литера– |рных мальчиков Рассадина и Окуджавы» (Булат обвинялся в том же), но разрыв сознаю с нынешним острым недовольством собою. Хотя бы и как будущим автором них воспоминаний. Не хватило нормального любопытства, нс говоря о более основательных достоинствах вроде простой человеческой терпеливости, – и в результате что могу вспомнить?
Немного.
Предположим, однажды, придя, застаю хозяина играющим в любимые карты не сказать даже: со стариком – со старичком вполне затрапезного вида. Асеев зол, потому что проигрывает, однако, завидя меня, восклицает фальцетом:
– Смотрите, Станислав! Играют два последних футуриста!
Старичок запротестовал: «последний» показалось обидным. Николай Николаевич его успокоил: дескать, это всего лишь в смысле их возраста, и немногим спустя тот (оказалось – Крученых!) сообщил мне с отчетливой гордостью:
– Французы наконец-то перевели мое «дыр бул щил»…
Произнес: «щыл» – мягкое «щ» подпер грубым и толстым «ы».
– Но разве ж они могут? Что у них за язык? Получилось, – он с отвращением протянул-програссировал: – Ди-иг… бю-юль… чи-иль…
(Как все беспричинные воспоминания, это тоже кажется исполненным сразу множества смыслов: тут вроде бы и хю 1гап$к словесного авангарда, его поистине транзитнаяроль, и застарелая российская гордость – «что русскому здорово, то немцу смерть», «у француза кишка тонка», и, при таком-то повышенном самосознании, странная зависимость от них. Онипризнали тебя! Те.Которые там.)
Или – то, что делает Асееву несомненную честь. (Если скажу, что здесь опять-таки странность: у нас добродетелью почитается всего лишь отсутствие порока, то никак не в укоризну ему.)
Как-то он мне пожаловался, что в биографическом словаре Масанова – не по случайности, как он уверял, а дабы ему навредить в глазах могущественных юдофобов – о нем написано: «Асеев Н. Н., настоящая фамилия Наппельбаум…»
– Поймите, Станислав! Я не антисемит! Но я же в своих стихах писал, что я русский, курский… Получается, что я врал?
Но юдофобы имели основание быть им недовольными. Раз молодые поэты – тот же Панкратов, которого он отличал, и Харабаров явились к нему – с бутылкой вина, однако враждебно насупленные:
– Николай Николаевич, зачем вы хвалите этого жиденка Соснору?
– Я им тут же крикнул: «Вон!» Ушли. Но через несколько минут звонят по телефону: «Николай Николаевич, бутылку забыли». И тогда я окончательно понял: го-вно!
А вместе с тем…
Что поделать, я не успел застать Асеева таким – хотя бы таким, – который сам свой грех перед Мариной Цветаевой (не защитил по слабодушию в Чистополе, получается, вместе с негодяем Треневым толкнув к петле, не пригрел завещанного ему Мариной Ивановной ее сына Мура) мог пережить с покаянной мукой, говорящей, что бы там ни было, о неубитой душе. Как вспоминала поэтесса Надежда Павлович – ссылаюсь на прекрасную книгу Марии Белкиной «Скрещение судеб», – однажды, зайдя в православную церковь под Ригой, в Юрмале, она увидала Асеева на коленях «у правого клироса перед иконой… Он молился, и по лицу у него текли слезы». Николай Николаевич потом сам ей скажет, что замаливал: «Он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват».
Увы. МойАсеев удручал – и удручил-таки – суетностью, вообще проявлениями натуры, казалосьникак не вязавшейся с авторством «Лирического отступления» («Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено – рыжим цветом, а не красным – время!») или «Надежды» («Убийство зовет убийство, но нечего утверждать, что резаться и рубиться – великая благодать» – не по– страшился написать такое в кровавом 1943-м!). Когда кто– то спросил его, зачем он, переиздавая старые строки: «Да здравствует революция, сломившая власть стариков!», заменил три последних слова с задорной их авангардностью на: «…и правда большевиков!», он ответил:
– Я же теперь сам старик.
Ответил со всем простодушием, не лукавя, не заметив, как аукнулся с «Синими гусарами» (1926), которые мне, как и многим, в юности нравились в особенности:
– Я тебе отвечу:
– друг дорогой,
гибель не страшная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,
голову выбелив,
стать стариком.
Или – сетовал: вот, мол, хочу написать поэму о Сталине (на еще не совсем сошедшей волне XX съезда) – и звонил в ЦК, партчиновнику Черноуцану, слывшему среди литераторов либералом. Просил его растолковать что и как; тот, однако, отговорился: Николай Николаевич, как я могу вам, поэту, советовать?…
– Не может… Не хочет! Хорошо Твардовскому, он с Хрущевым каждый день чай пьет. А мне кто объяснит?
Друг Маяковского! Соратник. «Коляда». «Правда, есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя»…
Скорее всего, не тогда – впрочем, точно не помню, – но стала возникать мысль: а могла ли произойти подобная метаморфоза с (пофантазируем) Маяковским? Если бы выжил…
То есть на этот прямолинейный вопрос ответ находился сразу: да не выжил бы, не мог выжить. Избежавши каким-то чудом собственной пули в 30-м, получил бы чекистскую в 37-м (любопытно: кто бы тогда был объявлен «лучшим, талантливейшим»?). Но есть ли хотя бы закономерность в том, что не собиратель Чуковский, остававшийся «живым и только до конца», а тот же Асеев, «футурист», «стальной соловей», верный лефовец, устремленный в будущее безотчетно и безоглядно: «Вас, отошедших в наследное лоно, даже не вспомнит наша колонна», проделал тот путь, который проделал? И демонстрация воли, разделенной с полумифической революционной массой, позаимствованной у «колонны», – должна ли она была (что смогла, в этом пришлось убедиться) обернуться безволием и беспомощностью?
Что касается «старшого», Маяковского, то он, перед тем, как убить себя, в последней поэме, будто с намеренной броскостью, явил свое главное внутреннее противоречие. Поистине – убийственное. Признавшись: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне» (причем именно признавшись, признав мучительность насилия над собой), в черновике продолжения доказывал, вольно или невольно, сколь неуступчивым оказывается горло. Сколь непросто перехватить его вольное дыхание: «…надеюсь верую вовеки не придет ко мне позорное благоразумие». И тем более:
Я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба шагать
четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звенит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки
«Тем более» – потому что произошло, казалось бы, невозможное. Тот, кто в молодости был до отчаяния раздосадован, что на игрушечных выборах Короля Поэтов победил не он, а Северянин (о Блоке никто и не вспомнил), кто в зрелости был готов решительно все, вплоть до собственного своеобразия, отдать ради его признания массами, – он высказывает готовность существовать так, как соглашался и существовал во всех отношениях чуждый Маяковскому изгой Волошин: «…Почетней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой. При жизни быть не книгой, а тетрадкой».
Предсмертная поэма «Во весь голос» – словно попытка вернуть себе себя прежнего, и, может быть, роковой выстрел – последнее проявление собственной, самостоятельной воли.Находящейся на грани окончательного, бесследного исчезновения.
А – исчезала-таки.
Вот иду я, заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже, в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина, вижу –
выжжена южная жизнь.
…Пусть исчезну, чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
Конечно, тому, кто привык к Маяковскому, разобранному на лозунги: «Труд, мир, май!… Делай ее с товарища Дзержинского», нелегко поверить, что и это – он. Стихотворение «России» 1916 года. (Как и поздний, смирившийся, смирный Асеев будет решительно не похож на себя молодого: «Простоволосые ивы бросили руки в ручьи. Чайки кричали: – Чьи вы? – Мы отвечали: – Ничьи!» Между прочим, тот же самый год, а опаснаястрока: «…мы ж не имеем родин» – как перекличка с будущим другом п командором.)
Правда, вскоре настроение переменится. «Снеговой уродине» отныне будет противостоять не придуманный экзотический рай, а «разлив второго потопа». «Третий интернационал». И сама поэтическая индивидуальность, так трогательно, лично, именно индивидуально страдавшая в поэмах «Облако в штанах» или «Флейта-позвоночник», сменит обреченность на… Не иду дальше и глубже обшепамятного: «Единица! Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка…А если в партию сгрудились малые…»
Разве что выстрел, разом развязавший все узлы, может заставить и в этом угадать все ту же трагическую боязнь одиночества и изгойства.
А Асеев…
В моей библиотеке – его двухтомник, подаренный им в декабре 1959-го («Дорогому Рассадину Станиславу стихи, написанные мной за сорок лет»). И на странице, где напечатано стихотворение 58-го «Встреча» – о загробном союзе с тенью Маяковского, – стариковским нетвердым почерком сделаны исправления и дополнения, устраняющие следы цензурного бесчинства.
Бесчинства, в общем, понятного.
В несуществующее время,
в отсутствующее пространство,
летим, вдвоем с тобой дружа,
объединясь в заветной теме,
все пламенней и беспристрастней, –
вселенской цели сторожа
.
Заметно тривиальные четвертая и пятая строчки – эрзац. В неиспорченном оригинале – продолжение темы дружества, независимого от того, чём и как отметит друзей «мирская власть» с ее иерархией: «…без всяких орденов и премий, без ненавистей и пристрастий…»
Тем паче нетрудно понять, отчего вызывающую строку: «Пусть правду по архивам пряча…» меняют на мирное: «Пускай биографы, судача…» Но какая сила заставляет отбросить последнюю строфу, ежели и крамольную, то единственно смелостью образа?
Мы ж как картофель для посадки,
но только на вселенской грядке,
разрезанные на куски, –
какие б ни сырели будни,
какие б ни болтали блудни, –
опять даем свои ростки.
Очерк Пастернака «Люди и положения» написан двумя годами раньше этих стихов; представлен в «Новый мир» в следующем, 1957-м; напечатан будет лишь через восемь лет, посмертно, и я по неведению не мог спросить Николая Николаевича: дескать, не был ли этот самый «картофель» полемическим откликом на слова Бориса Леонидовича о том, что после сталинской фразы насчет «лучшего, талантливейшего» Маяковского «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине»? Этого так и не знаю и не узнаю, отметив, однако, что, во-первых, «Встреча» ритмически явственно перекликается с пастернаковской «Смертью поэта» (1930), а во-вторых, то стихотворение тоже было обкарнано редактором при публикации – и тожеза счет заявки на предпочтительную, исключительную близость к покойному.
(Кто не помнит, вот финал «Смерти поэта», в свое время в печати не появившийся:
Друзья же изощрялись в спорах,
Забыв, что рядом – жизнь и я.
Ну что ж еще? Что ты припер их
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?
Но мрази только он и дорог.
На то и рассуждений ворох,
Чтоб не бежала за края
Большого случая струя,
Чрезмерно скорая для хворых.
Так пошлость свертывает в творог
Седые сливки бытия.
Тоже?И это при том, что у Пастернака претензия на особое родство заявлена прямо, в пику «друзьям», средь коих, разумеется, и Асеев, действительно споривший, в том числе с самим Маяковским. Разругавшийся было с ним из– за отступничества от лефовских принципов и вступления в РАПП, – а у «Коляды» такой претензии вроде бы нет?
Есть, есть. Непрямая, но убедительная, воплощенная в «странности», «инакости» образов, тем самым уже заявляющая об отдельности.
В результате Асеева, «наиболее ортодоксального «маяковца», как еще на Первом съезде писателей его двусмысленно окрестил Бухарин (а злоязычный соперник Сельвинский попросту называл «деталью монумента» при заживо бронзовеющем Маяковском), незагаданно символическим жестом отсекли от кумира и друга. Выражаясь по-детски: не выставляйся, будь на уровне общих признаний и клятв – как все.Маяковский – наш, именно общий, а не лично твой…
Может быть, ужасней всего то, что у цензуры была, повторяю, логика – не только касательно «огосударствления» Маяковского, но и в отношении самого Асеева. Изначаль– но-то он был поэтом совсем иной породы: «Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути», но, следуя за направляющим, методически наступал на свое пульсирующее лирическое горлышко. Отчего в его наследии «за сорок лет», в потоке продукции самого, может быть, искреннего – но ведь не единственного, а одного из многих и многих – ортодокса насаждавшейся поэтики Маяковского, приходится выискивать признаки действительно оригинального таланта.
Вот цензура и кинулась, завидев «не то»…
Итак, Асеев – выжил. По счастью. Какой ценой, знаем на примере далеко не его одного, и все же – будем прямы ради понимания сути свершившегося – деградация этого«лирика», каковой поталанту мог бы стать выдающимся, характеризует не только общесоветскую драму литературы. Еще и драму (вину? Но кто здесь судья?) авангардно-революционной переворотности, когда Маяковскому казалось необходимым или, вернее, возможным рвать «связь времен»: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой». Поскольку не объявились, тем более не сформировались другие законы, значит – ура беззаконию? «Клячу историю загоним»! А она ужо так лягнет!…
В смертный миг обнаружится: пафос разрыва – с историей или эстетикой – много опасней, чем даже юношеский эпатаж, тоже, впрочем, достаточно мерзкий («Я люблю смотреть, как умирают дети»).
Это – Маяковский. Асеев, помнится, объявлял, что на «наследное лоно» не стоит даже и оглядываться из победно шествующих «колонн».
СТАРИКИ (3)
Воспоминания противятся выстраиванию концепций еще больше, чем история литературы, но…
– Помните, голубчик, рассказ Марка Твена «Путешествие капитана Стормфмлда на небеса»? Там хромой сапожник – или портной – считается самым великим полководцем всех времен, больше, чем Цезарь и Александр Македонский. Просто ему не представился случай в его земной жизни проявить свои полководческие способности. В искусстве все иначе. У искусства законы жестокие. Ему нет дела до того, почему ты не мог осуществиться…
– Я заметил: если кто-то говорит, что любит Лермонтова больше, чем Пушкина, в нем непременно есть какая– то ущербность. Когда я мальчиком жил у Владимира Васильевича Стасова, меня спросил композитор Глазунов: «Вы любите Пушкина?» Я ответил, что больше люблю Лермонтова. Тогда Александр Константинович взял меня – вот так – за руки и сказал: «Милый, любите Пушкина!» Понимаете, голубчик? Он вовсе не хотел этим сказать, что не надо любить Лермонтова…
– Брюсов?! Злой гений русской поэзии. Скольких он развратил своим: «Все в мире лишь средство для дивно певучих стихов… Только себя полюби беспредельно…» А как ужасно это: «И вот нас повесят, повесят… Мы будем качаться, качаться без пошлой опоры на землю…» Пошлой! И это писалось в эпоху военно-полевых судов!…
А то еще:
– Критика необходима, как фонарь, освещающий улицу. Без нее возможны уличные происшествия.
О ком-то (забыл, о ком именно):
– Он торчит в литературе, как арбузная корка в стоялом пруду.
О молодом Вознесенском, быстро его разочаровавшем:
– Эта лошадь, голубчик, из цирка. Пахать уже не сможет.
Многократное «голубчик» не означало, понятно, какой-то особой приверженности к моей персоне со стороны Самуила Яковлевича Маршака. Да и воспроизвожу обращение, неотделимое, как многим известно, от мар– шаковской речи, не затем, чтобы имитировать его интонацию. Тут другое. Она, ласковая, соответствуя и возрасту, коему положена благость, и внешности человека, у кого от некогда полновесной телесности осталась, кажется, лишь невесомо-немощная оболочка, и, наконец, репутации поэта, сочинявшего «для детишек», не совпадала с энергетической сутью высказываний. Благостности – вот уж чего не было; Маршак учил– неслучайное слово – твердости.
Вплоть до того, что, когда я привел к нему для знакомства жену, он сказал при следующей – с глазу на глаз – встрече:
– Только, голубчик, не балуйте вашу жену. Мой брат (имелся в виду М. Ильин, в свое время известный популяризатор науки. – Ст. Р.),когда был смертельно болен, становился на колени, чтобы завязать шнурки на ботинках своей жены, и как же она оказалась беспомощна, оставшись одна. Без него. Помните, как сказано у нашего с вами любимого Метерлинка?…
«Нашего с вами» – звучит, понимаю, забавно и заставляет вспомнить, как я брал у него интервью по заказу «Вопросов литературы» – оно оказалось для него последним.
Не владея магнитофоном (не овладел и сейчас), я записывал на коленке, пунктирно, его монологи, а ночью, сварив кастрюлю кофе, развернул их, навязав Маршаку Бог знает сколько собственных – как мне казалось – мыслей и наблюдений. Утром явился к нему и, как нашкодивший школьник, схитрил: «Понимаете, С. Я., я записал не только ваши вчерашние слова, но и то, что слышал от вас много раньше». Дескать, не может же он помнить всего.
Черта с два! Старик слушал спокойно и только в местах, где я давал себе волю, вскрикивал: «Молодец!»
После я ухмылялся, встречая в разных статьях «мои» цитаты из «нашего» интервью с присовокуплением: «Как мудро заметил Маршак…», пока не осознал: «моим» все это не было! В такой зависимости я тогда находился от строя мыслей Маршака.
Однако – о «нашем с вами» Метерлинке. С. Я. в самом деле обрадовался, узнав, что среди увлечений моих всеядных студенческих лет был Метерлинк, любимый им, и вообще театр символизма. (Помню, как в целинной палатке 1957-го усыпил своих многочисленных сверстников-студентов, полночи терзая их «Эволюцией творчества Гауптмана», – мы завели там обычай поочередно читать что-то наподобие лекций. Тщеславия ради добавлю, что следующие две ночи заставил их хохотать, читая на память «Теорию пародии» и «Историю Козьмы Пруткова».)
Итак:
– Помните?… Если за розой слишком ухаживать, у нее исчезнут шипы.
И еще про женщин:
– Они ближе мужчин к природе. Они с нею связаны сроками – роды, месячные… Поэтому они лучше нас. Но распутная женщина теряет свое превосходство, приравнивается к мужчине…
Между прочим, и тут ведь – утверждение гармонии, которая для Маршака была формой порядка с жестким сводом правил. Проявлением воли.
«Дорогому Стасику Рассадину для оптимизма» – надпись на дареной книжке; было это в день, когда я не скрыл от него глупую юношескую хандру, и слова выведены уже непослушным пером, которому трудно попасть в одну и ту же точку… Однажды он спросил:
– Вы помните брюсовский перевод «Болезни» Роденбаха?
Я – помнил, и мы завели согласным дуэтом:
Болезнь нам тихое дает уединенье,
И я ее сравню с усталым челноком,
Который спит в воде без ветра, без движенья,
Привязан к берегу веревкою с кольцом.
Все лето он скользил по возмущенной влаге…
– Не правда ли, хорошо, голубчик?
…Под песни шумные лазурный свод дробя.
Потешные огни да праздничные флаги,
Вот все, что каждый день он видел вкруг себя.
Настал октябрь; теперь челнок с молчаньем дружен,
Теперь вокруг него синеет небосклон.
Свободен стал челнок: он никому не нужен!
И, всей земле чужой, он небом окружен!
Правда, в отличие от бельгийца, удовлетворяться этим сознанием Маршак никак не соглашался.
В воспоминаниях Владимира Лакшина есть эпизод: к нему, начальствовавшему над отделом «Литературной газеты», подхожу я, тогда его подчиненный, и заявляю, отнюдь не испрашивая позволения: «Я уезжаю из редакции. Меня вызвал Маршак». А наутро: «Ну что, привез что-нибудь для газеты?» – «Нет, но Самуил Яковлевич читал мне свою пьесу, и мы так хорошо поговорили».
Так и было. Вызывал– Берестова, Коржавина, Чухон– цева, потом и самого Лакшина; мог вызватьаж Твардовского. Тот однажды не выдержал:
– Послушай, Самуил Яковлевич, я ведь в некотором смысле тоже Маршак.
– Я не желаю с тобой разговаривать! – швырнул тот в обиде и ярости трубку, и Твардовский, почертыхавшись, бросил свои новомировские дела, поехал мириться.
Не жалею, пожалуй, что ленился записывать четырехчасовые – без преувеличения – маршаковские монологи, укачивавшие меня до полуобморока; да и он уставал, спадал с лица, если было с чего спадать при его истощенности, я помогал ему лечь на диван, укрывал пледом, и он говорил, говорил, выговаривался. Не жалею; по крайней мере, не слишком: на бумаге все это обескровилось бы. (Единственное исключение – пространное интервью, оказавшееся для него последним; я взял его по просьбе «Вопросов литературы».) Чего слегка стыжусь, так это – что, живя своей молодой жизнью, случалось, воровски скрывался от Маршака, пользовался тем, что не имел тогда домашнего телефона, пока он не присылал телеграмму с требованием явиться пред его очи. Прислал и в местечко с именем, ныне столь громким, Форос, куда мы с женой забрались провести отпуск (отчетливо помню бланк с текстом, переписанным рукой местной телеграфистки и украшенным чудовищными орфографиическими ошибками), и я поехал через весь Крым, к нему в Ялту.
Манией грандиоза от этого, впрочем, заболеть трудно; думаю, Маршаку был необходим не столько именно я, такой уж незаменимо-неповторимый, сколько мы,в ком он видел, хотя бы просто по возрасту нашему, будущее словесности. Если даже мог и забыться, с какой именно порослью имеет дело:
– Это случилось в двадцать пятом году. Сколько вам тогда было, голубчик?… Ах да!…
Таким застал его я. Каким он был прежде? Другим, совсем другим! – уверенно отвечали на мой вопрос те, кто много старше меня.
«…Больше всего, – писал мне в том, самом первом письме Корней Иванович Чуковский, – растрогала меня Ваша беседа с умирающим Маршаком. Я тоже беседовал с ним в эти дни. Мы жили тогда в санатории. Слепой, оглохший, отравленный антибиотиками, изможденный бессонницами, исцарапавший себя до крови из-за лютой чесотки, он в полной мере сохранил свою могучую литературную потенцию. Случилось так, что в один и тот же день мы получили от нашего английского друга, проф. Peter’a Opie его сборник тех Nursery Rhymes, которые отклоняются от канонических текстов. (Nursery Rhymes – английский детский фольклор, предмет переводческих усилий и Маршака, и Чуковского. – Ст. Р.)За ночь я успел познакомиться с этим сборником. Прихожу рано утром к С. Я. Он сидит у стола полумертвый, на столе груда свежих рукописей. «Чтобы забыться от смертельной тоски, – говорит он, – я за ночь перевел 7 стихотворений из этой книжки». И прочитал мне написанные красивым круглым почерком очень крепкие, мускулистые – подлинно маршаковские – строки. Это показалось мне чудом: такая невероятная интенсивность духовной жизни! Вообще страницы о нем в Вашей книге полюбились мне больше всего».
(Подтверждаю – если в этом вообще есть нужда. Мне Маршак говорил, вернувшись из Крыма:
– Совершенно не удалось отдохнуть в Ялте. Пришлось править множество корректур, переписываться с издательствами… Ох, голубчик, только одна неделя выдалась у меня свободная.
Ясочувственно покивал: еще бы, хорошо, что хоть неделя… нельзя же без отдыха…
– И за эту неделю я написал несколько лирических стихотворений и перевел несколько поэм Эдварда Лира. Хотите послушать?
И, отыскав на столе, загроможденном бумагами, нужную папку и близко-близко, у самых слепнущих глаз держа рукописные листочки, стал читать:
Колесом завертелось в воде решето…
– Если только вам жизнь дорога.
Возвратитесь, вернитесь назад, а не то
Суждено вам пропасть ни за что, ни про что!…
Отвечали пловцы: – Ни фига!
Кстати, вопрос: если бы нынешний отвязанный-отмо– роженный переводчик предпочел вариант: «Ни х…», оказался бы он более озорным, чем Маршак и сам Эдвард Лир? Вопрос риторический, полагаю, тем более что тогда и «фиг» не прошел. Редакция уговорила С. Я. на замену: «Чепуха», ради чего пришлось переделать и вторую строчку: «Им кричали: – Побойтесь греха!» Но я-то помню, как он счастливо заливался, вторя моему смеху.)
Так Чуковский писал о Маршаке, напомню, в 1967 году. Много раньше, допустим, в 1934-м – см. «Дневник», – их взаимные отношения представали иными:
«Вчера утром мой друг Маршак стал собираться на какое-то важное заседание. – Куда? – Да так, ничего, ерунда… Оказалось, что через час должно состояться заседание комиссии Рабичева по детской книге и что моему другу ужасно не хочется, чтобы я там присутствовал… «Горького не будет, и вообще ничего интересного…» Из этих слов я понял, что Горький будети что мне там быть необходимо. К великому его неудовольствию, я стал вместе с ним дожидаться машины…» – и т. п.
Обида – обиды! – Чуковского тем понятней, что именно он пылко приветствовал и настойчиво пропагандировал мало кому тогда известного Маршака, и сами его воспоминания дышат ревностью:
«Когда Маршак вернулся с Кавказа в 1920 или 1921 году, Горький долго не хотел его принять.
– Конечно, я хорошо его помню, но сейчас я занят, не могу, – отвечал он мне.
…Он (Маршак. – Ст. Р.)написал балладу о пожаре в духе шотландских баллад. Ясказал:
– Зачем баллады? Это не годится для маленьких детей. Детям нужен разностопный хорей (наиболее близкий им ритм). Причем детское стихотворение надо строить так, чтобы каждая строфа требовала нового рисунка, в каждой строфе должна быть новая образность.
Дня через три он принес свою поэму «Пожар», написанную по канонам «Мойдодыра». В то время он открыто называл меня своим учителем, а я был в восторге от его переимчивости…»
Называл… Был… Бесповоротный перфект. Да и дневниковые записи 1968-го свидетельствуют: признание достоинств С. Я. не вовсе вытравило память о былых соприкосновениях. Небезболезненных:
«В то время и значительно позже хищничество Маршака, его пиратские склонности сильно бросались в глаза. Его поступок с Фроманом, у которого он отнял переводы Квитко, его поступок с Хармсом и т. д.
Заметив все подобные качества Маршака, Житков резко порвал с ним отношения. И даже хотел выступить на Съезде детских писателей с обвинительной речью. Помню, он читал мне эту речь за полчаса до Съезда, и я чуть не на коленях умолил его, чтобы он воздержался от этого выступления. Ибо «при всем при том» я не мог не видеть, что Маршак великолепный писатель, создающий бессмертные ценности, что иные его переводы… производят впечатление чуда, что он неутомимый работяга и что у него есть право быть хищником».
(Все-таки – не хочешь, а вспомнишь Шварца: «Сначала похвала, а потом удар ножичком в спину».
Замечу, однако: это – дневник, пишущийся, даже если с вольным или невольным расчетом на посмертную публикацию, для самого себя. И сию минуту. Зато, например, мне Корней Иванович, знавший о моем отношении к Маршаку, не сказал о нем, разумеется, ни одного дурного слова; что писал, процитировано.
Говорил ли что-нибудь о своем бывшем «учителе» Самуил Яковлевич? Честно сказать, помню только одно: «Корней», дескать, хорошо писал для детей только тогда, когда бегал с ними босиком по куоккальским пляжам.
Что, в общем, чистая правда.)
Итак… Ну. хищник не хищник, однако – бешеный честолюбец, нетерпимый в соперничестве; отчасти – и интриган? Может быть. Наверное. Я-то застал С. Я. уже совсем другим, а если честолюбие и являлось, то, скорее, в формах комически-трогательных.
Из того же Чуковского: Твардовский, Маршака нежно любивший, тем не менее…







