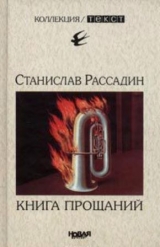
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Словом: «Я был советским писателем». Смело мог бы добавить: был и остался, и, хотя не всякое постоянство заслуживает уважения, этовоспринимаешь, по крайней мере, с пониманием.
Вдобавок и с любопытством, ибо сама-то феноменальность михалковского феномена – в тех условиях, при которых подобная (если только точно такая сыщется у кого– то еще) цельность осталась цельностью. Вернее, даже стала ею – в степени самой что ни на есть наивысшей.
В «Дневнике» Юрия Нагибина есть запись за октябрь 1983 года – поры, когда Андрей Михалков-Кончаловский еще собирался ставить фильм о Рахманинове по нагибинскому сценарию, но уже избрал участь полуэмигранта. Интригам вокруг этой нетривиальной для тех лет ситуации запись и посвящена:
«…Странный звонок Сергея Михалкова. Смысл звонка в том, чтобы я канителил как можно дольше со сценарием. Видимо, тянуть надо около двух лет, чтобы его успели переизбрать на съезде писателей. С сыном-беглецом он провалится, с сыном, работающим над новым фильмом, да еще о Рахманинове, – спокойно пройдет».
И т. д. – впрочем, сдается, прожженный Нагибин недооценил тактически-стратегической мудрости главы клана, соблюдающего семейные интересы. Очевидец рассказывал: однажды, когда младший из Михалковых, Никита, поставил не угодивший начальству фильм (и такое было, представьте), отец также выступил с резкой идеологической критикой. А когда некто наивный – не в духе С. В., а действительно по-дурацки – спросил его, как же, мол, так, то получил внятный ответ:
– Пока я в п-порядке, и Никита будет в п-порядке… Так вот, о нагибинской записи, которая мне вообще кажется подобием притчи – или хотя бы моделью той ситуации, которую для себя обжил-обустроил Сергей Владимирович Михалков.
В общем, Нагибин ответно звонит и сообщает о благоприятном решении мосфильмовского начальства – «дать Андрону постановку без всяких предварительных условий». Но: «Реакция «папы Шульца» (кто сейчас помнит давний хит, французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижитт Бардо и «папу», зловеще-гротескного гестаповца? – Ст. Р.)… была непонятна. Он стал разговаривать, как пьяный конюх, с матом – в адрес шалуна-сына, его парижской семьи и т. д. Это было совсем не похоже на первый – сдержанный и любезный – разговор. Алла догадалась потом, что все это предназначалось для других ушей, ведь я звонил к нему на дом. Мат выражал его гражданский пафос и вместе – давал выход восторгу. «Пусть ставит настоящий фильм, мать его, а не всякое говно! Что он там навалял, в рот его так, какую-то видовуху сраную. Хватит дурить, работать пора. Не мальчик, в нос, в глаз, в зад, в ухо его!…» Это все о блудном сыне».
Задумаемся…
Николай Робертович Эрдман начал – и бросил, не дописав, – комедию «Гипнотизер»: о двуличии и двуязычии общей жизни, когда люди, вечером уходя с работы, «из коллектива», начинают разговаривать совсем на другом языке. Схема общего, общественного существования – и не совсем то же в личной, индивидуальной ситуации Михалкова.
Совсем не то!
Однажды – один-единственный раз – мне случайно пришлось оказаться за именинным столом в компании с Сергеем Владимировичем. Вернее, случайно там оказался именно он, сразу поняв чужеродность подавляющего – однако не подавившего! – большинства присутствующих, и с каким же блеском, с какой непринужденностью обрел себя в непривычной, не своей компании! Если бы я, лично, не относился с предвзятостью к литературному начальству в целом, если бы вдобавок не накопил кое-что против деяний самого Михалкова, я бы наверняка с первого раза был очарован его остроумием…
(Да и что удивительного, если читаю в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой:
«Миша пошел наверх к Михалковым… Он – остроумен, наблюдателен, по-видимому, талантлив, прекрасный рассказчик, чему, как ни странно, помогает то, что он заикается». 1938.
«…Михалков говорил, как всегда, очень смешные и остроумные вещи. Миша смеялся… до слез». 1939.)
…Продолжу: его остроумием, умом, тактом; последний выражался прежде всего в том, с какой эластичностью чиновный гость вошел в атмосферу обычных для интеллигентской среды семидесятых-восьмидесятых годов полудиссидентских реалий, баек, намеков.
Но конечно, ему-то чаще приходилось дышать совсем иной атмосферой.
Никогда не узнаем, что за «другие уши» присутствовали при телефонном разговоре с Нагибиным. Подслушка, с которой считались все, включая членов Политбюро? Некий официальный визитер? Не узнаем, для кого предназначался «гражданский пафос» и с кем именно демонстрировал социально-интеллектуальную близость безобразный мат – этот признанный код и шифр, которым начальство дает подчиненному знать о своем доверительном расположении. Но тут в самом деле – будто модель непрестанных оглядок то на Сталина, играющего в непредсказуемость, то на хитро-простецкого Хрущева, то на фамильярно-демократичного Брежнева. Постоянная необходимость выстраивать свою речь, свою жизнь, свою эстетику и поэтику(«Он – девочка, он – мальчик, он – юный пионер!») в зависимости от их уровня. Примитивного в разной степени, но неизменно.
А когда ты, раз навсегда приняв эти условия, сознаёшь, что при этом не впадаешь в непристойные крайности Кочетова, Грибачева или Софронова, это ли не повод для полноценного чувства достоинства? И те – очевидные, осязаемые – добрые дела, которые ты для иных совершаешь, вырастают в твоих глазах количественно и качественно.
Помощь в получении дач, квартир, телефонов, автомобилей без очереди, путевок, направлений в больницы… Не было разве? Было. Делая все это, Михалков «получал удовольствие от своего всемогущества», замечает в прекрасной книге «Уходящая натура» Анатолий Смелянский (кому С. В. тоже мимоходом помог перебраться из Горького в Москву), заодно, что простительно и уж тем паче понятно, получая удовольствие и от сознания творимого им добра. Так что я даже понял (вот что разделил, этого сказать не могу) искреннюю ярость Михалкова, когда – в пору хрущевского гнева на обнаглевших московских писателейи готовящихся материальных репрессий – Боря Балтер выступил со смутьянской речью. Я, негодовал С. В., доказываю властям, что писатели – верные подручные партии, а он мне портит все дело!
Из интервью:
«– Вы, занимая такие большие посты, чем руководствовались в своих решениях?
– Справедливостью руководствовался, справедливостью. И ходил ко всем власть имущим, и выручал, и доказывал, что это произведение хорошее. И меня слушали».
Ну, о «произведениях» нечего говорить, потому что перечень тех, за кого хлопотал в оны дни председатель правления Союза писателей РСФСР, выйдет не менее выразительным, чем перечень тех, кому он перекрывал дорогу в литературу (главным образом детскую – его феодальная вотчина). Но квартиры, дачи, больницы, все то, что, кажется, уж никак не зависит от идеологии и не посягает на его литературное владычество…
Цитирую стенограмму беседы друзей Николая Эрдмана – его соавтора Михаила Вольпина и режиссера Юрия Любимова:
«– Николай Робертович, – вспоминает Любимов, – умирал в больнице Академии наук. Странно, не правда ли, но это факт – коллеги отказались помочь пристроить его по ведомости искусства. А вот ученые… Капица, Петр Леонидович, по моему звонку сразу устроил Николая Робертовича.
– Когда Николай Робертович, – вступает Вольпин, – уже лежал в этой больнице, администрация просила, на всякий случай, доставить ходатайство от Союза писателей. Мы понимали, что это просто место, где ему положено умереть, притом в скором будущем… И вот я позвонил Михалкову, с трудом его нашел… А нужно сказать, что Михалкова мы знали мальчиком, и он очень почтительно относился к Николаю Робертовичу, даже восторженно. Когда я наконец до него дозвонился и говорю: «Вот, Сережа, Николай Робертович лежит…» – «Я-я н-ниче– го н-не могу для н-него сделать. Я не диспетчер, ты понимаешь, я даже Веру Инбер с трудом устроил, – даже не сказал… куда-то там… – А Эрдмана я не могу»… А нужно было только бумажку от Союза, которым он руководил,что просят принять уже фактически устроенного там человека…»
Смелянский рассказывает, как он, еще тогда, в семидесятых, читавший в архиве дневник вдовы Булгакова, сообщил Михалкову строки, лестные для него, – те самые, что я процитировал.
«…Сергей Владимирович настороженно спросил: «Больше там нничего нет?» Я заверил его, что больше ничего нет».
Настороженно! Потому что – вдруг да дневник когда– нибудь напечатают, что и вышло: кто их, Булгаковых, знает? А охота войти в память потомков в благопристойном виде и неохота – в неблагопристойном. Это при том, что сам же С. В., ничуть не стесняясь молодого завлита Театра Советской Армии, дает ему, заголяясь, великолепный урок цинизма. Только еще написав и едва представив в театр халтурную, что он сам сознает, пьесу, «посвященную, кажется, проблемам химической защиты населения», драматург загодя решает ее послепремьерную судьбу:
«Ну, что бббудем делать с этой куйней, говори!» – начал он домашний вечерний разговор. Я не знал, что с этой куйней делать, и тогда Сергей Владимирович изложил свой план. «Значит, так. Консультантом ппьесы будет зам. начальника Генштаба генерал армии такой-то. Отзыв даст зам. мминистра обороны такой-то». Я вставил нагло, что в театре, даже военном, отзыв Генштаба не так важен, как мнение некоторых народных артисток СССР. Сергей Владимирович тут же придумал хитроумный способ нейтрализации всех народных артисток. Еще никто в театре не видел в глаза его пьесы, но он уже планировал послепремьерное будущее – кто должен выступить в «Правде», кто в «Известиях», кто в «Комсомолке». Он играл в эту игру с детским азартом (а я что говорил? С азартом, с детским, то есть хоть и весьма своеобразным, но – с обаянием! – Ст. Р.)…«Чем хуже пппьесса, тем лучше пппресса!» – срываясь на свой знаменитый фальцет, возопил он, и я в очередной раз был поражен его дальновидностью».
Может быть, не стыдясь обнажаться, этот обаятельный бесстыдник полагал, что сидящий перед ним сотрудник армейского театра столь малозначителен и, стало быть, не опасен, что уж перед ним-то можно, как позже выразится автор «Уходящей натуры», «распахивать кулисы своей души»? По крайней мере, был случай, когда закулисность чуть-чуть, бочком приоткрылась публике, и благодушия циника как не бывало.
Поминавшаяся тройка молодых пародистов опубликовала пародию на Михалкова, в которой были ныне уже полузабытые мною строчки: «Напишу – та-та-та – пьесу, сам организую прессу» (!), и С. В. не просто смертельно обиделся именно на это «организую» (так что мы, издавая книжку пародий, принуждены были строку выбросить), но поступил, как, собственно, и должен был поступить, оставаясь самим собой. Позвонил непосредственно помощнику Хрущева Лебедеву, заявив, что еще никогда его так не оскорбляли.
На нашу удачу, Лебедев понял мизерность как нашей вины, так и жалобы.
– А что вы хотите, чтобы мы с ними сделали? – спросил он Михалкова; спросил раздраженно, как сообщил нам человек, близкий, чуть ли не ближайший к С. В., однако приятельствовавший и с одним из соавторов-пародистов (заодно, на всякий пожарный случай не упускавший возможность явить собственную лояльность «либеральному лагерю»).
– Я н-не знаю, – с неожиданной растерянностью отвечал С. В.
– Ну так когда узнаете, тогда и позвоните!…
Обычно, однако, его ревностно защищали – например,
от Катаева, который в «Святом колодце» отвел-таки душу, дав на редкость злой, узнаваемо-шаржированный портрет некоего «человека-севрюги» – «лизоблюда и подхалима», наделенного «редчайшей способностью сниматься рядом с начальством». И цензура сперва запретила публикацию повести – отчасти как раз за угаданное портретное сходство; потом, правда, смягчилась, удовольствовавшись заменой «севрюги» на «дятла», что автора, по его словам, даже обрадовало. Дятел – значит, стучит!
Да мало того,
Один из моих ближайших друзей, артист Анатолий Адоскин, создатель, в частности, серии телешедевров о Кюхельбекере, Вяземском, Баратынском, Жуковском, Денисе Давыдове, Козьме Пруткове, в композиции о бароне
Дельвиге предстал и в образе Фаддея Булгарина. В обыденной жизни долговязый, худущий, но, изображая Дельвига, тем не менее обретающий вдруг округлость, милую полноту, в Фаддее он (соответствуя историческим показаниям!) – неуклюж, огромен, наделен топорными чертами и прерывистой, заикающейся речью, снедаем комплексом неполноценности. Вот он отчаянно самоутверждается, оповещая о своих чрезвычайных заслугах перед российской словесностью, и как становится понятно не вызывающее сочувствия, неизбывное тщеславие человека, кричащего о своих победах и подозревающего, что побежден…
Ну о Булгарине, точней, о его потомках, уж там позаимствовавших вышеозначенный комплекс или, чаще, избавившихся от него, – чуть позже. Сейчас – о другом.
Когда Адоскин сдавал свою работу телеинстанциям, один из доброжелательных приемщиков испуганно отвел его в сторону:
– Это вы, конечно, Михалкова изобразили?
Не помню, как Толя отговорился – вряд ли искренним уверением, что Сергея Владимировича и в мыслях своих не имел, этому бы не поверили, – во всяком случае, пронесло. Но до какой же степени, значит, автор «Дяди Степы» и гимна обладал статусом объекта, охраняемого государством!…
Итак, отзыв покойного Булгакова еще способен обеспокоить. А на то, как ты выглядишь перед здравствующими друзьями умирающего Эрдмана, – наплевать? Настолько, что лень сделать малейшее телодвижение, когда «нужно только бумажку», формальную, ни к чему тебя не обязывающую? Почему так?!
Может быть, Эрдман с неопубликованной и, думалось, навсегда похороненной гениальной пьесой кажется фигурой отыгранной, не имеющей в истории перспектив и, значит, ничтожной в иерархии Союза писателей? «Я даже Веру Инбер с трудом устроил…» Красноречивое «даже»!
(Между прочим, когда «Самоубийце» забрезжит удача и Плучек соберется его поставить, С. В. немедленно подоспеет в качестве – как бы – соавтора. Что также возмутит Юрия Любимова: «Недавно «Советская культура» напечатала статью С. Михалкова, где сказано, что он редактирует неоконченную пьесу Эрдмана… Но пьеса Эрдмана была завершена вплоть до запятой, до восклицательного знака, до тире…»)
Объяснять ли, что, рассказывая об этом, не собираю дополнительный компромат и не пафос разоблачения владеет мною? Тут – парадокс, согласно которому доброе дело, делаемое – или неделаемое – таким манером и с таким расчетом, превращается (при всех частных благодеяниях, иной раз достающихся действительно достойным и вправду нуждающимся) в орудие разобщения. Разрушения. Притом и такое добро, которое в этом смысле вовсе вне подозрений – хотя бы и по причине сугубо интимного своего характера.
Можно ли что-нибудь возразить сыну Андрею, написавшему: «Мать была очень благодарна ему за то, что он дал ей возможность жить как бы на острове – не знать, не вникать, что происходит вокруг, оставаться внутри своего мира»? Не разумней ли просто порадоваться за домашний рай: здесь ведь – семья, то, что не развращено идеологией, а спасено от нее.
Наверное, так. И не затем, чтобы все это опровергнуть, но дабы знать и другую возможную точку зрения, процитирую тот же «Дневник» того же Нагибина. Спор автора с рекордсменом цинизма и холуйства журналистом Александром Кривицким – как раз о персоне Сергея Владимировича Михалкова.
«В чем вы его обвиняете?» – сказал он дрожащим голосом. «В данном конкретном случае (кстати: словно нарочно, речь об отношении Михалкова к своей жене, чьим непрошеным защитником выступает Нагибин, но в подробности вдаваться не будем – дело семейное. – Ст. Р.) всего лишь в вызывающей безнравственности». – «Вот как! А вы, что ли, лучше его? О вас не такое говорили!» – «Оставим в стороне то, что я значительно раньше развязался с этим. Но когда я блядовал, то не руководил Союзом писателей, не разводил с трибуны тошнотворной морали, не посылал своих девок за государственный счет в Финляндию и Париж и сам не мчался за ними следом через Иран. А он развратник, лицемер, хапуга, «годфазер», способный ради своего блага на любую гадость». – «Кому он сделал плохо?» – «Не знаю. Но он слишком много хорошего сделал себе самому и своей семье. Его пример развращает, убивает в окружающих последние остатки нравственного чувства, он страшнее Григория Распутина и куда циничнее».
Кто более прав – благодарный (впрочем, в отличие от младшего брата, сдержанно-благодарный: тот заявил однажды, что видит в отце образец истинного аристократа) Андрей Сергеевич или злонепримиримый Юрий Маркович? Оба, что говорит о наличии и последствиях двойного счета, двойной жизни, – только сын одобряет наличие, Нагибин же заглядывает и в последствия.
…Когда-то, очень-очень давно, Михалков сочинил стихи, в которых, шутя и играя, но все-таки заглянул в «загробную жизнь». Стихи прелести необыкновенной:
Я хожу по городу, длинный и худой,
Неуравновешенный, очень молодой.
Ростом удивленные среди бела дня
Мальчики и девочки смотрят на меня…
На трамвайных поручнях граждане висят,
«Мясо, рыба, овощи» – вывески гласят.
Я вхожу в кондитерскую, выбиваю чек,
Мне дает пирожное белый человек.
Я беру пирожное и гляжу на крем,
На глазах у публики с аппетитом ем.
Ем и грустно, думаю: «Через 30 лет
Покупать пирожные буду или нет?
Повезут по улице очень длинный гроб,
Люди роста среднего скажут: «Он усоп!
Он в среде покойников вынужден лежать,
Он лишен возможности воздухом дышать,
Пользоваться транспортом, надевать пальто,
Книжки перечитывать автора Барто.
Собственные опусы где-то издавать,
В урны и плевательницы вежливо плевать…»
Стихи настолько не разонравились самому Сергею Владимировичу, что он поместил их в агрессивно-оправдывающуюся книгу «Я был советским писателем», в контекст, им, пожалуй, контрастный, – а впервые опубликовано в «Чукоккале». Дата – 18 апреля 1937 года. Пять дней, как Михалкову исполнилось двадцать четыре.
И через тридцать лет, и через семьдесят все для него сложилось куда лучезарней. И слава Богу – хотя бы и потому, что в истории русской литературы мог возникнуть и сформироваться тип писателя, восхищающий своей уникальной цельностью, не потревоженный ни муками совести, ни вообще каким бы то ни было из проклятых вопросов, терзавших его предшественников. И что же такое должно было произойти – не в самом по себе обществе, с этим все более или менее ясно, – а в общественном и культурном сознании, чтобы такая цельность стала возможной и в конце концов даже торжествующей?
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА, ИЛИ КРУШЕНИЕ ГУМАНИЗМА
В дневниках прозаика Владимира Чивилихина, неосторожно опубликованных после его смерти, описано застолье в Вешенской:
«…Я давно не едал ни такого поросенка, ни огурчиков, ни рыбца, ни холодца. Пили «Курвуазье» и «Мартель»…»
Да это – на здоровье, однако не будь бытописатель зачарован классиком, можно было бы заподозрить здесь самый злой сарказм. Ибо Шолохов, мельком посетовав: «С мясом плохо в стране, товарищи. Рассказывают, что народ по тарелкам ложками стучит в столовых…», тут же и оборвет свой сострадательный монолог:
«– Да вы пейте, пейте, это же французский коньяк, лучший».
А хозяйские разговоры? «Сколько в московской организации евреев? – сменил он тему. – А жен-евреек у русских писателей сколько?»
На язык первым делом просится слово «распад», но ведь и он может быть трагедийно высок! Даже при всем внешнем безобразии.
Есенин, до такой степени несовместимый с советской реальностью, так целеустремленно шедший к самоуничтожению, мог быть сравнен Варламом Шаламовым с самим Достоевским. Запойный пьяница и запойный игрок – проводил параллели Варлам Тихонович; Бениславская и Дункан – это подобия Анны Григорьевны и Аполлинарии Сусловой; «Москва кабацкая» – как отклик «Запискам из Мертвого дома»; «Страна негодяев» – «Бесам»… Что уж говорить о «Двойнике» и «Черном человеке».
Да, самоубийца Есенин. Самоубийцы Цветаева, Маяковский. Не странно ль узнать, что в перечне самых громких имен писателей, кто по своей воле расчелся с жизнью, мог оказаться и Шолохов, в свои последние годы многими воспринимавшийся как шут гороховый?
«В порыве откровенности М. Шолохов сказал:
– Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.
Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство».
Это доносит – в буквальном смысле, от слова «донос» – непосредственно Сталину Владимир Ставский, самый бездарный из всех, побывавших на посту генсека Союза писателей. Посетив Шолохова во второй половине тридцатых и вызвав на доверительный разговор, он явно готовил арест своего конфидента, опасаясь, однако, давать совет вождю. (В ином случае Ставский не стал церемониться, попросив наркома Ежова «помочь» с Мандельштамом, – и, разумеется, помогли.) Впрочем, как видим, не исключался и иной исход: самоустранение.
Вышло иначе. Самоубийство если и было совершено, то в смысле духовном, – но так очевидно, что шолоховская метаморфоза породила сомнения, слишком известные, чтобы говорить о них подробно: да он ли, помилуйте, автор «Тихого Дона»?
В 1954 году, то есть много позже того, как в 1928-м возникли и были отвергнуты первые сомнения касательно авторства (и задолго до того, как, с привлечением текстологии и компьютера, нахлынет волна новых), Евгений Шварц заметит, наблюдая и слушая Шолохова на писательском съезде: дескать, ему никогда не привыкнуть, «что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где?… Теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь».
Притом Шварц – в дневниковой прозе! – не прячет боязливо намека на плагиат: речь лишь о том, что вот, автор великой прозы, а так гаерствует и лизоблюдствует! Да и куда более резкий Твардовский не имеет в виду «ничего такого», высказываясь о Шолохове в рабочей тетради одиннадцатью годами позже Шварца:
«Сколько он наговорил глупостей и пошлостей за это время и сколько он непростительно промолчал, когда молчать нельзя было за эти годы…Умрет – великий писатель, а пока жив – шут какой-то непонятный».
Хотя что касается «непростительного молчания», то куда непростительнее бывало высказанное вслух – например, сожаление, что Синявского и Даниэля всего лишь отправили в лагерь. Я об этом уже напоминал, сейчас процитирую по стенограмме XXIII съезда КПСС:
«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» ( а плодисменты),ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! ( А плодисменты)».
Самое – нет, не этически отвратительное, это и так понятно, но любопытное с точки зрения эволюции писателя Шолохова здесь вот что. Говорит тот, кто некогда, да, в сущности, не так уж давно, в четвертой, последней книге «Тихого Дона» не захотел, не смог «перековать» Григория Мелехова. Любимейшего героя. И скрепя сердце, конечно, обрек на неминуемый расстрел как раз по законам «революционного правосознания». Того, которое как единственно правильное и единственно возможное для себя воспринял победитель Мишка Кошевой, уже убивший брата Григория, Петра.
А ведь на сей счет были-таки колебания. Мало того. На перековке настаивали сильные мира сего, включая Фадеева да, говорят, и самого Сталина. Тот будто бы даже дал понять, что, ежели Шолохов окажется неподатлив, можно будет, опираясь на слухи о плагиате, подумать о назначении автором «Тихого Дона» другого литератора. А что?
Есть же сведения, будто, осердясь на Крупскую, вождь пригрозил: будет плохо себя вести, назначим вдовой Ленина другого товарища. Например, проверенную большевичку Стасову.
Но нет. В доносе Ставского, помимо того, что Шоло– хов-де сочувствует разоблаченным «врагам народа» из числа земляков, поставляется и такой компромат:
«М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.
– Большевиком же я его делать никак не могу».
Смело? Но Шолохов являл куда большую смелость, когда писал Сталину о несчастьях, которые коллективизация принесла Дону. Тут же главное, что это говорит художник, понимающий неуступчивые законы художества.
Конечно, сомнения в авторстве «Тихого Дона», романа великого, просто не могли не возникнуть – при такой– то наглядной эволюции Шолохова. В том числе – как писателя.
В самом деле! От еще нескладных, однако живых «Донских рассказов» – взлет к «Тихому Дону». А дальше – все вниз и вниз. Конъюнктурная, отнюдь не на уровне послания Сталину насчет губительности колхозов, но частями все-таки сильная первая часть «Поднятой целины», после чего находится возможность подняться на уровень четвертой, бескомпромиссной книги шолоховского шедевра. Роман «Они сражались за Родину», сочинение беспомощно-балагурное, будто написанное в соавторстве с дедом Щукарем; вещь, которую не хватило сил даже закончить. Щукариная фантазия не беспредельна, а фронтового опыта у Шолохова, не приближавшегося к передовой, не было.
Из мемуаров Семена Липкина – его рассказ в присутствии Василия Гроссмана и Андрея Платонова (все трое – фронтовики):
«У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин. Я должен был описать в газете церемонию вручения наград тяжелораненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-мор– ском госпитале. Оказалось, что в Камышине в большом, видимо, бывшем купеческом доме живет с семьей полковник Шолохов, живет безвыездно, как сообщили жительницы города.
После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашен Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, что им скажет любимый русский писатель. Шолохов посреди напряженного молчания произнес тост: «Выпьем за Советскую Украину». И больше ни слова. Гроссман очень удивился. «Вы слышали?» – переспрашивал он, потом сказал: «Человек-загадка». А Платонов пробормотал: «Слова из сердца выходят редко, из головы чаще».
(Годы спустя, когда Гроссман напишет роман «Сталинград» – название, разрешенное для печати: «За правое дело», – редактор «Нового мира» Твардовский пошлет рукопись члену редколлегии Шолохову в расчете на поддержку.
«Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:
«Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».
Гроссмана и меня, – добавляет Липкин, – особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?» Дикое, департаментское отношение к литературе».)
А дальше – жизнь степного помещика, правда поддерживающего безбедно-бездельное существование не собственным хозяйствованием, а попечением ЦК. Молчание, наконец разрешившееся рассказом «Судьба человека», возвеличенным не по чину. Стертый стиль, вплоть до финальной «скупой мужской слезы» (у писателя, герой которого Григорий Мелехов в час гибели любимой Аксиньи поднимает голову и видит над собой «черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца»); унизительно балаганное представление о критерии стойкости русского человека («Я после второй не закусываю» – это в немецком лагере куражится якобы истощенный солдат). Казалось бы, можно благодарно отметить обращение к наболевшей теме, к судьбе советских военнопленных, преданных Сталиным, но и оно компромиссно-уклончиво, с нечаянным угождением именно сталинскому отношению к «предателям». Ты попади в плен исключительно в бессознательном состоянии – как в песне: «Что же ты, зараза, в танке не сгорел?», – там соверши столь же исключительный подвиг, тогда, глядишь, родина и простит.
Чем не аналог «проверочного» лагеря?
Слухи о плагиате опирались не только на всеочевидную деградацию после «Тихого Дона», но и на то, что предшествовало ему: четырехклассное образование, отсутствие опыта наблюдений, подозрительная молодость – в двадцать три да сочинить первую часть одного из лучших романов XX века!… На это, однако, всегда сыщется контраргумент, знакомый нам хотя бы и по «шекспировскому вопросу»: нам не дано постичь все возможности гения, да и просто большого таланта.
Вот выступает с трибуны Государственной думы Василий Белов, вызванный коммунистической фракцией как «эксперт» по делу об импичменте президента Ельцина, – и пресса хихикает, впрочем, стыдливо. Действительно – стыдно. И горько наблюдать этот продукт тягчайшего распада, слышать беспомощное косноязычие… Но уж здесь– то нет никаких сомнений, что это он, Белов, сам написал «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы»!
Вообще – лучше бы всего допустить, в частности по причине отсутствия исчерпывающих доказательств, что «Тихий Дон» написал Шолохов. Это вовсе не исключает того, что могла быть использована и чья-то иная рукопись, как оно, по всей видимости, и было. Допустив, обретем ситуацию куда более значительную, чем полудетективный сюжет с третейскими судьями и разоблачениями: такаясудьба, такаяэволюция такогописателя…
И если эволюция достаточно стереотипна для истории советской литературы (тот же Фадеев, Федин, Тихонов…), то судьба остается загадочной. Почему роман, враждебно встреченный критикой, объявленный антисоветским, беззащитный перед дурными слухами, роман, чей герой, как пушкинская Татьяна, «удрал штуку», отказавшись следовать указаниям даже не самого творца, но тех, в чьей безраздельной власти творец находился, – почему этот роман в конце концов был защищен самим Сталиным?
Конечно, можно сделать комплимент сталинскому вкусу, иной раз, что говорить, дававшему о себе знать. Но вряд ли дело в одном только вкусе.
…Бунин вспоминал слова, сказанные ему Чеховым:
«– Вот умрет Толстой, все к черту пойдет.
– Литература?
– И литература…»
(Выразительное «и»!)
А Марк Алданов говорил – уже самому Бунину, рискуя его рассердить, – что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». В любом случае некоего рубежа ждали. И дождались?
Русская литература не кончилась, не пошла к черту, но стала, пусть не целиком, иной. И мало что выразило это сильнее и нагляднее «Тихого Дона».
Петр Палиевский, критик из «патриотов», самый средь них серьезный, если вообще не единственный (не образцовый же мошенник Кожинов), заметив, что в романе зафиксировано «новое отношение к жизни», доказывал это судьбой Аксиньи, изнасилованной собственным отцом: «Какой материал для фрейдиста. Вся последующая жизнь – сплошной подтекст и воспоминание, от которого женщина хочет и не может уйти…
…Что ж у Шолохова? Это событие просто забыто…Чтобы определить характер, остаться в центре души, – об этом смешно и думать».







