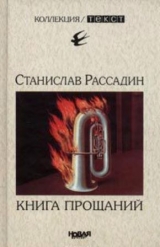
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
«От Галича в конце концов потребовали жертвы. Он не был к ней готов». Нет, как раз оказалось и подтвердилось: готов.
«Он не был диссидентом, он не хотел им быть», – но в том-то и дело. Не хотел, а заставили, причем лишь во вторую очередь заставила власть, в первую же – чудесно явившийся и расцветший дар. Впрочем, линия судьбы, подчинившей себе Сашу Галича, в частности, сведшая его с Сахаровым (вот только Солженицын заставил его горько, по-детски обидеться, когда отказался знакомиться с ним), прочерчена не им и давно:
Не я пишу стихи.
Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Пастернак, из Тициана Табидзе.
Не сказать, чтобы сомнения, не отпустившие Гребнева, обходили самого Галича стороной, не затрагивая; так, например, еще до отъезда на Запад, на каком-то здешнем полулегальном сборище, его прямо и не без коварной подначки спросили: не стыдится ли он того, что писал до!
Не стыжусь, ответил он, работа есть работа, другой я не знаю, но ни в единой строке, которую я когда-либо написал, я не погрешил против Бога. Между тем тот же вопрос, как видно, сидел в нем, и однажды в Малеевке, где показали фильм по его сценарию, Галич обеспокоенно осведомился:
– Ребята, скажите честно, там нет подлости?
Обеспокоенность как будто имела резон, фильм был
тот самый «Государственный преступник», где сотрудники КГБ с лицами обаятельнейших советских актеров ловили… Нет, все же не внутреннего врага, а карателя из СС. Так что мы имели возможность честно ответить:
– Успокойся, подлости нет. Фильм просто дерьмовый.
Да и легендарная «Матросская тишина», пьеса, с которой собирался начать свой славный путь ефремовский «Современник», – даже она, запрещенная главным образом, ежели не единственно, из-за «еврейской темы», была, в сущности, образцово советским произведением. Образцово! Не софроновско-суровская стряпня, компрометирующая своей бездарностью самих заказчиков, а то, что представляет советский строй способным самокритически разобраться и со своим гулаговским прошлым, и с неизжитым антисемитизмом. Короче – облагороженным.
Во всяком случае, когда Галич дал мне прочесть «Матросскую тишину» – уже годы спустя после несостоявшейся премьеры, – я, чем не горжусь, отозвался бесцеремонно:
– Это о том, что евреи любят советскую власть не меньше, чем все остальные.
Он удивился. Но не обиделся – и, полагаю, не потому лишь, что время притупило боль от неудачи любимой и, разумеется, лучшей из его пьес. (Не притупило – в поздней прозе «Генеральная репетиция» боль вспыхнула снова.) Просто моя непохвальная прямолинейность могла даже польстить авторскому честолюбию умного человека.
Уже были великие песни. С уровня, на который поднялся, взлетел их автор, на прежнее можно было смотреть снисходительно.
И все-таки – что же он создал, чем поразил, когда уже миновало дои еще не настало после?
…Где-то в конце шестидесятых сидим с Галичем все в той же Малеевке, возле пруда, и я вижу: от шоссе идет, направляясь к нам, незнакомец – остроносый, поджарый, седой, удивительно похожий на Эраста Гарина. (Потом я узнаю: скорее, наоборот, это Гарин, еще в молодости зачарованный им, невольно стал ему подражать, присвоив даже манеру речи; заикание и то перенял.)
В общем, мой друг Саша встает – тоже как зачарованный – и, ни слова мне не сказав, уходит навстречу пришельцу.
– Кто это? – спрашиваю, дождавшись его возвращения.
– Николай Робертович Эрдман, – ответствует Галич с безуспешно скрываемой гордостью. И добавляет показательно скромно: – Зашел меня навестить.
В этот момент я еще не могу осознать, что разом вижу людей, которым в творческой их судьбе уже удалось сыграть роль антиподов (о чем – чуть позже). Тем более – где ж догадаться, какое, напротив, редкое сходство обнаружится в переломах их судеб?
Чтб решило судьбу Галича как изгоя и эмигранта?… Нет, не так: чтб поставило запятую в им самим предрешенной судьбе («Не я пишу стихи»)?
Некий актер свободолюбивой «Таганки» женился на дочке партбюрократа и, забывшись, с кем отныне ведется (или, что хуже, в своем молодежном цинизме ерничая и дразнясь), в час свадебного пиршества запустил магнитофонные записи песен Галича. После чего будто бы прозвучало:
– Ах, вот что поет ваша интелли-хэн-ция!…
И – приказ тестя, члена Политбюро, принять меры.
Впрочем, это тогда, в ту самую пору, рассказав мне эту историю, Саша попросил не разглашать имени актера – дескать, он не со зла. Теперь секрета здесь нет, тем паче актер, а ныне и режиссер, Иван Дыховичный, уже сам вступил в телеполемику с данной версией: никаких записей не крутили, не было этого.
Может быть. Не знаю. Даже то, что я слыхал от одного из бывших на исторической свадьбе: было, не придает мне решимости отказать артисту в доверии. Но когда Дыхович– ный не без сарказма отвергает саму возможность и само желание тестя, Д. С. Полянского, вмешиваться в судьбы такой – для него – мелкоты, как Галич («не его уровень»), тут доверие иссякает. Широко и очень многим известно: Полянский как раз отнюдь не брезговал спускаться с Олимпа ради вмешательства в сферу словесности и театра, лично ему неподнадзорную. Например, слыл – и был – покровителем Ивана Шевцова, гнуснейшего и бездарнейшего литературного погромщика; помнится, когда в журнале «Юность» появился фельетон об одном из шевцов– ских творений – если не ошибаюсь, сочиненный Гориным и Славкиным, – из секретариата Полянского настойчиво– грозно звонили в редакцию с требованием сообщить настоящие имена авторов, выступивших под редакционным псевдонимом.
Хвала Борису Николаевичу Полевому: он велел сообщить, будто автор – он сам; даже в гонорарной ведомости на всякий случай указали его имя. А то бы…
Итак, репрессии к Галичу применили в 1971-м (оттер– пев еще почти три года, он уедет из СССР в 1974-м). А вот как было в 1934-м.
Василий Иванович Качалов, захмелев на правительственном банкете, решил позабавить хозяев, точнее, Хозяина шутливо-неподцензурными баснями, которые Эрдман сочинял вместе с Владимиром Массом. Результат оказался в точности тот же:
– Кто автор этих хулиганских стихов?
И автор гениального «Самоубийцы» получил возможность подписывать письма к матери из Енисейска: «Твой Мамин-Сибиряк»…
Вот тут и возникает контраст – в том, как Эрдман и Галич распорядились своими талантами (или, если опять же вспомнить строки Пастернака-Табидзе, как таланты распорядились их судьбами). Эрдман словно бы запер великий свой дар, более не написав ничего эрдмановского, сочиняя не только сценарий «Волги-Волги», из чьих титров режиссер Александров изъял его опальное имя, но и бесчисленные мультфильмы, либретто оперетт и правительственных концертов.Даже «Цирк на льду» плюс «Смелые люди», патриотический вестерн, сделанный по сталинскому заказу и получивший премию его имени. А Галич, напротив, ушел от своей симпатичной советской поденщины, то есть произошло совершенно обратное тому диагнозу, который поставил Арбузов, участвуя в исключении Галича из Союза писателей:
– Он был способным драматургом, но ему захотелось славы поэта – и тут он кончился!
Захотелось славы… Стоп! Да почему б в самом деле не допустить участие такого мощного двигателя, как самолюбие литератора – или подсознательную уверенность, что ты способен на большее?!
Среди горького вспоминаю – опять – забавное.
В свою благополучную пору Галич живал в Париже – как сосценарист советско-французского фильма о Мариусе Петипа (ужасного!). И среди рассказов о пребывании там, обычно перебиваемых Нюшей: «Давай, давай, расскажи про своих мидинеток!» (знала, что говорила), был такой.
Вообразим: ресторан… Не упомню, какой именно, но облюбованный русскими эмигрантами первой, белой волны. Кто-то из «бывших» пригласил туда Галича, и тот, подсев под конец к пианино, напел что-то из своего. Твердо помню, что, в частности, романс о Полежаеве: «Тезка мой и зависть тайная… Ах, кивера да ментики…» После чего к нему подошел очень красивый старик, сказал нечто лестное и удалился.
– Кто это? – спросил Галич.
– Феликс, – ответили ему с такой интонацией, словно плечами пожали: сам, что ль, не догадался?
– Какой Феликс? – в свою очередь глупо спросил Галича я.
– Юсупов, – потупился Саша.
А потом, узнав, что убийца Распутина, страдая психическим заболеванием, в эти годы не покидал квартиры, я понял: выдумал! И как восхитительно выдумал!
Это ведь как у Булгакова в «Записках покойника». Аристарх Платонович, шаржированный Немирович-Данченко, изъявляет в письме, присланном из Индии, свои претензии к Гангу: «По-моему, этой реке чего-то не хватает». Что очаровательно – вопреки язвительным намерениямавтора, Немировича на дух не переносившего: естественный жест режиссера-художника, для кого сам Божий мир нуждается в улучшении. В режиссуре.
Так и здесь. Все-все замечательно. Париж! Ресторан с реликтовой клиентурой! Но – чего-то не хватает. Чего? Кого? Бунин умер, Набоков уехал – пусть будет Феликс Юсупов.
(Не удержусь от того, чтоб не добавить, сколь это ни сверхочевидно: способен ли Саша вообразить в этот миг, что ему придется лежать на том же парижском кладбище, где лежит Бунин? Может быть, и Юсупов? – спрашивал я в первом издании этой книги. Оказывается – да И между прочим, будь моя воля, там бы ему и остаться: перенесение праха на отвергнувшую своих покойников родину по большей части выглядит лицемерием. Попыткой задним числом исправить историю. Нет уж, пусть покоятся там, где упокоились, по крайней мере будя этим нашу память, поддерживая в нас чувство исторической вины.)
Славы захотелось… Да если и так! Если – поначалу – всего только ревность, то самое, слышанное мною от Галича: «Булат может, а я не могу?» И вот – ночью, в «Красной стреле», следующей в Питер, на день рождения Юрия Германа, рождается песня, первая из настоящих, сразу – шедевр: «Леночка».
А утром мчится нарочный ЦК КПСС
В мотоциклетке марочной ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез –
Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!
Сама косноязычная аббревиатура, подобная заиканию, с изяществом, «как бы резвяся и играя», преображена в озорной рефрен…
«Косноязычная» – это сказалось не зря. Чудо Александра Галича – в том, что он сделал поэзией само косноязычие нашей речи. Нашего сознания. Существования нашего. И аналогии тут – тот же Эрдман, в чьем «Самоубийце» обыватель, предназначенный автором на осмеяние, как наубой, вдруг дорастает до трагического монолога: «Дайте нам право на шепот». («Право на отдых» – назовет Галич песню о психе-братане и Белых Столбах.)
И конечно, Зощенко.
«Фольклор городской интеллигенции», – замечательно сказал о песнях Булата Окуджавы Александр Володин. А Галич? Он, куда больше ориентированный на городской, «мещанский» романс? Может быть, фольклор дляинтеллигенции? Ибо в его стихах – будь то песни про Клима Петровича, «Больничная цыганочка» или «Тут нам истопник и открыл глаза» – непременно есть нечто, как раз и составляющее прямую обязанность интеллигенции: понимать, чтб делают власть и история со «средними людьми», как Зощенко именовал постоянных своих персонажей.
Но чтобы это понять, надо было дать «среднему» слово.
В этом смысле Галич, блестящий версификатор, прошедший школу стихотворства у лучших, избранных мастеров и на пятерку с плюсом сдавший экзамен, – не столько сын, сколько пасынок русской поэтической традиции. Это при том, что сам он упрямо не соглашался с такой степенью полуродства, порою (не всегда, не всегда) доказывая родство кровное; тогда рождались «Гусарская песня» – о Полежаеве – или «Петербургский романс» («…От Синода к Сенату, как четыре строки»). Вещи прекрасные, а все ж не они сделали Галича Галичем.
Его традиция – русская проза.
Дать слово «среднему человеку»… Это еще не то что вложить в уста ему личное местоимение «я»: «У жене моей спросите, у Даши, у сестре ее спросите, у Клавки…» (или то «я», которое родило обвинения в узурпации судьбы: «Ведь недаром я двадцать лет протрубил по тем лагерям»). Надо было стать его словом.
«…Потому что у природы есть такой закон природы…» «Но хором над Егором краснознаменный хор краснознаменным хором поет – вставай, Егор!» Это – Галич.
Вот – Зощенко:
«Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали.
И едет, между прочим, в этом вагоне среди других вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.
У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.
Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе.
Вот она к нему и едет.
' И вот она едет к мужу»…
И т. д. – еще долго! «И вот она едет в таком виде в Новороссийск…Едет она к мужу в Новороссийск…И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск…»
Одуреешь! По крайней мере, не сразу заметишь, что это косноязычие держит повествование со строгостью балладного строя. Сами повторы нужны, как нужен шест идущему через болото. Они – опора нетвердой мысли и, пуще того, самозащита от враждебности мира, который для «средних», то есть обыкновенных, нормальных, людей сам меняется чересчур радикально и отменяет все то, чем привыкли жить они.
Не ощутив этого, написал бы Галич свое «Размышление о том, как пить на троих»?
Один – размечает тонко.
Другой – на глазок берет.
И ежели кто без толка,
Всегда норовит – Вперед!
Оплаченный процент отпит
И – Вася, гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт,
Тот крайним стоит всегда.
Он – зная свою отметку,
– Не пялит зазря лицо.
И выпьет он под конфетку,
А чаще – под сукнецо.
Такая осведомленность в деталях, понятно, вызывала дружеские подшучивания: изучил процедуру! Но сама процедура – что значит?
Но выпьет зато со смаком,
Издаст подходящий стон
И даже покажет знаком,
Что выпил со смаком он!
…И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он,
Поскольку – Культурный досуг
Включает здоровый сон.
В общем: «Не трожьте его! Не надо! Пускай человек поспит!» Дайте ему «право на отдых», «право на шепот», на отдельное, частное существование, на отдельные, частные желания и потребности. Дайте возможность саму несчастную его безбытность преобразить в подобие быта, самоза– щитно украсив ее каким-никаким ритуалом…
Задаюсь, кстати, вопросом, увы, запоздалым и безответным: не использовал ли здесь Галич – скорее всего, подсознательно – историю, слышанную им, как и мной, в доме Анатолия и Галины Аграновских, общих наших друзей? (Галя потом включит ее в свою книгу воспоминаний.) А именно – переданные ее отцом, писателем Федором Каманиным, рассуждения его родителя, деревенского печника:
«Вот, Хведя, в чем вопрос: я печку сложу в Бытоши, расчет получу, куплю гостинцев матери и детям. Себе чекушку и селедку, сяду под ветлой, помнишь ветлу под Бытошью, молнией разбитую, выпью, закушу. Положу раскладку под голову и засну. Кто мимо пройдет, никто не тронет, видят – печник спит. А пущай Сталин так лягет…»
Так или иначе, откуда взялось? Как, каким образом этот «богемец», как выразился бы Маяковский, проникся сознанием тех, кто уж так был далек от его образа жизни? От «замшевого пиджака»? Да вот так же, как в «лагерных» песнях оказался ближе, чем к Солженицыну с его памятным: «Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!», к собрату Данте и Кафки, к наимрачнейшему Шаламову, считавшему «лагерь отрицательным опытом для человека – с первого до последнего часа».
«Облака плывут, облака… А я цыпленка ем табака…» В этом «а я» – вызов, отместка, самоутверждение. И какой бессильный вызов, какая, страшно сказать, жалкая отместка, какое – еще страшней – пошлое самоутверждение!
Ни счастья освобождения, ни хотя бы счетов с теми, кто отнял долгие годы единственной жизни, – лишь осознание невозвратности, невосполнимости, искалеченное – ти и судьбы, и души. Чтб он, гордый человек, может противопоставить силе, ломающей хребты? «Эй, подайте мне ананас и коньячку еще двести грамм!»…
«Ле нюаж», «облака» – понимающе говорит пьяный француз Рамбаль Пьеру Безухову, который в поверженной Москве зачем-то рассказывает случайному забулдыге о своей любви к Наташе Ростовой. Даже отупевший от алкоголя мозг соображает, что точнее, чем «облака» (невесомость, летучесть, недосягаемость), не скажешь об этой странной и безнадежной любви. А уж для поэтов они, перистые, изменчивые, воздушные, – безотказный образ красоты, эфемерности или свободы: «Чудный град порой сольется из летучих облаков»…» – и т. п.
А тут:
Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия – ни к чему.
…Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот…
А мне четвертого – перевод,
И двадцать третьего – перевод.
Взгляд словно бы поднят, следя за «вечными странниками», а на деле безнадежно уткнулся в свою судьбу и беду, которые не отпускают и не отпустят. Да и странни– цы-то – куда странствуют? Как по этапу – в милуюКолыму…
Вот что свершил в русской поэзии Галич: ею, поэзией, он сделал «нашу прозу с ее безобразьем», а самые безусловные символы поэтичности отяготил жестокостью судьбы. Чужой? Своей? Той, которую, лично не испытав, все-таки испытал как художник, – это он, веселый, смешливый, легкий человек, который из всего угрюмого Ходасевича выбрал и любил читать вслух:
Странник прошел, опираясь на посох,
– Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах
– Мне почему-то припомнилась ты.
…– Все! Имеешь право помирать! – бывало, говорил я в своей глупой юности, не осознававшей тяжести слов; говорил друзьям, среди них, конечно, и Галичу, восхитясь чем-то из написанного ими.
Правда, недавно узнал нечто слегка извиняющее меня – прочел у поэта Михаила Синельникова, как Ахматова оценила особо понравившееся ей стихотворение Тарковского:
– А теперь идите и попадите под трамвай! Уже можно!
Галич умер нелепо, страшно и – рано. Но ведь действительно имел право, как бы исполнив уже гумилевский завет: «смерть нужно заработать». Он и заработал, заслужил, чтобы недоброжелатели и завистники терялись, недоумевая: «Все-таки это невероятно… Повезло, повезло!…»
ВОЛОДЯ-ИНТЕЛЛИГЕНТ
У Александра Межирова, некогда – тбилисского завсегдатая, есть стихотворение шестидесятых годов:
Верийский спуск в снегу.
Согреемся немного
И потолкуем. Вот кафе «Метро».
О Корбюзье, твое дитя мертво,
Стеклянный домик выглядит убого.
В содружестве железа и стекла
Мы кофе пьем, содвинув два стола.
Курдянка-девочка с безуминкой во взгляде
Нам по четвертой чашке принесла
И, слушая, таится где-то сзади.
Тут у Межирова ошибка: не курдянка – айсорка.
Помню и я стеклянный куб новомодного по тем временам кафе на проспекте Руставели; и девочку действительно с отмечаемой сразу странностью взора, как ни странно, запомнил, хотя заглянул в «Метро» с литерато– ром-тбилисцем единожды. Да она, всего лишь принесшая нам шампанское, конечно, и не запомнилась бы, если б не обрадовалась моему товарищу, а он, Резо, не был с ней по– особому, отечески ласков. Пояснив мне, когда она отошла: интересная девочка, айсорка, пишет стихи, дружиткое с кем из писателей и в своей среде выделяется… Да вот именно странностью. Незаурядностью.
Много позже оказалось: то была знаменитая ныне Джуна. (Да и Межиров годы спустя допишет, что оную курдянку «однажды Папа Римский принимал».)
Что из мною рассказанного вытекает? Ровным счетом ничего – потому что лично я не испытываю к ней интереса; кто испытывает – дело другое. Зато и мне следовало бы пожалеть, что, когда друг моей молодости (и враг всей последующей жизни) Володя Максимов, поминая свое житье-бытье на Ставропольщине и людей, с какими встречался, называл имя комсомольского вожака Горбачева, я не проявил любопытства. (Да й кто бы знал?) Потому что – да: «Я – поэт», как писал Маяковский (расширю круг: политик, преступник, артист). «Этим и интересен». Но, что там ни говори, всегда любопытно знать о поэте (политике, преступнике…), каким он был до.И не только любопытно; это значит – увидеть путь поэта к его поэзии (политика – к его политике и т. д.).
Не так ли обстоит дело и с самим редактором «Континента», «этим и интересным»?
Полагаю, да. И если тому, что я взялся за эту главу, предшествовали колебания, то причина вот в чем.
Давид Самойлов писал JI. К. Чуковской:
«Сейчас стараюсь дописать воспоминания о Василии Яне. (Кто забыл – авторе популярнейших некогда исторических романов «Чингисхан» и «Батый». – Ст. Р.) Это легче, потому что знаю о нем только хорошее».
Мне много, много легче писать о большинстве тех, кого вспоминаю. Но не о Максимове.
…Мы познакомились в «Литературной газете». Когда? То ли в конце 59-го, то ли в начале 60-го, не помню. Напрочь забыл и обстоятельства знакомства. Можно, конечно, их восстановить, порасспросив еще живущих друзей, но незачем – тут характерна сама забывчивость: как я писал, тогдашняя «Литгазета» была клубом, клубком, в котором перевились, перепутались нити многих завязываемых знакомств, дружб, биографий. В комнатах шестого этажа, которые занимали мы – «отдел литературы «Литературной газеты» (!), – не только толклись, сменяясь, заметнейшие персоны словесности той поры, причем далеко не всегда в надежде на публикацию, а приходя просто, как говорится у Трифонова, «обща»; кто-то, и не в единственном числе, с утра до вечера постоянно торчал в отделе, будто ходя на службу.
Остался в памяти некий приятель одного из наших сотрудников, существовавший под кличкой Рыжий. Приехав из провинции в отпуск и навестив своего литгазетского друга, он так и просидел весь отпускной срок в кабинете, который делил с его товарищем я, во время наших с ним самоволок исполняя роль часового. Как-то член редколлегии и редактор отдела Юрий Васильевич Бондарев, которому срочно понадобился мой коллега-сосед, раз за разом заглядывал в нашу комнату, осведомляясь, куда бы тот мог деться; Рыжему это наконец надоело, и он, несведущий в иерархии, рявкнул:
– Говорят же вам: нету его! Ходят тут всякие…
Кто-то из наших видел, как Юрий Васильевич выскочил из комнаты, словно ошпаренный, покрутил кулаком нос и поплелся в свой начальственный кабинет…
Максимов, как Коржавин и Балтер, был в числе постоянных; не скрывая того, что не скроешь, приходится добавить: когда не уходил в многодневный запой. Находясь в постоянной нужде – прозы он еще не писал, – пробавлялся черной работой, которой в газете всегда хватает: сочинял на скорую руку какую-нибудь срочно понадобившуюся рецензию или заметку, все в таком роде. Почему-то, не знаю, запомнилось, что однажды взялся сделать стихотворную подпись под фотографией то ли комбайнера, то ли тракториста по имени Петр, а по фамилии – аж Великий. Надо ли объяснять, как было обыграно это счастливое совпадение?
Сам Максимов уже в девяностые, начав наезжать в Россию и печатая свои лютости в газетах «Правда» и «Завтра», вспомнит в одном интервью – и, признаюсь, меня удивит относительная мягкость воспоминания, почти контрастная обычному тону его поздней публицистики:
«…Был свободным художником в «Литературной газете». Сошелся с той группой людей, которые заняли довольно-таки прочное положение в литературе. К сожалению, мы с ними в последние годы резко и полностью разошлись. Это Станислав Рассадин, Булат Окуджава, Бенедикт Сарнов, Лазарь Шиндель (Лазарев. – Ст. Р.) и целый ряд других. Но во всяком случае эта школа дала мне очень многое. Люди они были образованные, знающие, я многое от них получил».
Что я знал о его прошлом? Маловато. Моему, да и его возрасту – он был старше меня пятью годами – было естественней жить настоящим и будущим, чем воспоминаниями, отчего и комментарий мой к его автобиографическому рассказу (то же самое интервью для «Правды») будет небогат.
«Я очень рано ушел из дому, в 13 лет. Мотался по детским приемникам и колониям»…
Из того, что он мне рассказывал, могу добавить: дабы в бегах обрести неуловимость, назвался другим именем – был Лев Евгеньевич Самсонов, стал Владимиром Емельяновичем Максимовым. А уход из дома оказался вроде бы вызван арестом отца, рабочего, каким-то образом связанного с Троцким (в честь Льва Давидовича и был наречен младенец). Однажды отец, вспоминал Володя, даже сказал жене: «Ну, мать, погоди, может, скоро в Кремле будем жить…»
Дальше:
«Я работал в колхозах, на стройке, завербовался на Таймыр, объехал практически всю страну…Так было до 22 лет. Тогда я связался с газетой. Сначала – с районной, на Кубани. Это было «Сталинское знамя». С тех пор я пошел по этой стезе. Работал корреспондентом радио в Черкесии, в газете «Советская Черкесия».
Там, на Ставрополье, у меня вышел первый сборник стихов, там я поставил первые свои пьесы в местном театре».
Сборник – «Поколение на часах», 1956 год, со всем, что по тем временам положено; говорю, разумеется, без укора, и, когда редактор легендарного перестроечного «Огонька» Коротич в пылу полемики едко напомнил Максимову его стихи на смерть Сталина, это было несправедливо. Держал я в руках – Володя показал – и программку спектакля по его пьесе с названием что-то вроде «По опасной тропе» – о предателе-диверсанте, засланном к нам «оттуда»; вот тут – озадачился. Этому безусловному гаду автор – на манер самого Достоевского, вряд ли спроста наделившего старика Карамазова собственным именем Федор, – подарил целиком свои ФИО: Лев Евгеньевич Самсонов.
Положим, аналогия с Достоевским пришла мне в голову только теперь: как намек на «подпольность» писательского сознания? Тогда другое подумалось: вот, мол, как Володя ненавидит советскую власть – тайно побратался с ее врагом, каков бы тот ни был.
Не знаю почему, рассказывая о себе корреспонденту газеты, пусть коммунистической, но все-таки середины девяностых годов, Максимов умолчал об аресте и лагере. Но – было: по версии, поведанной мне (существовали, как я слыхал, и другие), когда он был бригадиром каменщиков, бригада его, протестуя против какой-то несправедливости, что-то с расценками, не вышла на работу, и его как организатора забастовки арестовали и осудили.
О лагере он рассказывал мало и страшно – в отличие, скажем, от Юры Давыдова, который мог с юмором, почти беззлобно повествовать о своей тамошней жизни ( жизни,которая протекла не напрасно). Из Максимова воспоминания о собственном зэчестве вырывались приступами, припадками, в моменты особенной эмоциональной взвинченности, и тогда я узнавал как он сдружился с блатными, получив от них кликуху «Володя-интеллигент»; как в зимний день ушел с ними в побег; как был пойман и нагишом брошен на покрытый льдом пол штрафного изолятора; как расплакался по-мальчишески перед молодой докторшей и та, пожалев его, определила в больничку.
По-особенному запомнилось, уже тогда поразив, как он сказал мне: дескать, блатные – лучшие люди из всех, кого он встречал в жизни. И когда я вскричал: «Володя, что ты говоришь?!», подтвердил:
– Да, да! Я знаю, что говорю.
Добавив об их кодексе чести, о том, что уж ежели блатарь дал слово, то… И т. п.
Не поразиться я и не мог, даром что до «Архипелага ГУЛАГ», до шаламовской «Жульнической крови» было еще далеко. Будучи мальчиком не столько дворовым, сколько домашним, к тому ж выраставшим без мужчины в доме, рос-то я все-таки во вполне бандитском районе, у Богородского кладбища, на Гучках, между Черкизовом и Преображенкой. Ежедневные грабежи, изнасилования, даже убийства были в обычае. Вспоминаю с улыбкой – теперь-то чего не улыбнуться? – как возле нашей школы орудовал некий охотник за зимними шапками и пальто, однажды, в темноте, налетев и на меня. Быстро-быстро ощупал мое бобриковое пальтецо и шапчонку и побежал дальше. Я даже слегка обиделся: неужто у меня нечего взять?
Итак: «Мне говорят, что я подлец, – имитирует Ша– ламов логику блатного. – Хорошо, я – подлец. Я подлец, и мерзавец, и убийца. Но что из этого? Я не живу вашей жизнью, у меня жизнь своя, у нее другие законы, другие интересы, другая честность! – говорит блатарь». Заметим, говорит соблазнительно, соблазняя своим сходством с тобою, тоже, пусть совсем по другим причинам, ненавидящим и презирающим власть… О, полное осознание опасности такого соблазна мне в пору моей дружбы с Максимовым было недоступно, зато был знаком холодный глаз блатного (или приблатненного – пойди различи их в своем детском возрасте), готового бить (и убить – убивали) за один косой или непокорный взгляд в его сторону. Знаком сладкий трепет перед его силой, перед его свободой, которая казалась завидно безграничной; знакома и уже посещавшая догадка об унизительности этого трепета, этой сладости.
Еще из детских воспоминаний: ощущение ужаса и словно бы гордости, когда тебя, посланного в аптеку на Преображенскую площадь, подзывает узкоглазый Безрукий, в самом деле с двумя культяпками вместо кистей, о ком ходят легенды как о самом жестоком и бесстрашном (после его зарежут): «Пацан, а ну вынь у меня из грудного кармашка рецепт!» – о нем говорили, что он наркоман. Или…
Однажды с родного крылечка, находясь, стало быть, в безопасности, бранюсь с каким-то незнакомым парнем с типовой хулиганской внешностью, что заканчивается не менее стандартной его угрозой: «Ну, погоди, бля, я тебя еще встречу!» И, как назло, на следующий же день, возвращаясь из школы, вижу его перед собой.
Честное слово, до сих пор вспоминаю себя, одиннадцати-двенадцатилетнего, с уважением: хотел было юркнуть, пока этот верзила меня не заметил, в проходной двор, однако же пересилил себя. Иду, содрогаясь, ему навстречу.
– А-а! Ты чего это вчера орал?
– Так ведь и ты орал, – говорю, ожидая, естественно, худшего, но ему просто лень связываться с малявкой.
– Ладно, иди! – хлопает по плечу. – Хороший парень…
Счастливый прибегаю домой.
– Мама! – рассказываю ей о своем приключении. – Знаешь, я теперь буду каждый день отдавать ему полбублика!
Бублик было ежедневное лакомство, выдаваемое в послевоенной школе.
– А ты не думаешь, – осторожно говорит мама, – что это будет означать: ты к нему подлизываешься?
И мне мгновенно становится горячо от нахлынувшего стыда…
Пустяк? Еще бы. Но ведь и помнится не страх, а именно стыд, на основе столь ничтожного опыта подсказывая: каким же страданием должен был стать для Володи Максимова лагерь, какова должна была быть благодарность к пригревшим, приблизившим, может быть, защитившим его уголовникам, чтобы и в тридцать лет говорить о них то, что он мне сказал.
…Смешно вспомнить – и тогда было смешно, – он был склонен к культу личности и этой самой личностью был, представьте себе, я. Да. Меня, начинающего литератора, до гениальности вроде бы не доросшего и сегодня, а тогда – снова похвастаюсь – трезво понимавшего, что пишу слабо и неумело, толком не овладев ремеслом (когда в 61-м году меня вдруг пригласил Степан Петрович Щипачев, глава московских писателей, и предложил вступить в ССП, я, от неожиданности обалдев и, в свою очередь, повергнув в изумление собеседника, ответил с неуместной искренностью: «Что вы! По-моему, мне еще рано!»), – в общем, меня, такого, Володя произвел в свои кумиры. И когда я говорил, случалось, что, мол, эта статья мне не удалась, устраивал – буквально – истерику, крича:







