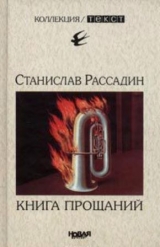
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
До сих пор не решусь разобраться, насколько был прав или не прав Козаков, взрывая спектакль своим непокорством. Помню свой телефонный разговор с Эфросом, его усталый голос, без злобы сетующий на то, что «Миша все силы тратит на разрушение спектакля» (увы, так и не сложившегося), и даже странную в этих устах просьбу «повлиять на Мишу». Как будто подобное было тогда возможно.
Вспоминать, так вспоминать: был случай, когда меня тоже просили «повлиять», и это одно из моих любимых воспоминаний.
Год 1985-й, черненковский, суперзастойный, до тоски унизительный. Звонит Регина, тогдашняя жена Козакова:
– Стасик, я прошу тебя поговорить с Мишей. Завтра, на своем вечере в ЦДРИ, он хочет прочесть «Реквием» Ахматовой.
Неужто нынче надо уже пояснять, что это значило в те– то годы? Правда, Козаков решался время от времени публично читать своего любимого и тогда еще отнюдь не широко известного, неназываемо-запретного Бродского, но – «Реквием», за одно хранение коего в рукописи еще недавно, я знаю, сажали!…
Что ж, как не понять тревоги любящей женщины. Звоню и я:
– Ты понимаешь, что это тебе может грозить в лучшем случае прекращением всех выступлений?
– Понимаю.
– А то, что, если это случится, уже невозможен обратный ход? То есть нельзя будет каяться и просить прощения.
– Я все понимаю.
– Тогда – нормально…
И на следующий вечер гордо любуюсь, как он, бледный от значительности происходящего, читает:
…Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Читает – замечательно! И пестрый зал, с немалым процентом завмагов и модных парикмахерш, волей-неволей проникается сознанием этой значительности…
Актерское самолюбие? Почему бы и нет. Сладость риска? Для мужчины – естественно. Но главное – это ему было необходимо, чтобы не опротиветь себе, чтобы не чувствовать себя оскорбительно несвободным. Без этого – о каком «легком дыхании» можно говорить?
…И вот – «Король Лир», к которому Козаков начал путь Гамлетом, что для символики слишком прямолинейно, однако же – факт. (Кстати, его хорошая шутка: сыграв Полония в вульгарном спектакле Глеба Панфилова – и уйдя из него, как из эфросовской «Дороги», – а еще позже, у Петера Штайна, тень отца Гамлета, Миша скажет, что его следующая роль в этой пьесе – череп Йорика.)
Вдруг понимаю: все, что я рассказывал о нем вплоть до последних строк, – как раз о его Лире. Не только о пути к этой роли, который не может не быть мучительным, но и о пути, совершаемом самим по себе шекспировским королем. Ведь он, старец, в начале трагедии еще по-юношески своенравен и самонадеян, деспотичен, как деспотична сама молодость, для которой в формуле «я и мир» ударение на «я». И – через, обиды, предательства, отчаяние, через безумиеприходит к пониманию самого что ни на есть сущего.
Вообще-то Козаков по характеру своего холодного темперамента,что никак не должно выглядеть уничижительно («холод» означает склонность к анализу и рефлексии),не раз оказывался в роли и положении Наблюдателя. Между прочим, именно так и именно с большой буквы назван – не им, а Островским – персонаж, которого он взялся сыграть в поставленных им «Попечителях» («Последняя жертва»). Но еще раньше он сыграл этов одной из своих лучших ролей, в старшем Адуеве из «Обыкновенной истории»; в прекрасном спектакле «Современника», где, не в укор театру, вина за неуклонное освинение юного либералиста-максималиста возлагалась прежде всего на «обстоятельства». И лишь герой Козакова, может быть еще не вполне осознанно для самого молодого артиста, был поставлен в положение осознающего – и слабость поджилок прекраснодушного племянника, и заодно судьбу козаков– ского (и моего) поколения. Во всяком случае, многих из нас, у кого и вправду кишка оказалась тонка.
Так и пошло. Кочкарев в «Женитьбе», «чертик», вдруг осознавший тщетность своей мелкобесовской энергии. Дон Жуан, «бесстрашный циник», у кого самоанализ задушил даже самую непосредственную из страстей. Арбенин как (наблюдение не мое) предвидение Печорина. И т. д. И вот наконец в козаковском Лире впервые… Нет, не так: был еще Фауст, был страстно-трагический Шейлок, – значит, вслед за ними наблюдения со стороны (умной, страдательной, но стороны) преобразились в Лире в само по себе страдание. Вошли внутрь души. Стали ее кровотоком.
ЭтотЛир, напоминающий стариков с полотен, скажем, Рембрандта; он, в ком мощно изображена немощь; величественный в самые рискованные минуты, когда он, спятивший, голоногий (а не стыдно произнести и снижающее «бесштанный»), но в терновом венце, то ли Христос, то ли пьяный Силен, – этот Лир нестерпимо интересен как фигура…
Сказать ли: современная, мол?
Можно сказать и так. Тем более вдруг понимаешь: у Шекспира – ситуация той самой гражданской войны, чей призрак пугает нас и не только нас по сей день. В самом деле – вот оно, расколовшееся «гражданское общество», враждующе распавшиеся союзы и семьи, брат, идущий на брата, дочери, отрекающиеся от родного отца. И все же коли уж эксплуатировать понятие «современность», то в несравненно более широком смысле.
В том, какой в разговоре со мною затронул сам Козаков.
Он, повторю, начинавший Гамлетом и долгие годы мечтавший о роли Лира, заметил: «Гамлет» – пьеса как бы новозаветная, в то время как в «Короле Лире» воплощен Ветхий Завет с его мрачным, грозным, кровавым величием. Пробуя расшифровать слова, брошенные им вскользь, размышляю: а мы, нынешние, понимая «нас» опять-таки широко, как весь мир христианской цивилизации, не шагнули ли вспять – от ясного смысла Нагорной проповеди в эпоху, когда сама справедливость пробивается сквозь жестокость и хаос? Притом – при помощи именно что жестокости?
Или это означает, что человечеству и народам пришла пора начинать с азов нравственности – настолько нравственность затерялась в «заварухе, именуемой жизнью»? И ей, нравственности, дабы стать и остаться собою, необходимо пройти тяжелейший, самомучительныйпуть становления и осознания?…
ВРЕМЯ
В далеком году – чтоб не мерить голой цифирью, скажу: вскоре после того, как «Новый мир» Александра Твардовского был окончательно разгромлен, а его редактор уже смертельно болен, – именно тогда в Доме литераторов решили устроить вечер Фазиля Искандера (самый первый из его вечеров такого размаха). Я говорил вступительное слово – краткое, пяти-десятиминутное, где сказал, в частности, следующее. Объяснять вам, обратился я к публике, кто такой Искандер, нет смысла: вы и сами все понимаете, дело ведь обстоит не так, чтоб вы направлялись на встречу с Феликсом Чуевым или Михаилом Алексеевым и лишь случайно завернули сюда…
Зал грохнул таким хохотом, который меня самого удивил: и чего ржут?
Дальше я говорил то, что – при очень большом желании – еще можно было счесть хоть сколько-нибудь крамольным (о, разумеется, по давно устаревшим меркам): что Искандеру посчастливилось встретиться с «Новым миром» – не с тем, дескать, голубообложечным изданием, которое продолжает выходить в свет, но с тем, о котором нам еще предстоит понять, каким событием был журнал в нашей жизни. Говорил о Твардовском, пожелал ему здоровья, в коем он сейчас так нуждается, – ну и так далее, в этом не слишком отчаянном роде. Но когда после моего скромного выступления грянул непропорционально раскатистый гром и по литературно-окололитературной Москве покатились слухи, многократно преувеличивающие степень моей дерзости; когда поступил немедля донос (от детской писательницы Веры М., не поленившейся без понуканий написать, отвезти, словом, потратить на то уйму времени, что вызвало у меня почти восхищенные размышления о феномене стукачей-добровольцев, энтузиастов, подвижников); когда раздались звонки из горкома КПСС; когда тут же были выброшены из версток мои статьи и навсегда остановлено издание книги; когда собрался московский секретариат Союза писателей, решавший, как бы меня поучительно наказать, – вот тогда выяснилось, что даже не доброе слово вслед уничтоженному детищу Твардовского вменялось мне в основную вину. Всех – кого волновало, кого бесило: как я посмел неосторожно-шутливым словом коснуться персоны Михаила Алексеева.
Меж тем состоялся и «большой» секретариат, ведомый самим Георгием Мокеевичем Марковым, также не поленившийся заняться лично 'мною, но, в согласии со своей иерархией, объявивший выговор не мне, рядовому, а безвинному директору ЦДЛ, знаменитому московскому «домовому» Борису Михайловичу Филиппову. На «моем» же, на «малом» секретариате председательствовал первый секретарь Московского отделения Сергей Наровчатов.
Это было отчасти пикантно, так как несколько раньше я перестал с ним здороваться, будучи разозлен грубой статьей в «Литгазете», где он обрушивался на мои «ошибки». А до того, до его секретарства, до внезапно начавшейся официальной карьеры (в дальнейшем – редактор того же «Нового мира», депутат, Герой Соцтруда), мне нравились его стихи – талантливые при всем их гусарском позерстве. Я был даже чуточку влюблен в них (помню, как мы с Васей Аксеновым ехали в Ленинград, как встретили в «Красной стреле» Кирилла Лаврова, по чьей протекции проникли в подсобку поездного буфета, и как, под коньяк и холодные шницели, я читал им на память наровчатовскую поэму «Пес, девчонка и поэт», тогда – ненапечатанную, даже непечатную).
И сейчас кое-что помню и цитирую на память. Например:
Много злата захватив в дорогу,
Я бесценный разменял металл.
Мало дал я дьяволу и Богу,
Слишком много кесарю отдал.
Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы.
Помня Откровенье Иоанна,
Жил я по Евангелью Фомы.
И т. д. Конечно, без Гумилева тут не обошлось, но все же…
Больше того, мы с Наровчатовым по-приятельски выпивали, а говоря по правде, я, как и прочие собутыльники, поил его, былого красавца, фронтовика, ныне опухшего, обносившегося, стрелявшего рубли и трешки. «А когда он меня пропечатал, в ЦДЛ я помчался скорей, и впервые тогда Наровчатов одолжил у меня пять рублей», – еще в 1958-м Окуджава читал мне этот гулявший в литературной среде стишок, написанный как бы от лица начинающего поэта, «пропечатанного» самим Панферовым. Исторической правды ради замечу, что дореформенная пятерка в пору, когда цена поллитровки стала – 2.87 или 3.12, превратилась в пятьдесят копеек. То есть сумма займа была минимальной. Чего хватало, чтобы, зайдя в ЦДЛ, заказать чашечку кофе, а потом – угостят…
Карьеру такогоНаровчатова предвидеть было немыслимо – во всяком случае, для меня, да и он сам говорил своему другу Самойлову: «Лучше умру честным пьяницей».
Ведя секретариат, он себя чувствовал – если мне это не померещилось – неловко. По крайней мере, едва накал обсуждения-осуждения достиг опасной для меня остроты, вдруг высказался:
– Ну, вы понимаете, мы вас вызвали не затем, чтобы исключать из Союза…
Чем мгновенно воспользовался мой добрый знакомый Анатолий Наумович Рыбаков, тоже секретарь Союза и уже автор «Детей Арбата» (которых я прочел в данной им рукописи). Ритуально меня пожурив, добавил:
– Как правильно сказал Сережа, мы тебя вызвали не затем, чтоб наказывать…
Разница!
…И талантливо устроил склоку, поссорив двух секретарей: провокационно осведомился, а почему эта самая Вера М. (при этом выдав имя доносчицы, прежде от меня скрывавшееся) прибежала с доносом к Ильину, напомню, генералу госбезопасности, в то время как на тот час дежурил совсем другой? Первый, кстати, ведший дело к исходу, для меня наихудшему, начал оправдываться перед вторым; тот, на мою удачу, пребывавший под хмелем и потому склонный к скандалу, разобиделся; прозвучал даже совершенно незапланированный вопрос: «Кто она – конечно, все та же Вера – такая, чтобы доносить на писателей?»
Кончилось тем, что меня отпустили, не объявив даже выговора, как не добившись и извинения. Я выпил в буфете свои сто граммов, отстояв очередь рядом с недавними обвинителями, и поехал домой…
История, сознаю, пустяковая. Но вот к чему я ее рассказал.
На заседание секретариата пришел и Михаил Алексеев, и, когда взял слово – будто ему было мало всеобщих заверений в его выдающихся литературных заслугах и в необходимости заклеймить мой «злобный лай из подворотни» (весьма не новая формула, которой, однако, не погнушался поэт-лауреат Михаил Луконин, присутствовавший среди прочих), – голос его дрожал. Дрожал, решаюсь сказать, по-детски, так, что в тот момент, никак не располагавший к сентиментальности, мне стало его, вот честное слово, жаль. Не стану врать, ненадолго, ибо и его, как говорится, общественное лицо, и роль в погроме «Нового мира», и, что скрывать, гнусности, писанные в мой личный адрес, никуда не уходили из моей бодрствующей памяти. Но в краткую ту минуту передо мной ясно предстала крохотная, надежно укрытая, может, только на миг обнажившаяся ахиллесова пяточка той могущественной силы, которая, как я подумал, сама не вполне верит в свою могущественность.
В мои литгазетские времена, уже на закате их либеральности, мой соавтор Сарнов и я тоже были как штрафники вызваны – правда, не на общий синклит, а к секретарю «большого» Союза Воронкову. (Характер провинности – конечно, идеологической – опущу: неинтересно, добавив, что тогда-то без выговора в приказе не обошлось.) И разгоряченный секретарь, чье самолюбие мы задели своей статьей, воскликнул:
– Ну хорошо! Как писателя вы меня держите за говно! Но на мне же чин! Как с чином вы могли со мной посоветоваться?…
Комплексы!
Ладно, ничтожнейший Воронков, выползок из ЦК комсомола, «писатель», ничего не писавший и не написавший, он в самом деле не то что даже «говно», а, как мы тогда выражались, «немного ниже говна». Он сам про себя и про то, каков он в наших глазах, кое-что понимает – вот и вырвалось. Но – Михаил Алексеев! Уже к той поре воспетый верной ему критикой, поднятый до звездных небес (в скором будущем и получит звезду Героя Труда)! Ему-то – чего нервически дергаться?
Тем более расправились наконец с ненавистным журналом, для которого он был постоянной мишенью издевательской критики, свалили Твардовского (прочно свалили, уходили до полусмерти, а как умрет, и вовсе можно будет безбоязненно клясться его именем, с мародерской слезой цитировать «Теркина», даже врать о былой якобы дружбе с его создателем). В общем, самое время привольно раскинуться в позе абсолютного, окончательного победителя, но вот выходит какой-то мальчишка, мелет какую-то чепуху, и зал гогочет, готовно и непочтительно…
Вывод и выход один: выморить их (нас), дабы не проникали, как тараканы, ни в одну из щелей. И вымаривали, притом успешно и радикально, – даже в моем, в сущности, наиблагополучнейшем случае, просто отняв возможность и отбив охоту заниматься критикой как профессией. Но об этом я уже говорил.
Вот, однако, что интересно. Обеспечив себе – таким манером – благополучное, ничем не колеблемое настоящее, полагали ль они, что точно так же им обеспечено и почетное будущее? Или все проще и на будущее было просто плевать?
«Я всегда говорил: у него один тяжелый недостаток – он не верит в загробную жизнь». Любопытно, что это говорит не какой-нибудь верующий христианин, а коммунист– безбожник Фадеев о литературном подонке Ермилове, в ком видел испохабленное дарование. И другой атеист, Твардовский, в дни исключения Солженицына из Союза писателей напоминает – по его словам, «жестко» – сменщику Фадеева на посту генсека литературы Федину:
– Помирать будем!
То есть в тот самый момент, когда тебя не спасут твои близкие и не утешит власть, – как важно будет тогда, оглянувшись назад, не углядеть там скверны. Или пустоты. Однако не углядели ни Ермилов, ни Федин – только сам
Фадеев будет иметь мужество оглянуться и насильственно оборвать свою жизнь. Не ужившись со стыдом за нее, а может быть, и со страхом: из лагерей начали возвращаться те, к чьему аресту он приложил руку. Как сказала Ахматова, встретились две России, та, что сидела, и та, что сажала.
– Саша, Саша, какой молодец! Я всегда верил в него! Он сразу смыл с себя кровь… Теперь ему все простится, – будет кричать его друг, узнав о фадеевском самоубийстве.
Простится или не простится, существеннее, что сам Фадеев не простил – себе и себя. «Загробная жизнь» – в самом атеистическом смысле – для негр оказалась даже и не метафорой, а сущей реальностью, перед чьим лицом не получается быть забывчивым.
Чаще, конечно, иначе.
…По ТВ транслируется какая-то светская презентация в Доме кинематографистов, и ведущий Виктор Мережко, приветствуя высоких гостей, мимоходом, до очевидности не всерьез, спрашивает Сергея Владимировича Михалкова:
– А вы верующий?
– Конечно, – светясь, отвечает тот.
– Нет, серьезно? – озадачен Мережко.
– Да! А почему вы удивляетесь?
Действительно, почему? Не потому ли, что может вспомниться (мне – не могла не вспомниться) историческая фраза Михалкова, сказанная задолго до перестройки, все смешавшей в России? Историческая – без шуток, с редкостной откровенностью выразившая систему приоритетов, которая казалась неколебимой не одному Сергею Владимировичу. Короче, он говорит на каком-то собрании – в период суда над Синявским и Даниэлем и как раз по этому поводу:
– У нас, слава богу…
Заглавная буква в слове «Бог» тогда, понятно, даже не подразумевалась (было еще безмерно далеко до строки в новом-старом гимне: «…Хранимая Богом родная земля») – в отличие от названия организации, которое не замедлило прозвучать:
– У нас, слава богу, есть КГБ!
Оказывается, можно было сказать – и, главное, думать – такоеи так, при этом сохранив за собою право в изменившихся обстоятельствах заявить: я – верующий! И был им всегда. А что такого?
Словно вообще не бывает прошлого и не будет грядущего.
Случается, что предшественник – в политике или в искусстве – делает знаковый жест, произносит крылатую фразу, которые реализует, наполнит истинным смыслом идущий следом. Пример из политики: «Мне нужны не умные, а послушные», – скажет, по-видимому, в раздражении император Александр I, но лишь при его младшем брате Николае в России восторжествует именно такой порядок. Пример из искусства: «Мне наплевать, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее – Советскому правительству и партии». Тут-то уж нет сомнения в том, что произнесено это Маяковским в запале дискуссии, в жару полемики, – и хотя выражало его действительные предпочтения, но с той демонстративностью, за которой чувствуются натуга, надрыв. (Что и аукнется ему так же страшно, как Фадееву – слова о Ермилове.) Зато с какой органичностью, почти грациозностью, не выдающими ни малейшей натуги, не говоря о надрыве, именно это – «услужение сегодняшнему часу», сегодняшнему, ни неделей раньше, ни месяцем позже, – стало программой жизни того же Михалкова.
Сказал бы: и Ермилова, и Федина, и т. д. и т. п., но тогда бы пришлось отказаться от комплиментарного «грациозность». В этом смысле Сергей Владимирович неподражаем.
Конечно, когда он клеймил предателя Пастернака (делая это, по словам JI. К. Чуковской, «не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком»), а с пришествием новых времен объяснял, что «шел на поводу у «инстанций»… не один, а с многими вместе», то есть особой вины за собою не сознает; или когда Шолохов сожалел, что другим предателям, Синявскому и Даниэлю, Ma л o дали, всего лишь отправили в лагерь, не то что было бы раньше, в расстрельные времена, – тогда в обоих писателях, столь неравноценных, говорила уверенность в вечности советского строя, в несменяемости его моральных критериев и идейных устоев. Отсюда – совершеннейшая беззаботность относительно собственной «загробной жизни», даже если кое-какие сомнения возникали.
Впрочем, предполагая их, делаю над собою усилие.
В этом – только и именно в этом – смысле Шолохов и Михалков действительно были равны (в чем неравны, в чем решительно несоизмеримы, об этом – в следующей главе, где речь неизбежно пойдет о том катаклизме общественного сознания, который и предопределил известную эволюцию автора «Тихого Дона»), И уживчивый, вечно пригождающийся, ставший "символом преемственности властей и настроений Михалков – по причине этих своих замечательных качеств – куда наглядней, чем пьющий вешенский сидень, выразил общую уравнительность времени. А если он являет собой исключительность, феномен – тех же уживчивости, легкости, грациозности, – тем выходит нагляднее…
По ходу одного интервью Михалкова спросили: правда ли, что Юрия Олешу «сломала советская власть»?
«Нет, – твердо ответил Сергей Владимирович. – Ничего его власть не ломала. Он написал «Трех толстяков» во времена советской власти. Его пьесы шли в Художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали. А могли бы посадить всех».
Можно, разумеется, возразить, что способы ломки многообразны и наилучший из них – тот, когда могут посадить «всех» и лишь почему-то пока не сажают тебя лично; но именно в этой безапелляционности – драгоценная четкость автохарактеристики. Тот самый феномен С. В. Михалкова.
В истории советской литературы, в этом мартирологе уничтоженных физически, безвременно опочивших или покончивших с собой (не буквально) талантов, есть не только такие случаи, когда дар удавалось длительно имитировать, сохраняя имидж взыскательного мастера: тот же Федин, тем паче – Леонов. У Михалкова все вышло как– то проще, без фединской величавости и леоновского авгурства. Он был одарен редкостно, уникальное обаяние его детских стихов соперничало с обаянием Чуковского, быть может превосходя в этом смысле самого Маршака, – но уже с конца тридцатых (!) годов серьезная критика озабоченно замечает, что молодой поэт склонен к тому, чтобы писать все небрежнее и небрежнее. И Твардовский, делая в 1957 году наброски речи на Первом съезде Союза писателей РСФСР, сожалеет, что нету ныне искрометных стихов для детей, которые напоминали бы «Маршака или молодого Михалкова».
Положим, и Маршак в эти годы был уже не способен сочинить ничего, сопоставимого с «Багажом» или «Почтой». Но оговорка насчет Михалкова – «молодой» – попросту необходима.
Как вам такое?
К звездам смелый кролик совершил полет.
Он новых рейсов ждет,
Он требует высот!
Как же нам сегодня не дерзать, друзья,
Мы тоже в путь готовимся – и он, и ты, и я!
Дальше – не слабее: «Нам хорошо живется. С этим согласиться всем придется». Попробуй – не согласись!
Над этим лично я измывался в 1959 году, в «Литгазе– те», и, между прочим, как чертой того быстро промелькнувшего времени, так и разумной гибкостью Михалкова можно объяснить то, что он прислал в высмеявшую его редакцию повинное письмо, которое мы и опубликовали. Дескать, не удержался и написал подтекстовку к чьей-то музыке по случаю запуска в космос означенного длинноухого, к тому же опубликовав ее в «Огоньке». Извините, больше не буду…
(Замечу: совсем другое дело вышло, когда я же, годы спустя, в уже перестроечных «Московских новостях» раскритиковал текст гимна СССР – еще в его втором, «брежневском» варианте. Вот тогда С. В., отбросивши добродушие, обратился в могущественные инстанции, кажется к Лигачеву, испрашивая, как мне сообщили в газете, серьезной кары для критикана.)
Ладно, про кролика-космонавта – это осознанная халтура. Но, скажем, вот эти стихи сам Михалков охотно читал с эстрады и – среди своего «самого-самого» – отобрал для миниатюрного «избранного»:
В Казани он – татарин,
В Алма-Ате – казах,
В Полтаве – украинец
И осетин в горах.
…Он гнезд не разоряет,
Не курит и не врет,
Не виснет на подножках,
Чужого не берет.
…Он красный галстук носит
Ребятам всем в пример.
Он – девочка, он – мальчик,
Он – юный пионер!
Простота, которая не хуже воровства, – потому что она-то самое воровство и есть. У себя самого. Это ведь даже не автопародия, хотя бы, как передразнивающая гримаса, напоминающая о прежней естественной мимике. Полное стирание черт. Самоуничтожение. «Самоубийство».
Как происходит подобное? По-разному – напомню: о тяжелейшем, трагическомслучае речь впереди. В случае с Михалковым все вышло опять-таки проще: «печной горшок тебе дороже, ты пишу в нем себе варишь», вот и сама несомненная Божья искорка была воспринята по-бытово– му. Как то, на чем, раздув ее, можно сварить пайковую похлебку.
Сын Сергея Владимировича, кинорежиссер Андрей, со слов отца рассказывает о начале триумфального пути вниз:
«В Литературном институте училась очень красивая блондинка по имени Светлана. Отец… встретил ее в Доме литераторов, выпил бутылку вина, подошел:
– Хочешь, завтра в «Известиях» будут напечатаны стихи, которые я посвятил тебе?
…Незадолго до этого он отнес свои стихи в «Известия», два стихотворения взяли…
Отец позвонил в редакцию:
– Назовите стихотворение «Светлана».
На следующий день газета вышла со стихотворением «Светлана»…
Очень красивые стихи. Случайность, но имя девушки совпало с именем дочери Сталина».
Еще большая случайность, что номер газеты как раз подоспел к дню рождения Светланы Иосифовны.
«Через несколько дней, – повествует сын, – отца вызвали в ЦК ВКП(б) к ответственному товарищу Динамову.
– Товарищу Сталину понравились ваши стихи, – сказал Динамов. – Он просил меня встретиться с вами и поинтересоваться условиями, в которых вы живете».
В самом деле: можно ли продолжать писать такиестихи, живя, как прочие, в коммуналке?
«Через три года – орден Ленина».
Отдаю должное Андрею Сергеевичу Кончаловскому, сообщившему, что его бабушка Ольга Васильевна, дочь великого Сурикова, сказала, узнав об ордене: «Это конец. Это катастрофа», но вообще-то есть и другая версия, достоверно (что, понятно, не гарантирует достоверности ее самой) переданная мне со слов Юлиана Семенова, одно время – члена михалковской семьи. Будто бы молодой С. В. пробился на прием к самому Бухарину, тогда редактору «Известий». Будто бы тот замахал руками: не ко мне, не ко мне, в отдел литературы! Будто бы визитер не смутился: вы заметили, как называется стихотворение? Вы помните, чей завтра день рождения?… А Бухарину, недавнему «Бухарчику», было самое время попробовать вновь заслужить благоволение «Кобы».
Бухарчику, как знаем, не помогло.
Конечно, непросто поверить в цепочку случайностей, как и в полную искренность утверждения, будто «в советское время литература кризис не переживала», если ж «отдельных писателей не всегда печатали», то «потом премии давали» (то же интервью). Но с другой стороны, и простодушие тут особого, феноменального рода, и цельность, пронесенная через всю жизнь, тоже феноменальна.
Так что давайте все же экспериментально поверим – в искренность, в простодушие, в цельность; доверию может способствовать даже отсутствие логики… Хотя почему «даже»? Что ж это за простодушие с выверенной логикой? Так что не более чем улыбнемся, когда в книге «Я был советским писателем» Михалков, сурово сказав об «угодничестве», окружавшем и развращавшем престарелого Брежнева, может предварить свое осуждение воспоминанием:
«Как-то, вернувшись из Софии, где проходила детская Ассамблея, я привез Брежневу медаль участника этого детского праздника и, будучи у него на приеме, вручил ему этот памятный знак».
Без иронии (честное слово, так!) – талант, пусть особого рода. С одной стороны, учел страсть генсека к «памятным знакам», позаботился угодить этой страсти. С другой, что по-своему особо приятно, угодил в форме неназойливой шутки: ведь не повесит же тот милую детскую побрякушку рядом с орденами… Уж там не знаю: Победы, Ленина, Льва и Солнца? Возникает атмосфера домашности, для обоих – приятной и лестной: поэт понимает генсека, генсек понимает поэта; из гениальной строчки гениального царедворца Державина: «…И истину царям с улыбкой говорить» изымается пустячок: «истина»; «улыбка» как знак допущенности остается.
Нет, Михалков, пожалуй, даже к чести его (в отличие, например, от эстрадника Хазанова, превратившего в скетч историю о своем выступлении на брежневском дне рождения, – тогда небось не хихикал), не сводит счетов с сильными мира того, приближенностью к коим так дорожил (исключение – Горбачев, что понятно). И ежели его воспоминания о былом не всегда выдерживают испытания фактами, то тут, помимо сознательного желания кое-что утаить и кое-что приукрасить, и еще нечто. Своего рода преображение естественного детского эгоцентризма – такого, какой являет ребенок из книги Чуковского «От двух до пяти» (к слову: на редкость недооцененной как труд по человеческой психологии – далеко не только детской. Сам К. И. писал мне, благодаря за «глубокое проникновение»: «Для большинства читателей она исчерпывается словами «Я намакаронился», – то есть воспринимается как сборник забавных младенческих неологизмов и анекдотиков). Этот малыш-солипсист говорит угрожающе: «Сейчас темно сделаю!» – и закрывает глаза, уверенный, что вместе с ним и весь мир погружается во тьму.
С возрастом – человека, а может быть, и человечества – опыт, казалось бы, должен объяснять самоуверенную наивность такого эгоцентризма, но он, напротив, тратится на то, чтобы обосновать независимость от реальности, от ее причинно-следственных, в том числе нравственных, связей. И вот в данном, конкретном случае в сознании умного, понаторевшего Сергея Владимировича Михалкова возникает уверенность – почти наивная и оттого почти обаятельная: это они,кошмарный (не для него) Сталин, взбалмошный Хрущев, жлобоватый Брежнев, «делали темно». А ему оставалось только жить по ими установленным, повременно, поочередно меняющимся правилам. Как же иначе?…
Поэтому если теперь приходится признавать очевидное: «Мне сегодня неловко за многие «пассажи» в моих публичных выступлениях того «застойного» времени», то тут же следует прибавление, по видимости опять же наивное: «Надеюсь, что делю эту неловкость со многими товарищами по работе в Союзе писателей, в Комитете по Ленинским премиям, в Министерстве культуры СССР».
Надеюсь! Понимать ли, что это надежда и на участие товарищей в покаянии? Или она на то, что все поголовно в дерьме? Как-никак «шел не один, а со многими вместе».
Как бы то ни было, чтб замечательно? Что – по-своему, по-михалковски – очень умно? То, что если некто из злоязычных процитирует из «Дракона»: «-…Я лично ни в чем не виноват. Меня так учили. – Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?», то Сергей Владимирович имеет полное право ответить следующим образом. Коллега Шварц изобразил персонажа, вконец перетрусившего, который, ради спасения собственной шкуры, готов отречься и от Дракона, своего былого хозяина, и от всей своей жизни. В то время как я, признавая свои ошибки – совершенные, правда, «со многими вместе», – и не думаю стыдиться прожитой жизни. «Я служил государству. У нас же было государство: работали честные ученые, честные преподаватели, честные военные, честные писатели. Вся лучшая русская литература XX века создана в советское время… Настоящие писатели писали то, что хотели писать. Вот я хотел писать пьесы, и никто меня не останавливал. И меня награждали. И других награждали».







