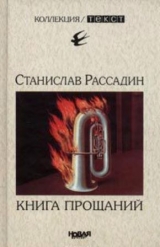
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Вот вопрос: возносить ли ему за это хвалу?
Можно. Но как бы и стыдно.
Он сам, весьма способный похвалиться строкой, об этом говорил, повторю, скупо и редко. Обиды – о да, их помнил! С яростью рассказывал, например, о Фадееве, которому средь вельможных забот хватило времени распорядиться судьбой ссыльного поэта. Когда кто-то из киргизских литературных начальников прибыл в Москву, Фадеев спросил: как там у вас Кулиев? И едва тот с охотой, полагая, будто сообщает приятное, доложил, что – не обижаем, дали работу по специальности (уж не упомню, может, Кайсын в это время служил завлитом театра оперы и балета, может, писал для газеты – но только по-русски и прозой, балкарских стихов печатать, конечно, не разрешали), как московский генсек распорядился: уволить!
Зачем? За что?…
Что же до собственного выбора, то – был ли он? Подумаем: кем стал бы Кайсын Кулиев, во что бы он превратился, если бы принял ту милость?
Нисколько не умаляя благородства порыва, считаю: то был ко всему наипрочему поступок умного человека. А может, решившись на нечто вроде кощунства, сказать даже о выигрыше?О личном интересе? И, совсем расхрабрившись, о выгоде?
Но храбриться необязательно. Кощунства здесь нет, и выделенные слова – не мои.
«Дорогой Кайсын!» – писал Борис Леонидович Пастернак Кайсыну Шуваевичу Кулиеву в 1948 году, в Киргизию из Москвы… Впрочем, не могу не прерваться.
Ранним летом 1968-го мы с Валентином Непомнящим целую ночь, не ложась, провели в нальчикской квартире Кулиева, к слову, поразившей меня скромностью, если не бедностью, и неухоженностью; его жена, ингушка Мака, вместе с детьми уехала в Грозный навестить сестру, так что мы пользовались полной мужской свободой. Но, сколько б ни пили и сколько б ни выпили, без устали читали стихи, а потом хозяин дал нам желтоватые, уже чуть ломкие листки, исписанные знакомым почерком, таинственно предупредив: мы – первые, кому он их доверяет.
Потом Наум Гребнев расскажет мне, что точно то же Кайсын проделал когда-то и с ним: думаю, ему просто хотелось, чтобы каждый из нас – а сколько «нас» таких еще было? – испытал восторг первого прикосновения и оценил оказанную ему честь…
Словом:
«Дорогой Кайсын!…Вы пользуетесь полностью моей взаимностью…Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько, все равно каких, нравственных, душевных или физических задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя (а ведь это очень удобно: каждый всегда под рукой у себя), на примере самого себя, на примере именно этих выступающих определенных качеств рано убеждается он, как хорошо в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое, и на всю жизнь пристращается к самосовершенствованию и охватывается тягой к совершенству. Прирожденный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе. Но не этим поразителен талант. Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель Вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает…»
Вот оно! Выделено, разумеется, опять-таки мною.
«…Как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованностьпобуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгоднаяи счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта породистость струны или натянутость тетивы, и это счастье».
Письмо счастливому человеку от счастливого человека. Даром что адресат в ту пору в ссылке, а автор письма – в загоне, в опале.
Конечно, не обошлось без эстетической скидки – на то, что Борис Леонидович пишет поэту именно ссыльному (и пока молодому, далеко еще не ставшему тем, чем станет впоследствии, оправдав высоту пастернаковской оценки). Трезво учтем заодно и эгоцентризм Пастернака, ибо сказанное здесь о Кулиеве говорится вообще о Поэте, в частности и в особенности – о себе самом.
«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми…» А первый средь этих немногих – сам Пастернак. Это о нем Виктор Шкловский писал в книге «Zoo, или Письма не о любви»: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».
То, что последняя фраза оказалась очень неважным пророчеством, вина не Шкловского.
Как бы то ни было, даже с оговорками нельзя не увидеть: художник пишет художнику, ощущая – щедрым авансом – душевную близость. И может быть, тот невинный спектакль, который Кайсын Кулиев устроил для нас с Непомнящим, отчасти понадобился ему и затем, дабы продлить таинство сообщения душ, доиграть в него…
«Бритоголовым горцем» (над коим как будто витала тень Хаджи-Мурата – недаром и Кедрин назвал его в стихах: «офицер Шамиля») поименовал Кайсына уже я в статейке, рассчитанной на «за рубеж»: это была моя работа навынос, так как читателю русскому я бы такой авантажности не подсунул. Но мне в самом деле нравилась его бритоголовость, тотально распространившаяся лысина, и я до смешного был огорчен, когда Кайсын вдруг отрастил там, где они еще продолжали расти, длинные волосы. Даже заорал: «Зачем?!» – заподозрив уступку длинноволосые, как раз тогда входившему в моду.
А он ответил неожиданно жалобно:
– Какая мода? Мне тут у вас холодно. Мерзну!
Жил он тогда в гостинице «Минск», изменив почему– то своей любимой «Москве», а там – зимой – не работало отопление, и Кайсын даже спал в ушанке. Вспомнился же этот сущий пустяк потому, что у моей игры в «бритоголового горца» оказалось печальное продолжение.
Я навестил его в больнице, где он лечился от неизлечимого и, четко зная, чем болен, спокойно работал: писал прозу, стихи, перечитывал Ахматову. Ее том лежал на столе. Больница была шибко правительственной, библиотека – богатой, а Кулиев, как он сказал, первым и единственным, кому из высокого контингента понадобилась эта книга.
Завидев его снова с начисто оголенной головой, я, по дурацкому обыкновению всех непрошеных утешителей, воскликнул с бодростью, которая мне самому тут же показалась фальшивой до омерзения:
– Ну, наконец-то образумился!…
Но он поворотился ко мне затылком, и я увидел шрам от операции.
– Понял, почему я побрился?
Картинности, величавости – вот чего в нем не было напрочь; ну, если порою и проступало, то с неоскорбительной для души и глаза наивностью. Не было даже уверенности заслуженного человека, твердо знающего о своих заслугах, – хотя, разумеется, знал; он, как и все мы, мог беззащитно потеряться или прийти в бессильную ярость, столкнувшись с хамством билетного кассира или швейцара. А возможно, у него хватало благодушия не добиваться кары для малых сих, возомнивших себя малым начальством.
Остро помню его лицо, гордое и счастливое, с каким он направляется к нам с Алей, победно держа в поднятой руке два железнодорожных билета (он тогда жил в Доме творчества, в Дубултах, мы с женой – на другом берегу Рижского залива, и, поскольку никак не могли уехать в Москву, пришлось уповать на его депутатство). На радостях пошли в ресторан, и, когда натолкнулись на откровенно лгущую табличку «Мест нет» и на несгибаемое упорство привратника, он на сей раз и не подумал достать удостоверение депутата; зато как был опять же счастлив и горд, когда в следующем заведении не обхамили.
Вот отрывок из его письма ко мне:
«…Был в издательстве, читал рецензию. Я отнесся к ней точно так же, как и ты. Я глубоко огорчен, что тебе приходится страдать из-за меня. Кроме прочего, я ограничен в своих действиях потому, что эта книга обо мне. Это сильно ограничивает мои возможности. Неловко, но я уверен, что книга твоя выйдет. Для того чтобы спасти ее, может быть, ты ее дополнишь?… Прости меня, старика!»
С чего бы этакая покаянность?
Дело-то получилось простое и вполне обыкновенное. Я написал книгу о нем – для издательства в Нальчике. Как всегда и у всех, начались опасения: почему в книге есть это? Почему нет того!… Среди тогобыло и обвинение: зачем я не изобразил Кайсына Кулиева как «певца социалистической нови» и расцвета народного хозяйства; стало ясно, что не все земляки читали своего знаменитого поэта. В общем, рукопись послали в Москву, на идеологический арбитраж, оттуда пришла «закрытая» и потому не стеснявшаяся в выборе и калибре обвинений рецензия Иосифа Гринберга, – а уж ее, простодушно не учтя секретной «закрытости», издатели переслали мне.
«Спасать» книгу я отказался, и она так и не вышла, – выйдет позже, в другом варианте, в Москве, – но именно кулиевское неумение защитить ее, выхода которой ему очень хотелось (книг о нем тогда не было ни одной), тронуло меня до чрезвычайности. И послужило утешением.
Ведь он – при его влиятельности – мог надавить, нажать, нажаловаться: помимо прочего, не посчитались с его мнением и желанием! Мог… И не мог. «Книга обо мне» – что ж тут поделаешь?
Я тогда объяснял тем, кто был озадачен его пассивностью:
– Попробуйте представить, что я написал книгу о Ра– суле Гамзатове. Да она бы пулей вылетела, несмотря ни на какие рецензии! Но вот поэтому Кайсын и замечательный.
…Когда он собрался из московской больницы в Балка– рию – умирать, он звонил друзьям. Говорил им, что они значили в его судьбе, благодарил и прощался. Знаю, что звонил Липкину, Гребневу. «Эмачка» был далеко, в Америке, и по тем временам недосягаем. Звонил ли мне? Не знаю и никогда не узнаю: я был тоже в отлучке, хоть совсем не такой далекой. Ревниво надеюсь, что – да, звонил. И одновременно даже задним числом страшно вообразить: что и как я говорил бы ему, сознавая, что это в последний раз.
Как только он умер, возникла легенда: будто он, улетая, просил сделать круг над Эльбрусом, и пилот не отказался, нарушив ради него законы Аэрофлота. Но Эльбрус был в облаках и с высоты неразличим.
Сказка вышла грустной, не подарив, как бы ей полагалось, последнего исполнения желаний. Но там,я верю, тебе должно быть светло и легко, золотой мой Кайсын, «старый кавказский черт», как ты надписал одну из даренных тобою книг. А по правде – не черт, не ангел, но человек, который нес и вынес больше того, что должен выносить человек. Тяжело нес и легко вынес, не доставив мучителям, недругам, завистникам, соблазнителям радости увидать тебя потерявшим осанку.
Остальное – «второстепенно».
И СТОРИК
Владимир Набоков шутил: в молодости снится, что забыл надеть штаны, в старости – что забыл вставить искусственную челюсть. У всякого возраста свои сны; может, и у всякой эпохи – тоже?
Страхуюсь Набоковым от того, чтоб не слишком нелепым показался мой рассказ о собственном сне, много ночей подряд мучившем меня в юности, в середине пятидесятых. Тем более уж какой-то он чересчур… Политизированный?
Социологизированный?… Что и само по себе – странность, до сих пор мною не объясненная.
Образцовый пионер (отличник, победитель всяких там конкурсов самодеятельности и т. п.), в комсомоле я уже не явил общественных дарований: тогда в моей жизни возник и надолго всерьез увлек спорт. Был, в общем, достаточно аполитичен – даром что мама, Варвара Егоровна, круглая сирота с десятилетнего возраста, детдомовка, после разнорабочая, затем выдвиженка, доросшая до поста маленького партработника, была искренней сталинисткой; и как иначе, если Сталин, считалось, дал ей все? Я же не менее искренне переживал, что смерть вождя встретил без должной глубины страдания, и, даже врал одно время, будто – плакал, хотя чего не было, того не бцло.
С отвращением вспоминаю – стыдясь этого воспоминания едва ли не больше иных, куда внушительней обоснованных (как оно, впрочем, и должно быть с грехом лицемерия), – что на школьном траурном митинге я, десятиклассник, дал затрещину первоклашке. (Легкую, значит, тем более лицемерную, ритуальную.) Тот, не умея осознать грандиозность всенародной потери, вертелся себе и хихикал, – а я, выходит, таким образом возместил нехватку собственного страдания.
Даже арест всемогущего Берии, потрясший страну, был встречен хладнокровно; помню, как раз в эту пору я жил со сверстниками на легкоатлетических сборах, на территории черкизовского стадиона «Сталинец», ныне преображенный «Локомотив», откуда, между прочим, поступая на филфак МГУ, как медалист ездил на собеседование – в чужих штанах и ботинках, привинтив к рубашке для верности поступления спортивный разрядный значок. Словом, услыхав из радиорупора о «судьбоносном» известии, высунули мы носы из палаток: а, Берию арестовали? Ладно, пошли на тренировку.
И тем не менее…
Итак, снилось: вот с гиком несется какая-то лава, отчетливо краснозвездная, даже как будто увенчанная буденовками (сегодня, конечно, пришла бы на ум цитата о комиссарах в пыльных шлемах). «А-а-а!…» Потом вдруг возникает некий колосс – идол? кумир? – который в эмбриональной позе переворачивается через голову, причем я до отчаяниясознаю, что этого никак, ну, никак не может, не должно быть…
И в этот миг я всякий раз в ужасе просыпался.
Смешно, но мой бесконечный кошмар прекратился разом, едва на XX съезде Хрущев занес кулак на сталинский культ и «великая иллюзия» рухнула.
Выглядит, сознаю, и вправду до смешного социологично, отчего я единственный раз – и то в хмельную минутку – решился рассказать об этом Натану Эйдельману. И серьезность, с какой он воспринял рассказ, поразила: Натан принялся горячо убеждать меня написать про это, ибо такой документ подсознания, зафиксировавший предчувствие общественного переворота, быть может, даже важнее, чем многие настоящие документы… Нет, я, понятно, отнюдь не уверен, что в данном случае это именно так, но вот что меня восхитило и восхищает: для него, для историка милостью Божьей, каприз моей частной подкорки, неподвластный рациональному объяснению, тоже годился для постижения Истории.
Может, именно потому, что он и был историк – от Бога, а не одной лишь науки?…
Мы – переписывались.
На бумаге не удастся с помощью интонации или жеста передать неординарность этого сообщения, однако знавшие Эйдельмана поймут, что информация – не из рядовых. Что до меня, я-то, на протяжении десятилетий старавшийся ускользать из Москвы, применился к этому отмирающему способу общения, заразив им еще нескольких друзей, Натан же сперва изумлялся: зачем? Когда есть телефон!… Но потом ему так понравилось получать письма, что он втянулся, и вот нынче я – один из очень-очень немногих владельцев серии его писем. Кажется, даже больше того: случай, как говорится, скорей исключительный, нежели редкий.
Вначале ему не хватало терпения писать собственноручно, он диктовал, даже на пицундском пляже, и его жена Юля покорно стучала на машинке, иной раз для забавы вставляя свои реплики с ремаркой: «Голос из тьмы»; затем уже Натан стал писать своею рукой, чему особенно радоваться не приходилось: при его почерке нетерпеливцакаждое, допустим, десятое слово прочесть с ходу не удавалось.
Вот и попробую дать череду извлечений из писем, до времени самоустранившись как их комментатор; сдается, возникнет сама собой хроника на выборку восьмидесятых годов, еще доперестроечных. Воссоздастся их атмосфера. Не говорю уж: главное, высветится характер Натана Эйдельмана.
Июль 1980-го, из Москвы в Саулкрасты:
«Ваше Рассадинство!
Ваши нежности плюс рычание получил, свое ничтожество осознал.
…Интересно, как идет твой Денис 2-й? (Давыдов, а 1-й – Фонвизин, о котором я написал книгу. – Ст. Р.) Не кажется ли тебе, что для более глубокого проникновения ты должен войти в гусарский образ – скакать, рубать, напиваться, выгонять иноземца? Напиши, что ты из этого осуществил. А кстати, поскольку ты уж наверняка проштудировал всю литературу, не попадались ли тебе данные, где находится переписка Давыдова с девицей Золотаревой? Ах, как хотелось бы написать об этом! Впрочем, чур меня! Вернувшись с юга, кинулся на работу. Пишу о Павле и XVII1 веке, о Пушкине и Таците, Макиавелли, Пугачеве, Нащокине и т. п., и т. д. Москва опустела, не узнал бы. К Олимпиаде относятся столь любовно, что называют ее именем уменьшительным». (Естественно, Липа. – Ст. Р.)
Оттуда же и туда же, июль 1981-го:
«Все время что-то делаю, насчет уединения плоховато, маму не очень оставишь больше чем на сутки. С горя стал ходить в архив, разыскиваю пропавшие бумаги Карамзина, тут разворачивается целый детектив, о чем – при встрече.
Эх, брат Рассадин, перенестись бы мне к тебе или нам с тобою в какой-нибудь тихий замок, «и государь-император, видя такое наше усердие…»
И не пьешь ты ни грамма не потому, что трезвенник, а потому, что меня нет рядом».
То же самое, август 83-го:
«В последнем послании было много о Пушкине, но мало-о грибах, пляже и подобном: Алечка, помоги этомуинтеллигенту спуститься до нас, грешных, трудовых евреев, ставящих жизнь выше искусства. А меж тем посыпал дождичек, а до того были прелестные теплые недели три.
…Читаю письма Ростопчина к князю Цицианову (1803-1805 гг.): что за прелесть, что за проза! И главное, все всё в ту пору читали – у нас же вроде бы выходят интереснейшие вещи, о которых узнаешь вдруг, случайно, или не узнаешь: говорят, что в апрельском № «Крокодила» – острейшая статья Можаева, а в последних №№ «Знамени» (да, да!) – прелюбопытнейшие мемуары Шахурина и еще несколько «почти сенсационных» материалов; а в «Иностр. Л-ре» № 8 занятнейшее интервью, взятое Киплингом у Марка Твена (это уж я сам читал). Итак, все пишут – все читают – и ничего не происходит. Кажется, последний афоризм – Булата.
…О Пушкине: справедливы слова твои, Станиславе, – и ко мне крепко относятся! Но что же делать? Нельзя писать о нем – и нельзя не писать. Пока что я поклялся, что это есть наш (мой) последний бой о нем, и разумеется, комментарий, история – нешто мы что другое умеем? И, главное, кое-что занятное, даже очень занятное нашел (более или менее собрал главы «Беседа П. с Николаем», «Пушкин и Карамзин» – прижизненные и посмертные отношения. Споры с Мицкевичем, новое о Гавриилиаде, о Просвещении 1800-1830-х и пушкинских надеждах на оное), но это история России, а не Пушкин, и, единственное, надо суметь во всем этом где-то признаться.
Ах, ребята, лет уже много – дорожите молодостью. Когда Эйдельман был таким, как вы, он был еще о-го-го!
А вообще – рад письмам, даже жалею, что приезжаете; единственная надежда – на новые расставания».
Май 1984-го, из Москвы в Малеевку:
«Дорогой Стася! Письмо твое шло дней десять. Сколько же идти моему? Сегодня День победы – для меня и мамы день воспоминаний об отце. Пытаюсь по телевизору и радио пробиться к подлинным, старинным военным песням и т. п. Но это очень трудно – преобладают жирные, самодовольные кобзоно-хилевские рулады. Все обсмысли– ваю свою старую, навязчивую идею (кажется, говорил тебе – ну ничего, еще раз потерпишь!) – что тайна Войны еще и близко не затронута: между «Войной и миром» и1812-м – 57 лет: до того подобный роман не мог бы явиться – ветераны бы заели (они и так трепали JI. Н-ча), и написать должен был именно человек со стороны, родившийся 16 лет спустя. Но позже, если б Толстой опоздал, 1812-й так бы уже удалился, что слился бы с Семилетней, Ливонской и прочими абстрактными понятиями. И если я прав, то для настоящей книги о 1941 -1945 осталось еще лет 15… Впрочем, не шибко верится – уж больно мы удалые, сытые, победоносные».
Тот же год, июль, вновь из Москвы в Саулкрасты:
«15/VI в Д/К Горбунова было поразительное чествование Булата, устроенное Клубом самодеятельной песни. Дело даже не в «сути», а в Атмосфере. Сотни очень хороших молодых лиц (Фазиль сказал, что, он видел такие на фото времен Февральской революции; я его, правда, огорчил и вспомнил, что в 37-м были не хуже). Вел программу Юлик Ким, выступали все певцы, барды (наконец услышал песню Вероники Долиной про Натана Эйдельмана) – все были в большом ударе (особенно Никитины и Валя Никулин, сам Ким) – затем вышел Булат, еще с ангиной, и спел пару новых чудесных песенок (о генерале и о скрипке). В последней ему вдруг подыграл сын на фортепиано и один прекрасный скрипач: это был сюрприз и выглядело трогательно, естественно. А после – человек 60 оказались за столом, за кулисами – и там было опять весело; и тут уж Ким опять «выдавал», а Булат попросил помянуть Александра Аркадьевича и Владимира Семеновича.
И разошлись в 2 часа; Булат сказал, что знал – будет хорошо, но не ожидал, что так хорошо. Ему сделали массу остроумных подарков – в том числе газетку «Менестрель», где многие (и я) написали. А сверх того – полное собрание его сочинений в одиннадцати томах в одном экземпляре: перевели на ксероксе все, что он когда– и где– либо напечатал на машинке – все когда-либо написанное; это снабдили фотографиями, предисловиями (к каждому тому), переплели и вручили. Не знаю, хорошо ли я передал мысль, но вдруг будто вернулись «идеальные» шестидесятые и т. п. Ладно».
Февраль 1985-го, в Малеевку из Москвы:
«Спасибо, Стасик, за хорошие слова в адрес моего А. С. П. Я вообще-то все больше с тобою согласен, что
Пушкина надо бы «изолировать от общества», и даже сам не рад, что сверх этой сдал еще одну книжку, последнюю, о нем: инерция, старые запасы… Просто образуется сегодня от писания о нем какая-то химическая реакция великого поэта и дурного общества потомков: срочно нужны новые обезвреживающие средства. Я, конечно, хотел все больше поговорить об истории – благо, прикрывшись мэтром, это полегче».
Наконец, письмо в Москву из Гульрипши (Абхазия). Сентябрь 1985-го:
«…Занят любимейшим делом (Рассадину не то что не понять – не вообразить!): читаю журнал «Вестник древней истории», где в трудных, наукообразных текстах попадается такая прелесть, какую (для меня) не поставляет ни один исторический роман (например, письма древнеримских солдат, жалующихся на тяжелую службу в пустыне и тоску по дому – письма, извлеченные из великой Оксирин– ханской помойки, куда египтяне более 1000 лет выбрасывали ненужные вещи, старые письма и т. п.). Сверх того поглядываю уже на груду грибоедовских бумаг, но боюсь прикасаться («взялся – ходи»); ясно понимая, что мне не представится в ближайшие несколько лет случая – поделиться с писателем Р. своими находками и гипотезами, я захватываю его врасплох, за чтением письма, и… небрежно сообщаю 1 – 2 тезиса. Главное, по-моему, в том, что, следуя за тыняновско-рассадинской мыслью (нет, чисто рассадинской, если не пиксановской), что Грибоедов оттого ударился в карьеру, что «творчество не шло», – я убедился, что это неверно.
1. Слишком мало времени после «Горя», чтобы убедиться в бесплодии; к тому же он, по всей видимости, высоко ценил «Грузинскую ночь» (дело не в нашем несогласии, а в его субъективном мнении).
2. Но не это главное. Главное, что все, все (и Тынянов, и Лебедев, и мы, грешные) – люди XX века, наделяющие Грибоедова нашей позицией, – что писателю делать гос. карьеру нелепо, стыдно. Меж тем – для XVIII – начала XIX это нормально, естественно; даже наоборот – писатель вне гос. деятельности странен. Так что Грибоедов продолжал традицию Кантемира – Державина – Карамзина…
3. Может быть, главное. Грибоедов видел поэзию в гос. деятельности на Востоке, недаром говорил с Бегичевым, что явится туда пророком, видел в этом и независимость, и полезность, и «высокую болезнь»: а может, и правда, друг Стасик, быть министром или послом столь же интересно и возвышенно, как писать книжки о былых веках и людях?»
Между прочим, как здесь предчувствуется, предвидится, предполагается в качестве, чем черт не шутит, возможного – и уж куда отчетливее, чем на то было способно мое юношеское сновидчество, – горбачевская перестройка, когда интеллигенты-гуманитарии хлынули в депутаты (иные и впрямь – в министры, в послы). Дальнейшего еще не предвиделось, хотя незадолго до смерти, написав послесловие к одной из моих книжек, Натан вспомнит слова своего любимого Герцена: под солнцем свободы не только травка зеленеет, но и зловонные миазмы поднимаются из сточных канав.
Миазмы пришлось вдохнуть и ему. В сентябре его смертного, 89-го года я, живя все в той же Малеевке, получил от него письмо – самое последнее:
«Стасичек, кажется, тебе придется еше раз мне написать, ибо улетаем в Болгарию только 21 сентября.
…Как бы ты (и я) узнавали – что о нас пишут Глушко– ва и Бурляев, ежели б не библиотеки Домов творчества? Не опасаешься одуреть от избытка вони? Я стал побаиваться этого чтива.
…Только что получил открытку «Эйдельману Н. Я., иудею (очевидно, чтоб не попало случайно к Эйдельману Н. Я. – православному) с обратным адресом «Челябинск. Русские» (а на штампе «Свердловск»!). В открытке имеют место стихи:
Помрачение умов
Привело к великой смуте,
И возникпа власть жидов
Беспощадная по сути –
а затем проклятия и «слава хрестьянской (так!) державе»…»
Перечитывая сейчас эти строчки, прислушиваюсь к себе: обидно? Горько?… Да нет. Противно – это без сомнения, а в общем, нормально – для тех ненормальных условий, в которых живем и умираем. Убежден, что Натан тут со мной согласился бы, а если бы при этом умолчал о тайных страданиях самолюбия, об усталости от приставаний назойливых пакостников, возможно, и о недовольстве самим собой, что подобное злит, то есть хочешь не хочешь, но добивается своей пакостной цели, – что ж, это цена, которой платишь за выбор, сделанный единожды и навсегда.
В «Большом Жанно», в «повести об Иване Пущине», странно и привлекательно переполненной самим автором, его, как выражаемся, комплексами, есть замечательное место. Пущин, сам тому удивляясь, вспоминает, что 14 декабря, на Сенатской, где судьбы трагически переламывались, где ожидалась то ли победа, то ли, что вероятнее, гибель, – «было весело». Да! Смеялись, шутили, озорничали. «Чем дальше и страшнее – тем веселее мне было». Больше: «Именно у самого конца, когда уж стемнело, – апогей надежды и, стало быть, веселья!»
Отчего так? «…Поводом к веселью было, думаю, чувство, что выбор сделан и дело сделано: худо, бедно, а сделано».
Дерзость угадливости – не только от знаний историка, не только от права домысливать, дарованного профессией беллетристу, но от чего-то… Все-таки – подсознательного. Обретающегося в подкорке.
…Наш с Эйдельманом близкий друг Михаил Козаков писал в своей книге «Третий звонок», пересказывая отчасти эссе Бенедикта Сарнова «Кто мы и откуда», – и, читая его строки, мучительность которых очевидна даже тому, кто не знает козаковского самоедства, не могу не мерить их судьбою Натана.
«Он, – говорит Козаков о Сарнове, – размышляет на ту же тему в России, что я здесь в Израиле. Суть одна…Я ведь тоже родился в мифической стране Гайдара, разумеется, Аркадия, не Егора. «Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну угадай». – «А ты – ты советский. Спи, Алька, спи!» – Аркадий Гайдар.
«Шел он, Юрий Карабчиевский, – пишет Сарнов (а Козаков прилежно цитирует. – Ст. Р.), – однажды мимо Кремля. И живо представил себе, как с этих зубчатых стен, или других, белокаменных, льют смолу-кипяток на татаро– печенежских захватчиков наши добрые, в красных кафтанах молодцы. И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал… «что столь важное для меня понятие «Россия» ограничено для меня и временем, и системой знаков. И вот эти, лившие кипяток и смолу, явно не мои, чужие предки. И не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни особой жалости, ни особой гордости…».
А потом он, Юрий Карабчиевский, попал на другую, свою, как принято говорить в таких случаях, историческую родину. «Целый год, – пишет Карабчиевский, – я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто не мог сказать: давай, проваливай! Это все не твое! Это все наше! А напротив – все наперебой говорили: оставайся, приезжай насовсем. Это твое. И показывали мне развалины крепости, где наши, будто бы общие с нами предки, почти 2000 лет назад три года защищались от римских захватчиков. Девятьсот человек моих предков против скольких-то там десятков тысяч осаждавших. И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, и грешно сказать – но и к ним тоже не чувствовал никакого сродства. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, ни те полуголые мужики с ножами-кинжалами. Никто мне из них не друг, и никто не родственник. Вся моя принадлежность лишь в настоящем и ближайшем прошлом. И если сейчас она распадется во всеобщем российском хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии».
Юрий Карабчиевский, – заключает Козаков, – свел счеты с жизнью. Сын его живет в Израиле, зовут его Аркан Карив, он блестяще знает иврит, пишет в русскоязычные газеты, растолковывает нам, несчастным олимчикам, как слово «трахаться» звучит на ивритском сленге. Бен Сарнов живет в России, и свое эссе он заканчивает следующим пассажем: «…Я не хочу подвергать сомнению ни искренность тех советских евреев, которые ударились в православие, ни столь же безусловную искренность тех, кто решил обратиться к иудаизму. Но каким бы искренним ни было это их обращение, одно для меня несомненно – они тоже обломки великой катастрофы, такие же беженцы из страны Гайдара, случайно уцелевшие после крушения этой новой Атлантиды, как и те, кто не в силах ощутить ни свое родство со стрельцами, ни с защитниками древней крепости Моссад. Все мы жертвы гигантского, провалившегося эксперимента…»
Такое вот – прости, терпеливый читатель, – трехступенчатое цитирование: Сарнов цитирует трагического Ка– рабчиевского, Козаков – медитирующего Сарнова, я – нервно-совестливого Козакова. Полагая, что мой друг Миша, решивший таким манером объяснить самому себе, влюбленному в Пушкина, ставившему Толстого, свой безумный – его слова – отъезд на «историческую родину», что он, безропотно соглашаясь с Сарновым (в рифму: «…Готов подписаться под каждым словом»), к себе же несправедлив. Но пока речь не о нем. Пока размышляю, что на сей счет сказал бы «Эйдельман Н. Я., иудей».
Да и говорит – книгами своими.
Кстати, тему «страны Гайдара», откуда мы все родом, но не все остались в ней жить, совершенно несправедливо – до абсурдности – ограничивать драмой еврейства. Забывать о своих протяженных корнях, гордиться или хоть притворяться, что ты вышел со дна, из неразличимой тьмы, – все это слишком долго было гарантией социальной благонадежности («не дворянин», «не буржуй», отчего в первые послереволюционные годы, пока Сталин не поднял черное знамя антисемитизма, быть евреем как раз и означало, что ты «не… не…»). Мудрено ли, если самые что ни на есть русские люди вытравляли из себя историческую память?







