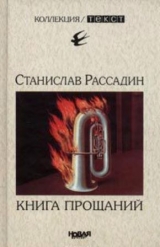
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Вряд ли авгуры театроведения поверили восторгам начинающего критика в адрес еще никому не известного актера, но сам ташкентский «Гамлет», вскоре привезенный в Москву и показанный на сцене Малого, произвел впечатление. Самим Гамлетом. «Семнадцать театров предложили мне перейти в их труппы!…» Все, однако, решил звонок Товстоногова.
Нельзя сказать, что Рецептер попал в любимчики к Мастеру. Хотя… Одна из законодательниц питерской театральной моды пересказывает свой разговор с Товстоноговым. Он:
– Ну, как вам Рецептер?
Она:
– По-моему, он очень талантлив.
– Талантлив? Это не то слово!
Да и – Чацкий, пусть в качестве «ввода», Петр в классических «Мещанах», Рюмин в «Дачниках», Тузенбах,
Эраст в «Бедной Лизе»… Избыточно для того, чтобы актер с нормальнымсамоощущением (потому что кто из них, самых удачливых, сыграл хоть половину того, на что имел право рассчитывать?) мог не считать себя неудачником. Тем более – отщепенцем. Но это – с нормальным.
Рецептер рано начал топорщиться. Взбрыкивать.
Его лучшая проза, «Ностальгия по Японии», «гастрольный роман», и начинается эпизодом, когда он, назначенный в спектакль «Амадей» на роль выбывшего по душевной болезни Григория Гая, вдруг отказывается влезать в костюм, шитый не на него. Да, Гай – его друг. Да, спектакль Рецептеру-пушкинисту противен: почему играют не гениальную пьесу Пушкина, а «ихнего» Шеффера? Да, обидно, когда «не артист – к роли, а фигура – к костюму». Но цена упрямства – отказ от гастролей в Японии, куда хочется нестерпимо!
Однако в этом упрямстве есть что-то помимо названных – немаловажных – причин.
Что? Да ясно: все та же неизбежная (?) зависимость любого (?) артиста от той жесткой системы, которой и является театр. Всякий, не только такой, каким был БДТ Товстоногова.
(Хороший ответ, данный, как говорят, Юрием Григоровичем на вопрос, должен ли быть театр авторитарным: «Нет! Только тирания!»)
«Стыдно быть старым артистом», – не единожды вспомнит автор «Ностальгии…» слова артиста Ханова (перекликнувшееся со строчками Межирова: «До тридцати – поэтом быть почетно и срам кромешный – после тридцати»), Звучит почти как: «Стыдно быть старым», да так оно, в общем, и есть, когда речь о профессии, изначально зависимой. Поэт можетзависеть от публики, а артист не можетот нее не зависеть – притом, в отличие от поэта, от ее непосредственной реакции.
Не зря же и Пастернак, сказав, что «старость – это Рим», вспомнил как раз «актера», который оправдывает эту самую старость только «гибелью всерьез». Не «читкой». Не самим по себе актерством.
Независимость и ее многообразные ущемления -вот, может быть, главный двигатель ряда стихотворений и, по сути, всей прозы Рецептера – да что там, самой судьбы его.
Актерство, «читка» начинает казаться чем-то вроде предельно чуждой ему партийности, и уже не очень забавно становится при чтении «Ностальгии…», полной актерских баек, когда речь заходит о славном и милом Стржельчике, «ради дела» вступившем в КПСС («Что делать, Слава… Надо же подумать о театре!…»). И совсем не забавно, какиеречи начал в конце концов толкать опартбилеченный «Стриж», к немупризывать, когоклеймить по призыву и по приказу…
Положим, Рецептеру долго удавалось как-то выходить из неуютного положения. Радостью единоличника были моноспектакли: «Маленькие трагедии», «Лица» по Достоевскому, а в первую голову – «Гамлет», нашумевший в Питере и Москве (в зале Чайковского делал битковые сборы, из коих, помню, артисту уделялись 14 р. – двойная актерская ставка, и я тогда по-дружески ревновал, прикидывая: а сколько на круг перепадает, скажем, хору имени Пятницкого, собирающему тот же самый аншлаг?).
Вопрос: завали Мастер свою «одну семидесятую» работой, не отними того же принца Гарри – свернула б «семидесятая» с накатанной колеи?
Предполагаю: свернула бы. Сворачивала. Уже в стихотворной книге середины семидесятых автор не зря завидовал Несчастливцеву и Счастливцеву, поневоле свободным от «антрепренеров»:
И я бы с вами, с вами,
в жару или пургу,
с котомкой за плечами –
да выбрать не могу
меж Вологдой и Керчью,
рапирой и щитом,
котомкою и печью,
героем и шутом…
«Актер уходит из актеров…» – начиналось соседнее стихотворение, пусть еще явно не автобиографическое, но вот уже и личная ситуация:
Не придавай значенья тому, как я шучу.
Двугорбого терпенья набраться я хочу.
Ты видишь, перемены
судьба мне не дала:
вновь от стола до сцены,
от сцены до стола.
Впрочем, «уйти из актеров», сделав решительный выбор, было мучительно, страшно; неопределенность рождала депрессию, и вот уже – или, скорее, еще, решение назревает, но тормозится – в конце семидесятых годов мой друг Юрий Давыдов сообщает в письме:
«Приехал в Пермь, узнал, что там БДТ, нашел Волика с Ирой, привел к своим друзьям, сидели до утра. Волик, по-моему, не то чтобы грустен или даже печален, а как бы пришиблен жизнью»…
Между прочим, пишущий артист – явление всегда странное.
«Талантливый человек талантлив во всем» – сомнительная сентенция, чаще всего оправдывающая дилетантизм. «Скрипка Энгра» (или Эйнштейна) как доказательство гармоничности бытия чьей бы то ни было личности – неубедительна; меня при восторженных ссылках на побочные дарования тянет за язык желание нелогично добавить: были ведь еще и фортепиано Гейдриха или Жданова, отнюдь не влиявшие благотворно на палаческие натуры этих подручных Гитлера и Сталина.
Многоипостасностъ, скорее; подозрительна – в том смысле, что возникает сомнение: не означает ли тяга в иные сферы неосуществленность, а то и несостоятельность в первой и главной? Вообще – что поделать! На дворе – не эпоха Леонардо, XX век и, быть может, тем более начавшийся XXI – века профессионализации и секуляризации (да, впрочем, и XIX – тоже. О феноменальном Алексее Хомякове, чьи таланты исчисляются чуть не десятками, – можем ли даже о нем сказать, что он в философии равен Владимиру Соловьеву, а в поэзии – Тютчеву?).
Так вот. О Рецептере не скажешь, будто он абсолютный первач в любом из своих проявлений. Но, отметив – по справедливости! – что этот артист, режиссер, прозаик, поэт, пушкинист, так называемый организатор культуры (да не позабыл ли я чего-то еще?) стал необходимой фигурой нашего, выразимся скромно, культурного обихода, отмечу и то, что эта почтенная сумма еще не является чем– то поистине уникальным. А ведь есть основания говорить и о некоем, представьте себе, феномене этого десятиборца культуры.
Отважно жертвуя чувством юмора, назову-ка это психологической реинкарнацией. Впрочем, снижая пафос, лукаво добавлю: независимо – ну, почти так – от того, что сам в приятельском общении нет-нет да и наблюдаю неизжитые племенные черты артиста. Актера…
«Холодным пламенем» назвала Ахматова (к Рецепте– ру, кстати, благоволившая) «лайм-лайт», попросту – свет театральной рампы; назвала как символ публичности, для поэта соблазнительной и опасной. Есть и другой вариант, жестче: «позорное пламя», и вряд ли «позорность» связана всего лишь с «позорищем», в смысле старинном и безобидном – со «зрелищем». Скорее уж смысл стихотворения 1960 года «Читатель» можно сопрячь с отзывом Анны Андреевны о молодых поэтах пятидесятых-шестидесятых, завоевавших эстрадную, даже стадионную славу. Это, сказала она, «другая профессия». Другой успех. Другая цена его.
Конечно, «позорное» – экспрессия преувеличения, объяснимого, может быть, тем, что Ахматова словно бы приложила не свой, чужой выбор судьбы – и «профессии» – к себе самой. Приложила – и ужаснулась. Говоря ж без экспрессии, как оно и сказалось в окончательном варианте стихов, «позора» в тяге к «лайм-лайту» нет; «другая профессия» в свое время даже свершила и объективно доброе дело…
Стоп. Об этом куда обстоятельнее поговорим, когда возникнет основательный повод, в главе «Мы, я и Евтушенко», пока только застолбив наблюдение, что поэтическое первородство, случается, уступает свое место профессиональному самоощущению артиста. Той самой зависимости от сиюминутного читательского… Да нет, уже слушательского, зрительского приема. Пока же – что из этого следует в отношении Рецептера как прозаика и стихотворца?
Хотя главное – чего не следует: будто он в этом смысле лучше-хуже кого бы то ни было. (Лучше – кого? Ведь не Окуджавы, которого сама по себе гитара выводила к «лайм-лайту».) И все же…
То, что столь явственно пробудился – и когда? на шестом десятке! – талант истинного прозаика, разумеется, неожиданность. В том числе для близких людей, не исключая меня. Неожиданнее, однако, другое: это – неактерскаяпроза, при том, что подножный материал – самый что ни на есть актерский. Даже если в романе «Узлов, или Прощание с Казановой» сквозь героя явно просвечивает грандиозный сосед по гримерке Павел Луспекаев, – все равно «театральная проблематика» в лучшем для нее случае есть дело второстепенное.
Что такое «Ностальгия по Японии»?
Напомню: фабула – поездка товстоноговского БДТ в Японию. Трагикомические подробности с перевесом в комизм: кого взяли, кого не взяли, чём запастись, что привезти. Как вдруг ударение резко смещается в сторону «траги». «Наши» сбивают южнокорейский лайнер. Уверенно предвкушаемый триумф оборачивается бойкотом «советских» и жгучим чувством безвинной, но все же вины.
Циничнейше (!) рассуждая: не повезло ли рассказчику– беллетристу? Какой сюжет подарили ему родные военно-воздушные силы!…
Цинизм не из пальца высосан. Вспоминаю Рижское взморье семидесятых и сияющего классика советской кинодокументалистики Романа Кармена, вопрошающего знакомых:
– Видал мой фильм? Какой я там ход завернул!
А «ход» был в том, что фильм про Луиса Корвалана, обмененного на «уголовника» Владимира Буковского (каковой обмен немедля отозвался широко известной частушкой: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую блядь, чтоб на Брежнева сменять?»), вроде бы сам собой подскочил на шкале драматизма. Подфартило.Внезапно скончался сын главного коммуниста Чили, и мастер не преминул воспользоваться заемным трагизмом, закрутив сюжет вокруг панихиды. Попробуй не рассиропься…
Рецептер сумел оказаться на уровне драмы, в которую ввергла действительность. Роман, начатый почти беззаботно, вместил многие судьбы, подчас переломанные. Или хотя бы не соглашающиеся быть гладкими – отчего самыми нужными для романа героями, помимо рассказчика, «артиста Р.», «отщепенца Р.», стали изумительная Зинаида Шарко, вечная нарушительница правил, и Григорий, Гриша Гай, который самой страшной болезнью своей внес дисгармонию. Не дал беспечной интонации первых страниц восприниматься с доверием.
Вопрос на грани – опять же – профессионального цинизма: не кощунство ли предположить, что, не будь роман «гастрольным», так или сяк документированным, то историю Гая, не случись она в сущей реальности, надо было придумать? Что ж, тогда можно было бы бестрепетно констатировать, что эта история, ворвавшись в круг предгастрольных забот, исподволь начала нас готовить к трагедии иного масштаба – к гибели несчастных авиапассажиров и к пароксизму стыда за имперски-национальную причастность. Что, в свою очередь, прорвало замкнутость профессиональной, сценически-закулисной жизни. Пробило в ней брешь, и в быт ворвалось бытие, оказалось возможным, даже необходимым рассказать – об отщепенстве самого Р., о его неслучившейся любви, о драме Блока «Роза и Крест», поставленной Р., Рецептером, в БДТ, просто о драме Блока…
И т.д. и т.п.
Конечно, идеальный читатель, которым мне, как и многим, не стать, – тот, для кого имена Шарко, Стржельчика, Лаврова, наконец, Товстоногова не говорят ничего. Для кого они просто персонажи романа, хотя б «гастрольного», пришельцы из «второй реальности». И конечно, незабвенному Грише Гаю, кого и мне посчастливилось кратко узнать (это к вопросу о моей читательской неидеальности), прочитавшему стихи Рецептера о себе самом, просто было ответить на вопрос, не возражает ли он против их публикации:
– Конечно, Воля, если хочешь – печатай. Я ведь понимаю, что это уже не совсем я, а твой литературный герой.
Стихи-то – любовно-дружеские, а реакцию иных прототипов (и нас, ангажированных так или иначе) легко представить совсем другой. Но тут ничего не поделаешь: некогда и Левитан рассорился с Чеховым из-за «Попрыгуньи», а очевидно просвечивающие прототипы «Театрального романа» изрядно осложняли цензурную судьбу книги.
В любом случае, как и полагается в «настоящей» прозе, здесь, по авторскому словцу, сущее и подножное – то, что «поставляет натуральную пищу читательскому воображению». Натуральную – но пищу, не больше того. Сырой, так сказать, продукт. Ведь и сам ведущий рассказ – не совсем тот Владимир, Володя, Волик Рецептер, которого я знаю, кажется, как облупленного, а и «артист Р.», еще существующий в границах повествования как «одна семидесятая» золотой команды, и тот, кто с подозрительной безошибочностью знает, какой проделает путь:
«Если в будущем у меня станет отваги, я погублю актерскую карьеру и покаянным отщепенцем сяду за письменный стол…»
Сел. И встал из-за стола другим человеком. Чему не перестаю удивляться.
КОЛОБОК
Когда в далеком 1979 году вышел фильм «Пять вечеров», а я напечатал в киножурнале рецензию, прозвучал телефонный звонок. Звонил из Питера Саша Володин. Александр Моисеевич.
По лукавому своему обычаю, который я уже успел изучить, начал издалека. Похвалил какое-то мое постороннее сочинение (а я ждал, когда он перейдет к делу). И наконец– то – что прочел мою статейку об экранизации его пьесы, что благодарен, но:
– Ты пишешь про эпизод в ресторане, будто его сочинили Адабашьян с Михалковым…
– Сашенька, да у меня об этом ни слова нет!
И действительно, не было. Это в другой статье и в другом журнале Михалков и Адабашьян, в титрах объявленные единоличными авторами сценария «по мотивам», одобрялись за то, что обогатил пьесу Володина – в частности, как раз той сценой, где Ильин, блистательно сыгранный Любшиным, бродит меж столиков, с пьяной назойливостью и пронзительно-смутной тоской добиваясь у пьющих-закусывающих, кто из них помнит слова песни:«Не для меня придет весна, не для меня Буг разольется…» Или «бук разовьется» – кто как хочет, так и поет.
Что до меня, я-то слышал от Володина, знал: эпизод – его личное воспоминание, засевшее в сердце. Это он сам, выпив, бродил и выпытывал.
Но ему сейчас надо было выговориться, заодно объяснив, почему его имени нет в титрах. Будто бы – эта осторожная оговорка не означает моего недоверия, просто, как выражаются, не выслушана другая сторона – ему позвонили двое вышеуказанных, попросили: Саня, уступи авторство, понимаешь, очень деньги нужны. Он так и сделал. Сам, говорит, в деньгах тогда не нуждался и вообще не хотел сперва сценарий писать, не веря в удачу фильма.
В чем тем более не приходится сомневаться. Так он отговаривал Ефремова ставить «Назначение», уверяя: «Олег, не получилось», так сопротивлялся возобновлению «Фабричной девчонки» и «Старшей сестры», так и Никиту Михалкова молил: «Не позорьте себя, не позорьте меня!…» Надо ли говорить, что во всех случаях ошибался, а уж «Пять вечеров», на мой вкус, просто лучший фильм режиссера Михалкова и, может быть, оператора Лебешева. Даром что, говорят, был задуман внезапно и снимался в промежутке между двумя сериями скучнейшего «Обломова», чтобы труппа не простаивала.
История очень володинская. Деньги – да черт с ними, раз уж ребята просят. На авторские амбиции тем паче плевать. Но как только выяснилось, что нечто сугубо твое, только тобою и пережитое, воспринимают как литературу,– это невыносимо…
Кстати, фильм «Пять вечеров» нечаянно довыявил и еще кое-что. Он, вспоминает Володин, «в одной маленькой европейской стране… пользовался странным успехом. Там приняли его за абсурдистский. Решили, что героиня живет в квартире, населенной призраками… Была там армянка (намек на национальный вопрос), мальчик на детском велосипеде катается по коридору (не воспоминание ли о неведомой нам вине?…»).
Этакий, словом, «Солярис» – а там попросту коммуналка.
(Хотя что с них возьмешь, с благополучных европейцев? По слухам, где-то там, во Франции, кажется, и бесхитростного «Афоню» Данелии сочли условно-гротескным произведением: в самом деле, слесарь-сантехник, перед которым пресмыкается целый микрорайон, разве это не комедия чистейшего абсурда?)
И вот какая шальная мысль приходит мне в голову: что, если зрители «маленькой европейской страны» вдруг оказались ближе, чем мы, к восприятию странного своеобразия Александра Володина?
Шумно, даже скандально возникши в словесности и на театре с «Фабричной девчонкой» как раз в год XX съезда, ставший тем, чем стал, в шестидесятые годы, он не был плотью от их плоти, как Евтушенко или Аксенов, чьи таланты оказались так соприродны «оттепели». Володин – не сын той эпохи, как, впрочем, и всех последующих; он ее (их) пасынок. Даже при том, что был любимейшим драматургом молодого «Современника» и объектом обожания Олега Ефремова.
В этом смысле его превосходил разве что изгой Вампилов, не принятый не только партийно-театральной цензурой – тут многие были равны, – но и стилем, господствовавшим в «прогрессивной» части театра и литературы. Решусь даже спросить: да и сам он – верно ли воспринимал себя самого?
Что, конечно, отнюдь не уничижение для художника; скорей, комплимент его неисчерпаемости.
«Это я, понимаете?! Зарубежные писатели писали о «потерянном поколении». А разве в нас не произошло потерь?» Так Вампилов роднил себя с Зиловым, опустошенным героем «Утиной охоты», но, полагаю, привязка характера к определенному поколению, к определенному отрезку времени, сама по себе неоспоримая в качестве справки о месте и годе рождения, сдается, ограничивает понимание самой сути Зилова. И главное, «зиловшины».
«Лишний человек», – стали говорить о Зилове. «Самый свободный во всей пьесе». Что ж, пожалуй, – ровно настолько, насколько излишня и свободна пустота.
Более чем понятно, почему Зилова начали воспринимать – а когда наступила пора помягчания к жесткой вам– пиловской драматургии, то и играть – сочувственно. Как того, кто «потерялся, разочаровался». Еще бы, если автор криком кричит: «Это я!…» А два литературоведа-соавторапошли много дальше: «Зилов – это победительный герой шестидесятых, которому нет места в тусклом безвременье «застоя». Мало того – то есть соавторам мало: «Зилова отличает мучительная тоска по идеалу, воплощенная в теме «утиная охота».
Так трактованы зиловские слова: «О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви…»
Но когда так выражается, верней, вырождается вера, может ли быть что-то пошлее?
В Зилове – не печоринщина, а передоновщина. Если его действительно можно счесть «героем нашего времени», то в той же мере, в какой таковым является – а является– таки – Передонов из «Мелкого беса», сам мелкий бес, патологически гадящий окружающим. Дела не меняет и то, что подобная особь тоже способна страдать.
В ситуации, в какой оказался Вампилов, – не скрою, с моей точки зрения, драматург, из всех коллег-современников единственно соразмерный Володину, – в ситуации почтения к дару, но и его же непонимания, жестокость изображаемой жизни воспринималась как жестокость жизни советской. Ее – по преимуществу, если не только ее. Что сперва закрывало дорогу на сцену, а когда на нее удавалось пробиться, низводило до уровня всего только социальной критики.
В сущности, так и с Володиным вышло. Ну, может, не столь очевидно, зато Володин, намного Вампилова переживший физически, успеет этот глубокий конфликт довы– явить впрямую. Даже декларативно.
Как сказано, истинно свой, володинский стиль он начал обретать на рубеже пятидесятых – шестидесятых. Когда в кино задавал тон советский неореализм – «Баллада о солдате», «Два Федора», «А если это любовь?»; в театре – «Современник» с его спектаклями, в большинстве своем «выглядящими как действительность» (любимовской «Таганки» пока нет и не предвидится). Но из всех пьес Володина только «Фабричная девчонка», принесшая ему и известность, и репутацию политически неблагонадежного, еще могла быть сопоставлена, предположим, с пьесами крепкого бытовика Розова.
Конечно, равнодушие к бытовизму, условность, пародия, даже гротеск (напоминающий вовсе не Чехова, по разряду последователей которого Володина числили, а, скорей, Сухово-Кобылина), все это станет вполне очевидным лишь в комедии «Назначение», где к месту окажутся двойники-бюрократы с зеркально схожими лицами и аукающимися фамилиями Куропеев – Муровеев. В точности как в сухово-кобылинском «Деле», где действуют Чибисов, Ибисов и пуще того – Герц, Шерц, Шмерц.
Дух игры, шутовства, балагана будет нарастать в антиутопии «Кастручча», наследующей Оруэллу и Замятину, в «Двух стрелах» и «Ящерице», пьесах из жизни – якобы – первобытного общества, но вот в чем штука! Велик ли разрыв между ними и – опять-таки якобы – исключительно жизнеподобными володинскими созданиями?
В «Ящерице» люди каменного (!) века могут изъясняться: «Я буду век ему верна» или поминать «тигров, львов, орлов и куропаток», этот плод модернистской фантазии Треплева. Условность утвердится и узаконится. «…Лучше бы ты оставалась там, у себя!…» – скажут первобытные дамы девушке из чужого племени на языке, как бы для нее непонятном. Та отпарирует: «Чтоб вас змеи покусали! Чтоб вас в жены никто не взял, лягушки худосочные…» После чего – авторская ремарка:
«Женщины тоже приветствовали ее, смеясь нежно– ломкими голосами».
Тоже!…
Здесь-то условность выступила на поверхность. Но цитированная перебранка, эта, в сущности, брехтовская оголенная метафора взаимонепонимания, несет в себе скорбную тему пьес, «неореалистических» лишь по видимости. Разве в «Старшей сестре» Надя Резаева и ее дядя Ухов не говорят на языках, разделяющих, а не соединяющих их? И, добавлю, точно так же, как в притчевой «Ящерице», здесь само это взаимонепонимание парадоксальнейшим образом скрывает от людей разных племен, разного миропонимания, сколь они – до враждебности или трагизма – несовместимы.
Так же слова и логика зубодера Чеснокова из сценария «Похождения зубного врача» (фильм по нему, поставленный Элемом Климовым, не избежал участи быть положенным на полку) непонятны даже близким людям, стремящимся понять. Да и в «Фабричной девчонке» комсомольский новояз уже был языком племени, чуждым героине и тем более автору.
Вольно было Володину в его «Оптимистических записках», в главе «Благодарность недругам», впрямь объявлять нападки благодеяниями:
«Начиная с первой, мои пьесы, чем дальше, тем больше, систематически ругали: в прессе и с трибун, в момент появления и много времени спустя, и даже до того, как кончена работа, впрок.
…«Фабричную девчонку» ругали за очернительство, критиканство и искажение действительности. Если бы ее не ругали, я наверняка вслед за ней написал бы еще одну «Фабричную девчонку» и еще одну. А как же? Она пользовалась успехом у зрителей, да и легче делать то, что ты уже умеешь. Вот так иногда закругляются и кончаются писатели…
Еще до того, как я закончил пьесу «Пять вечеров», возникла формула, что это – злобный лай из подворотни. Однако там не оказалось лая… Тогда формулу изменили: «Да это же маленькие, неустроенные люди, пессимизм, мелкотемье». Так и повелось: все, что я делаю, – мелкотемье и пессимизм.
По отношению к «Старшей сестре» обвинение пришлось опять перестраивать. В одной газете написали даже, что здесь я выступаю против таланта.
В… пьесе «Назначение» был оптимизм совершенно явный, это комедия. Ее ругали неразборчиво, но категорически, за все вообще».
Вот так. Недругам, своей руганью помогавшим меняться в поисках себя самого, – им благодарность. Пусть типично володинская, когда лукавство растворяется в простодушии, сообщая ему соблазнительную горчинку, – ни дать ни взять ложка горчицы в сладкой окрошке. Зато против доброжелателей, объясняющих, что и зачем ты обязан делать, дабы уберечь репутацию прогрессивного литератора, – бунт!
И это – снова Володин. Только и именно он.
Из экспериментального любопытства достал с полки книги, некогда им даренные, и рискую цитировать дарственные надписи. Итак: «Любимому Стасику». «Стасику – с неиссякающей надеждой на дружбу». Даже: «Стасик!
Каждой Вашей книгой я подолгу живу и на время становлюсь лучше»… Ох! Ко всему прочему – с какой это стати вдруг «Вашей»? Вспоминается Довлатов, описавший свой разговор с Бродским: «В заключение он сказал: «Кажется, мы 20 лет были на Вы?» Что х… Мы лет двадцать на ты. Что с гения возьмешь?»
Я Володина нежно любил. Он – верю – хорошо ко мне относился. Возможно, очень хорошо. Но дружбы, надеждой на которую он, видите ли, будто бы жил, дружбы в ее, по Светлову, круглосуточном понимании, у нас, разумеется, не было. Такиедрузья у меня были свои, у него – свои, иногда совпадавшие. Вот что, однако, предположу со всей осторожностью, но без опасения чересчур ошибиться: даже и для самых близких, которые по отношению к нему бестрепетно произносили слово «друг», он был неуловим, как сказочный Колобок. Хотел быть неуловимым, желая близости, но и опасаясь ее как формы зависимости.
Оттого: «Я ни с кем не воюю. Я воюю только с собой», – ощетинивается зубной врач Чесноков, чья профессия выбрана вроде бы с тем, чтоб не возникло прямой аналогии с художником слова Володиным. Хотя, с другой стороны, и это демонстративное целомудрие отдает тем же лукавством: чем дальше, тем ближе. К тому ж не уйти от сравнения со строчками эгоцентрика Пастернака, обращенными уж точно к себе, к поэту: «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой».
Между прочим, тут и двукратный повтор – от уперто– сти в глубь себя самого. Как бормотание под нос – для себя же, себе…
У Володина есть прелестный рассказ, как после демобилизации (провоевав рядовым, получив ранение) он решил поступить в Институт кинематографии – без амбиций, от неуверенности в себе: «Кино – это не очень искусство, не очень серьезно, попаду – хорошо, не попаду – не страшно.
Перед экзаменом по специальности я досыта наелся хлеба (какой-то поддельный, он был сладкий). Задание было – написать рассказ, однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит.
Преподаватель, который вел экзамен, обратился к поступающим:
– Что вы делаете, сразу пишете? Вот посмотрите на него. Он думает!
Думал же я о том, что меня тошнит.
Я успел написать около страницы, не подступив даже к началу задуманной фабулы. Пришлось отдать эту страничку и уйти.
Через несколько дней я пришел за документами. Девушки со старших курсов, которые там околачивались и были в курсе дел, рассказывали, что какой-то парень, солдат, написал потрясающий рассказ, всего одна страница, все в подтексте…»
Выглядит прологом к тому, как будет восприниматься володинское творчество: он всегда писал текст, а у него искали подтекст. И вписывали в контекст.
Один из наиболее чутких, нервных художников, Володин, страдавший оттого, что даже благожелателями воспринимается как-то не так (не смешно, что он мне как-то признался: первотолчок чесноковского бунта едва ли не против всех – его, володинское, раздражение на весьма и весьма почтенную критикессу либерального лагеря и благородного пафоса, взявшуюся выстроить его линию поведения), получил отвращение к понятию «воля». Не к той, что представляет собою несовершенный синоним «свободы», а к той, которая навязывает себя. Даже преследования его пьес со стороны «недругов», возглавлявшихся властью, отступали для него перед вопросами экзистенциальными, касающимися самой природы человеческого существования. Отчего неприязнь к носителям воли, искажающей первоначальный замысел бытия, у него тотальна. И внесоциальна.
«Волевые люди подавляли Бузыкина», – естественно, «Осенний марафон», где нестерпимы не только сосед-алкаш, но и безобидный иноземец, принуждающий героя – всего-то! – к ежеутреннему оздоровительному бегу:
«– Темп, Андрей, темп! – покрикивал через плечо профессор.
– Пошел к черту, – бормотал Бузыкин».
«Боюсь волевых людей», – скажет интеллигент, сыгранный в фильме «Дочки-матери» Смоктуновским, и, подумать, не кто-то при силе и власти, а девочка-детдомовка Ольга, сиротству которой Володин готов сострадать, окажется – по крайней мере в сценарии, а не в фильме Сергея Герасимова, как говорится, сместившем акценты, – страшноватой в неуклонной готовности вмешиваться в чужие судьбы.
Все тот же Чесноков вообще восстанет против воли друзей, по своему побуждению доброй, но – воли, как позже сам Володин порвет даже с профессией, даже с сословием, объявив в ярости и отчаянии:
«Сцена? Тошно, тошно! Потом стал тошен и экран».
Вмешательство в его работу и жизнь, самое невинное, в форме всего только журналистского любопытства, невыносимо:
– Над чем вы сейчас работаете?
Казалось бы, можно вежливо отмахнуться, ответив, наподобие Бродского и близко к своему собственному Чеснокову:
– Над собой.
Нет, «тошно, тошно!». И он отвечает:
– Ни над чем не работаю… Пью больше.
Это уже почти как у Мандельштама, в его гениально– бешеной «Четвертой прозе»: какой я, к черту, писатель? Пошли вон, дураки!…
Помнится, общий наш с Володиным друг, прекрасный прозаик Израиль Моисеевич Меттер, написал мне со скорбью: «Шура – пьет!» А я, читавший прозу «Шуры», вызывающе озаглавленную «Записки нетрезвого человека», глубокомысленно отвечал, что, дескать, да, оно вроде бы нехорошо, но вот что способно отчасти утешить. Если художник однажды выбрал свой путь, не ошибившись в выборе направления и ни разу не свернув в сторону, то – судя по тем же «Запискам…» – даже такое средство, как алкоголь, выходит, способно дать ему какие-то новые импульсы. Или не так?
Пьянство как возможность забыть о дурной реальности, что говорить, дело испытанное. Но обычно это побег в никуда, не только от скверной жизни, но и от творчества, от себя; тут же была попытка обрести свободу именно творческую. (Сказал бы – уникальная, если б не Веничка Ерофеев.) Обрести – надолго? Нет. Потому для Володинауже не было возврата в драматургию, в профессию, а Ерофеев, создатель двух несомненных шедевров, «Москва – Петушки» и «Вальпургиева ночь», в сущности, этим и ограничил себя. Слухи о прочих великих свершениях преувеличены либо вовсе недостоверны.
Сама володинская «нетрезвость» варьируется в «Записках…» то этак, то так. Например, прозвучит одой сомнительному кофейному ликеру, которым автор сперва гнушался («глицерин, отрава»); потом – по причине отсутствия в магазине другого напитка – попробовал и влюбился, даже предпочтя уединение с темно-коричневой бутылкой обществу своих знакомых; потом ликер бесследно исчез из продажи, с чем пришлось смириться (тем более «пить осталось так недолго»). Но устно Саша рассказывал мне, что в американском доме его математика-сына Володи во время наездов в США отца всегда ждет – с утра! – свидание с вожделенной влагой.







