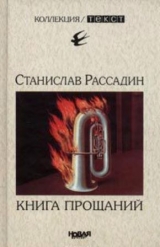
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Как-то я получил письмо от женщины из российской провинции: ее внимание привлекла моя статья именно об Эйдельмане, тогда уже покойном. Точнее, упоминание как раз о «Большом Жанно». Женщина – славная, притом интеллигентской профессии, и не совсем ее вина, что, объявив о своей принадлежности к клану потомков Пущина, она сообщила о предполагаемом предке фантастические подробности. Стало ясно, что она ничего о нем не читала, да и книгу, узнав о ней из моего текста, перекрестила в «Большое Жанно». Стало быть, не слыхала, что это лицейская кличка Ивана Ивановича, принадлежавшего, как-никак, к мужскому полу…
Насмешничаю? Ничуть, ибо – за что? Корреспондентка моя прямо писала, что ее семейство скрывало свою родословную: декабрист-то он декабрист, но – «страшно далеки они от народа», и не перетянет ли все его заслуги перед революцией первородный грех дворянства, класса охаянного и свергнутого?
(Уж там по делу или не по делу вспомню рассказ Бориса Слуцкого. Когда в 1963 году вышло посмертное издание «Исследований по истории опричнины» Степана Борисовича Веселовского, тогдашний бестселлер, дотошный Слуцкий отыскал в списке жертв кромешников Грозного предков двух коллег-литераторов. И немедля им позвонил. Один, Константин Симонов, полуоткрыто гордившийся, что по матери из князей Оболенских, отозвался вальяжно: «Да, там должны быть наши». Зато Лев Ошанин до смерти перепугался своей рассекреченной принадлежности к древнему роду: «Это не мы! Я к этому отношения не имею!»)
Для Эйдельмана была существенна его еврейская кровь, но вот уж чего он-не испытал – положения межеумка. Тем более не смирился бы с ним – пусть с оттенком драматического надрыва, придающим, как полагают, инте– ресности вашей особе. Как Грушницкому – бледность. Историк России, русский писатель, он сам отращивал свои корни – да у кого, скажите, из нас, независимо от национальности, есть иной выбор? Занявшись историей своей страны, хотя бы интересуясь ею, без чего невозможно считаться сознательной особью, мы невольно движемся к самым ее истокам, хотя бы и к тем же защитникам Кремля. Обретаем как раз ту самую близость, мысль о невозможности коей я и оспариваю, ибо – простите банальность – история неразрывно-едина, а проникновение в ее глубь, шажок за шажком, не может иметь предела.
«Невольно движемся», – я сказал. Натан Эйдельман двигался вольно, осознанно, всех нас к тому понуждая. А как же иначе? Он занимался Пушкиным и Карамзиным: первый из них сознавал себя лишь в контексте родной истории, второй написал «Историю» – так где ж тот непроходимый рубеж, что отделяет давнее прошлое от недавнего? Крону и ствол – от корней? Если считаешь родственно близким Пушкина, как отстранишься от Петра или Годунова? Если «История» Карамзина для тебя не рассказ о чужом экзотическом государстве, то времена Грозного или Святого Владимира – разве не те, в которых и ты живешь своей малой частицей?
(Эх, не дожил Натан до времен исторической перекройки, устроенной академиком-математиком! Послушал бы я его комментарий по поводу превращения историикак реальности в страну даже и не Гайдара, а «Королей и капусты»…)
Еще одна тривиальность: от того, в какую такую глубь протянулись отращиваемые тобою корни, впрямую зависит, насколько остро, опять-таки как свое собственное, переживаешь ты жизнь страны и народа. Их здесьи сейчас.
Еще – из эйдельмановских писем. Конец восьмидесятых. Уже вовсю идет перестройка.
Июль 1988-го:
«Хорошо вам в жару да в Малеевке, а плохо нам – в жару да на Москве-реке. А тут еще и Карабах. Так и слышу ваше: «Что же теперь произнесет карась-эйдельмась?»
А вот что:
1) Худо, опасно; боюсь кровопролития, грубых переби– вов, обличительных статей, где авторы (в «Известиях») утверждают, что Абр. призывал «отделяться» – значит преступник (забыли про «право отделения»).
2) Снова, как на XIX парт, конф., искал «скрытого смысла», который (как я убедился на многих примерах) – вдруг возникает между строк, между делом, между прочим.
3) Думаю – раз так хвалят азербайджанцев и перебивают армян – вроде бы за этим должна скрываться какая-то акция, которой в Баку не могут быть довольны, но «не заметят» или проглотят в обмен на престиж и похвалы.
4) Так и есть: ИКАО – остается в АзССР, просьбы армян о «президентском правлении» отклонены, но объявляется комиссия (видимо, постоянная или длительная) из Москвы, которая, очевидно, будет управлять Карабахом, «консультируясь с АзССР и АрмССР». Ага! значит, усиливается прямая власть Москвы, и армяне подключаются к ее контрольным действиям. Иначе говоря – реальное президентское правление, но без объявления оного!
5) Далее – либо армяне это в конце концов принимают как гарантию (это важное слово неск. раз повторено), либо внешняя несомненная оскорбительность для них всего действа берет верх – и начинается буча.
Никакого оптимизма, но, кажется, это в наших условиях – оптимальный вариант? не так?»
Ей-Богу, не знаю: так? Не так? Тем паче не в силах сегодня сообразить, кто таков «Абр.» и т. п., – да и не о них же, преходящих, речь.
Октябрь того же 88-го:
«Читал газетку эстонского Народного фронта, очень смелую, но притом разумную, с предложением русским – вступать, образовывать свою секцию; с рассказом, как в Нарве секретарь райкома пытается стравить русских и эстонцев etc. С непривычки все это страшновато, но непривычек у нас вряд ли меньше, чем привычек… Только здесь (в Пицунде. – Ст. Р.) почувствовал, насколько устал: сплю и купаюсь, сплю и купаюсь: ведь в последние недели окончательно сделал «Грибоедова», гнал и гнал «Раевского» (но еше много впереди), готовил «Катынскую» публикацию, сделал для «Юности» 6 листов из своей ленинградской книжки о фр. революции, бтделал для «Огонька» статью об Италии, да еще меня ихний отв. секретарь Глотов долго интервьюировал, да еще у Томки (дочь. – Ст. Р.) в школе и музее Герцена болтал, да еще занимался нашими бумажками в ин. комиссии по поводу предполагаемой 10 – 20/XII Пушк. конференции в ФРГ. В общем – расхвастался и жду вашенского списка, каковой, точно знаю, не меньше; жажду иронии, сплетен, осуждения моих ошибок, обычной непочтительности и обычного дружества».
1989-й, июль:
«Liebe Stasicuses!
(я теперь только на соответствующем языке!)
Позавчера прибыли из Мюнхена (до того – Кельн). В Кельне заседали в «гнезде» (понимай: согласно привычной терминологии, «антисоветском». – Ст. Р.): Авторха– нов, Зиновьев, Максимов, Восленский, Страда, Безансон, Горбаневская, Григорьянц, Эд. Кузнецов и еще ряд – не упомню. Представьте, все благопристойно. Была предложена резолюция, отредактированная Ваксбергом и др. – о положении в стране – насчет крым. татар, форм собственности, аппарата, гласности etc. Стреляный сказал, что у нас в Москве и не такое-то принимают. Зиновьев только не стал подписывать и произнес пламенную, художественно эффектную (дурацкую) речь – что ничего у нас не переменится, а западные страны, полагающие, что экономика развивается, не понимают Россию так же, как звери на водопое не способны постигнуть верблюда, которому давно бы полагалось в пустыне сдохнуть. Зиновьев сплотил оппонентов – и мы разъехались вполне корректно.
…Мы – через Кельн (где общались с Левой Копелевым и семьей Камила), представьте, что для доставки урны с прахом (покойного Камила Икрамова. – Ст. Р.) в СССР ее должны освидетельствовать, раскрыть в сов. посольстве – «нет ли бриллиантов?» Лева, впрочем, ничего, общался в Бонне с Горбачевым, который воскликнул: «Так Вы и есть тот самый Копелев!»
Затем – «по Баварии хмельной», 4 дня в Мюнхене. Город столь прелестен, ухожен, удобен, как и 50 лет назад; а попался бы я кому-нибудь на улице в 1939-м – эх-хе-хе – и в гестапо. Наша страна все же хоть позволяет понять, что были тут зверства и лагеря, а Германия – ну прямо не догадаешься!»
Вольно было мне пошучивать, переиначивая Достоевского: «Широк еврейский человек, хорошо бы сузить», – иначе он жить не умел. Потому что был – историк? Да. Но и человек, живший с надрывавшимся сердцем, а повода для надрыва искать не приходилось. «Знаешь, – сказал он моей жене в пору, когда метался между двумя семьями, – в Гульрипши я уплыву подальше от всех и плачу, плачу…»
…«Печальная новость, – записал 1 декабря 89-го года в своем дневнике Давид Самойлов, – в одночасье скончался Натан Эйдельман. Жалко его, больно. Опустело еще одно важное место.
Я знал его более четверти века. Высоко ценю «Лунина», написанного с блеском и талантом. Мы неизменно были дружественны и уважительны друг к другу. Встречались редко. Но всегда было ощущение, что где-то есть Эйдельман, энергичный аккумулятор и генератор идей, столь важных для нашего общества».
А всего две недели спустя: «Известие о смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Тоска, тоска».
В феврале следующего года умрет сам Давид, для Эйдельмана и для меня, как для многих, Дезик.
Когда я читал эти его дневниковые записи, то вспомнил, что оба раза, при известии о смерти сперва Сахарова, потом Самойлова, в голову сразу же приходило: как хорошо, что об этом не узнает Натан!
(Как не узнал он и о крушении многих своих – и наших – надежд, связанных с перестройкой.)
Когда-то я упрекнул его (у кого половина Москвы ходила в друзьях, по крайней мере, считала другом его): ты же не отличаешь настоящих друзей от, по театральному выражаясь, сыров. Он обиделся, на следующий день позвонил, сказав: долго думал над моими словами и решил, что я не прав. Отличает, и даже очень. Но так ли? Полагаю, все-таки – нет, во всяком случае, не вполне, но вот что меня осенило в самый день его похорон, на поминках, и я тогда впервые об этом сказал за столиком в ЦДЛ, где сидели рядом – Миша Козаков, Володя Рецептер, Фазиль Искандер.
Дескать, все мы в той или иной степени одарены способностью к дружбе, кто меньше, кто больше. Натан был гением дружбы, а любому гению иллюзии и самообманы свойственны в большей степени, чем обыкновенному смертному, чья жалкая добродетель – необманывающая– ся трезвость. И гений в своих иллюзиях более прав, чем мы. Уж на что доверчивы были – Пушкин, наделив этим своим свойством даже ревнивца Отелло, Пастернак, Мандельштам, однако последний из них говорит: «Поэзия есть сознание своей правоты», и сами его иллюзии возведены в ранг провидчества. Про… -то есть видения не только впрямую, но сквозь, над, под…
В тот день, когда раздался звонок нашего общего друга Юлия Крелина: «Стасик, Тоник умер…» (и: «Ты что? С ума сошел?» – грубо заорал я на ни в чем не повинного Юлика), «Литгазетой» мне был заказан некролог, который я и писал, рыдая. Его, однако, не напечатали, сказали: длинен (не по литературному чину Натана?). Перечитавши сейчас написанное тогда, вижу, что до сих пор не умею свою нынешнюю тоску по другу выразить точнее:
«Когда человек умирает, изменяются его портреты» (зацитированная Ахматова). И слова, казавшиеся при жизни не слишком серьезными, кажутся или оказываются пророчествами. Одна из последних фраз, которую Натан сказал жене, когда его везли на «скорой», была: «Вот видишь, я же всегда говорил, что умру в пятьдесят девять». Да, говорил. И объяснял: не он сам, а его герои, люди, о которых он писал, не потому, что выбирал их (наоборот, они выбирали его), подсказывают ему его судьбу. Александр Герцен, Иван Пущин, Михаил Лунин, Николай Карамзин умерли в этом возрасте или около того. Но кто из нас думал, что это окажется правдой? Вообще – пока ваш друг рядом с вами, пока вы, по общей дурацкой привычке отделываясь взаимными шуточками, старательно скрываете, до какой степени любите, уважаете его, преклоняетесь перед ним, способны ли вы загодя вообразить, как обездолит, опустошит вас его смерть, сделав одинокими на миру?
А Натан даже мешал этому сознанию. Мешал тем, что был легким, – не потому, что была легка его жизнь, напротив, потому, что умел легко нести и выносить доставшиеся ему тягости, несправедливости, оскорбления. Вернее, умел казаться легким…
Придет время, которое не надо торопить, и мы поймем, что сделал Натан Эйдельман для русской культуры. Мы найдем слова, которые точно обозначат его место в ней. Впрочем, главное даже не в степени или ступени. «Я наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой», – говорит неглупый персонаж российского гения, изучению которого Эйдельман отдал, по сути, всю свою жизнь; у него, у Сальери, хватает ума понять: искусство безгранично, но не хватает мудрости, дабы осознать: коли так, высота степени – дело десятое. Эйдельман сумел добиться того, что выше всяких честолюбий: он стал необходимым звеном нашей культуры. Представить себе, что его могло не быть, невозможно.
Я сейчас думаю о многих, которых его смерть ударит, осиротит, и, зная, что никого не обижу, говорю им: умер лучший из нас. Самый добрый. Самый совестливый. Наверное, и самый талантливый. Мы можем сколько угодно утешать себя тем, что остались книги; можем, наоборот, терзаться сознанием, что восхитительные его замыслы не будут реализованы. То и другое справедливо. И совершенно несправедливо то, что все это кажется второстепенным по сравнению с тем, что больше не будет удивительно яркого во всех своих проявлениях, шумного, живого Натана. Но горе не располагает к рассудительной взвешенности.
Мне жаль всех нас, друзей и читателей Эйдельмана; мне эгоистически жаль себя самого. Нам придется привыкнуть к мысли, что его нет. И это ужасно».
Привыкли? Мне – не удалось…
ФАЗИЛЬ, ИЛИ ОПТИМИЗМ
Сижу за машинкой в переделкинском Доме творчества, а в дверь моей комнаты раздается стук и ложно-классический (как гениально точно заметил Л. Пантелеев) голос выпевает:
Где мой Рассадин? Гулять, гулять!
И я покорно иду под осенний дождик гулять – подумать только – с Корнеем Ивановичем Чуковским.
В один из тех дней он попросил привести к нему для знакомства Фазиля Искандера, и вот, пока наши жены налегли на огромнейшую коробку, почти корыто невиданных печений – кажется, когда-то это называлось «птифур», – Фазиль… Но о том, как.он управлялся с коллекционным коньяком, я уже рассказывал.
Тогда же К. И. попросил нас обоих что-нибудь написать для «Чукоккалы», и мой дилетантский стишок даже попал в печатное издание прославленного альманаха:
Корней Иваныч! Не жестоко ли|
Мне место предлагать в «Чукоккале»?
В реестре, славой громыхающем,
Мне быть печальным замыкающим?
Трястись обозною телегою?
Нестроевым полукалекою?…
Убитый Вашею насмешкою,
Я все ж, как видите, не мешкаю
И соглашаюсь тем не менее
Стоять внизу кривой падения.
Пусть грех лежит у Вас на совести:
Я стану точкой в этой повести,
Чтоб было зрелище страшней –
«От Чехова до наших дней».
Меня Чуковский одобрил сдержанно, сказав что-то хвалебное всего лишь насчет сплошных дактилических рифм, которыми в «Чукоккале» прежде отличился разве Вячеслав Иванов; стихами Фазиля бурно восхитился, и, уж надо полагать, не потому лишь, что тот напрямую воспел хозяина («Так славься, дедушка Корней… связист, свидетель, человек… тянул свой телефонный провод…» – мне запомнились строчки, самим Искандером, как оказалось, забытые напрочь). А в издание «Чукоккалы» 1979 года они попасть не могли, ибо кроме одических интонаций там были и саркастические: «Наш огород литературный, такой торжественный, бравурный, растет под чучелом орла…» (Кличка аж самого Федина.)
Так вот. Четко вижу тогдашнего Искандера – как он сидел, слушал, круглил глаза с той своей характерной и как бы даже преувеличенной экспрессией, когда не поймешь, чему именно он поражается. Самому по себе услышанному? Или тому, какую работу затевает это услышанное в неразличимой глубинке его воображения? А мы с Корнеем Ивановичем наперебой вспоминали то, о чем вспоминать в ту пору не рекомендовалось.
Со мной-то было обыкновенно. 1957 год. Я – студент четвертого курса, замешанный в «дело о неблагонадежности», по более отчаянным временам, которым тогда еще не пришел черед, и тем паче по нынешним кажущееся несерьезным. Просто – с группой друзей, из которых ныне известны Наталья Горбаневская и Валентин Непомнящий, мы создали на филфаке литературное объединение, не испросив на то санкции со стороны партбюро. Вдобавок стали издавать стенгазету, озаглавленную скромно – «Литературный бюллетень», в отличие от факультетской «Комсомолии», бесцензурную; там и публиковали то, что хотелось.
Хотелось, надо признаться, не так уж много, хотя хватало того, что Валя Непомнящий, написавший задорную статью о том, что-де с молодежью надо считаться, был обвинен в троцкизме (как же: «молодежь – барометр партии»), а я, бесхитростно переводя Гейне, каковой выбирал, не выбрав, куда бы ему бежать («Вот Россия, та была б для меня, пожалуй, сносной, но боюсь, что не стерплю я кнута зимой морозной»), обвинялся… Ну, сегодня это назвали бы русофобией.
В общем, я, редактор, каждый вечер, свернув бюллетень в трубку, разумно уносил его домой – иначе, конечно, он бы исчез, – и, пуще того, на факультет явилась комиссия, назначенная Московским комитетом КПСС и взявшаяся за нас. Непосредственно – за меня.
Теперь понимаю, что я отделался весьма и весьма легко. Ну, скажем, исключалась сама надежда на аспирантуру, каким бы я там именным стипендиатом ни был; возникли – и долго еще возникали – некоторые замечаемыемною последствия. Но на других факультетах за меньшие идеологические провинности, случалось, изгоняли с волчьим билетом, нас же выручило родное партбюро, может быть попросту не желавшее во вред своей репутации раздувать это дело. За что партсекретарь, профессор Василий Иванович Кулешов, сам схлопотал взыскание от МК.
Вот как раз в это время меня и пригласили, «куда полагается». Предложили сотрудничать, намекнув, что распределение не за горами. Сулили аспирантуру: «Поможем». Логика была очевидна: парень вроде бы ничего, «наш» парень, русский, и биография в порядке – погибший отец– фронтовик, мать была на партийной работе, на целину – среди первых, и т. д., и т. п. Ну, оступился – с кем не бывает, тем более, значит, захочет исправиться…
Я часа два валял, вернее, изображал дурака:
– Что вы?… Зачем?… Наше советское студенчество…
– А что написано в мужском туалете третьего этажа? «Руки прочь от Венгрии!»
– К надписи в туалете надо, наверное, относиться как к надписи в туалете.
Пока, устав, не разозлился и не нагрубил, встретив оторопь и ярость:
– Вы что же, считаете нашу работу грязной?
– Ничего я не считаю, просто не хочу – и все!
– Ну, Станислав, мы-то думали… Такая анкета… А в вас, оказывается, есть, есть эта интеллигентская гнильца…
Но – отпустили, почему-то не взяв подписку о неразглашении, зато всучив бумажку с номером телефона, каковую я, выйдя, тут же порвал.
Прошу запомнить эту деталь – не ради же собственной биографии повествую. (Впрочем, для закругЛенья сюжета добавлю: когда я закончил университет, наш декан Роман Михайлович Самарин – как в ту пору всего лишь предполагалось, а после стало общеизвестным, фигура гнуснейшая – вдруг озаботился моим будущим. При том, что относился ко мне явственно плохо. Сперва-то распорядился услать при распределении подальше, поглуше: «Рассадин популярен на факультете, за ним последуют многие» (прямо уж!); когда же не вышло – у меня на руках была одинокая и больная бабка, – вызвал к себе и предложил работу опять-таки в КГБ, на сей раз не стукачом, а литературным редактором… Интересно, что бы я там редактировал? Даже соблазнял немедленной установкой телефона – те, кто тогда жил, знают, каким это было благом.)
С Чуковским вышло смешнее. Знаменитого старика тоже пригласили – в отличие от меня, непосредственно на Лубянку, – причем ни свет ни заря: знали, что он ранняя пташка. Были обходительны: мы, мол, и не ждем от вас, дорогой Корней Иванович, непосильного; у нас хватает ваших коллег, которые сообщают про собратьев гадости, а нам нужна информация объективная. Вот вы и можете доносить только хорошее…
Но тут, наконец, слово Искандеру: «…Я не умею скрывать своих мыслей, к тому же я слишком болтлив», – цитирую его рассказ шестидесятых годов «Летним днем», где персонажа (не советского человека, а немца) тоже вербуют (не в КГБ, а в гестапо) и он им выкладывает точь-в-точь аргумент, которым отбился от отечественных вербовщиков хитроумный Чуковский:
– Я им сказал: «Знаете, я ужасно болтлив – вот и сейчас, едва выйду от вас, не удержусь и непременно всем разболтаю…» И они молча подписали пропуск на выход.
Что до моей скромной персоны, то и ее приключение краешком угодило в искандеровскую прозу – однако претерпев превращение, о коем, собственно, и речь:
«…Я изорвал бумажку с телефоном и выбросил в урну. Правда, почему-то я все же постарался запомнить номер телефона».
«Почему-то…» Тоже, бином Ньютона! Но каков друг? Да, смешно сказать, а я, прочитав, оказался не умней иных прототипов: был хоть капельку, но задет, что вот, дескать, как мог быть воспринят мой простодушный рассказ! Да, впрочем, что ж тут смешного? Не угадал ли здесь Искандер то, что именно он и должен был угадать: ужас нашей – и моей – ситуации? Ведь сам наш порыв к свободе всегда был и долго будет отравлен постоянной памятью о том, что мешает и не дает быть свободными. Само наше освобождение – процесс преодоления того и сего, оно цепь тягостных усилий, оно нерадостно и натужно, то бишь на истинную свободу, незаметную, как незаметно дыхание – пока есть чем дышать,пока дышится, – не похоже. «И вся-то наша жизёнь есть борьба».
Это – в нехудшем случае. Худший – и самый распространенный – был как раз определен Искандером в разгар перестройки. К нам, сказал он, больным несвободой, свобода пришла, как главврач в тюремную больницу. Вошел и объявил: все, теперь вы свободны. А дальше?…
В этом смысле сам Фазиль Искандер – одно из редчайших исключений; по крайней мере, я лично не знаю писателя, столь же внутренне независимого. Не то чтоб геройски сражавшегося со своим внутренним редактором, но попросту с ним незнакомого. Это не свобода от того-то и оттого-то, полемично-задиристая, значит, урезанная самой по себе полемической задачей. Это просто свобода. И если какое слово Искандеру в особенности не подходит, так это титул, считавшийся донельзя почетным: писатель– борец.
Это не значит, будто Искандер не участвовал в акциях разного рода и различной степени рискованности, – наоборот, участвовал и вел себя безукоризненно мужественно, ни разу не унизившись до фальшивого покаяния, стойко выдерживая годы – годы! – опалы и непечатания. Но вот тактиком, без чего нет борца и политика, Искандер всегда был никаким, включая период его депутатства, о котором сам не может вспомнить без ужаса. Да и раньше…
Когда случился разгром журнала Твардовского «Новый мир», Искандер – замечу, в те дни вовсе не такой знаменитый, как нынче, – отправил Косыгину телеграмму, которую начал так: «Я взбешен…» Каков? Он, понимаете ли, взбешен, о чем и считает необходимым известить Председателя Совета Министров.
Тогда его уговорили сменить в телеграмме зачин, объяснив, что хмурый премьер может в свою очередь взбелениться и уж в этом случае на помощь журналу рассчитывать тем более не придется. Но Искандером, и только им, он был как раз в той наивной формулировке, и сама его внутренняя свобода сказалась не в смелости, а… В чем?
В благорасположенности.Потому что он словно бы допустил возможность, что один из главнейших советскихчиновников среагирует на его возмущенный человеческий вопль соответственно по-человечески.
В «Сандро из Чегема» – уверен, одном из лучших романов российского XX века – есть даже, кажется, перехлест этого оптимизма.
«Гапринди шаво мерцхало… Лети, черная ласточка, лети…» – поют на «пиру Валтасара» песню, какую, говорят, в самом деле любил Сталин, и она, фантазирует Искандер, сказочным образом освобождает душу бывшего Coco Джугашвили:
«Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом…Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.
…Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор…
– Слушай, кто этот человек? – говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.
– Это тот самый Джугашвили, – радостно говорит хозяин.
– Неужели тот самый? – удивляется гость из Кахетии. – Я думаю, вроде похож, но не может быть…
– Да, – подтверждает хозяин, – тот самый Джугашвили, который не захотел стать властелином России под именем Сталина».
И объясняет, отчего не захотел: «…Крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина…
– Дай Бог ему здоровья! – восклицает всадник. – Но откуда он знает, что будет с крестьянами?
– Такой человек, все предвидит, – говорит хозяин.
– Дай Бог ему здоровья, – цокает гость из Кахетии… – Дай Бог…»
Знаменитый искандеровский юмор. Его парадоксы, которые, впрочем, вовсе и не парадоксы, не вывернутые наизнанку общие места, а гримасы жизни и человеческого сознания, словно бы лишь подсмотренные писателем. Наконец, его же сарказм, опирающийся на горький наш опыт, – черта с два оноткажется от такой перспективы.
(В экранизации «Пиров Валтасара», мягко говоря, неравноценной своей основе, есть, однако, недурная придумка: огромный Алексей Петренко, играющий Сталина, восседает на арбе, держа в руках козленка, но будучи облаченным в привычный «сталинский» полувоенный костюм, эту униформу всего его окружения, вождей всех рангов.) И среди стихии юмора и сарказма – сугубая подлинность неспешной крестьянской беседы, пленительного для автора образа жизни; островок гармонии, не искаженной даже уродливым самосознанием свирепого персонажа.
Мало того.
– Тут, пожалуй, есть привкус жалости, – предположил Искандер, когда мы с ним говорили именно об этом эпизоде «Сандро» (а я записал беседу по горячим следам).
– К Сталину?!
– К человеку, который убил в себе душу. Некоторые говорили мне об этой сцене: вот какой сатирический образ!… А я подсознательно ощущал жалость к погибшей душе.
– И потому вроде бы вдунул в него свою собственную?
– Наверное… Во всяком случае, тут у меня, у наблюдателя, был подсознательный ужас. Ощущение, что отсутствие души неминуемо карается страшным наказанием. Не религиозный ужас, но что-то такое было…
– А может, не только жалость и ужас, но и любовь? Я вот в каком смысле. Немирович-Данченко, когда пытался доказать Горькому, почему ему не удались «Дачники», писал: автор не любит своих персонажей! А вот Гоголь, не любя прототипов своего городничего, им самим – как художественным созданием – любовался… У тебя – тоже так?
– Безусловно! Вообще, я давно уже думаю, что в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности. Или, верней, доморальности. Он всегда испытывает приступ нежности, когда встречает в жизни свою натуру. И эта некоторая доморальность в том, что писателю все равно, какое это своеобразие – низкое или высокое. А нравственное чувство заключается в том, что писатель со всей доступной ему точностью передает истинные черты этойнатуры. Истинные – то есть не старается выдать низкое за высокое или наоборот…
– Но тут все-таки случай особый. Сталин ведь, к сожалению, не плод фантазии писателя Искандера.
– Все равно. Вот я слушал актера Сашу Филиппенко – как он читает «Мертвые души», кусок с Ноздревым. Это замечательно! И я подумал, как я был прав в том, что весь космос – внутри человека. Надо разматывать этот космос, и силен тот художник, который правильно поймет задачу и сосредоточится на ней. Там, внутри, все есть – сумей только присмотреться и увидеть. Понимаешь, у Гоголя в той же сцене с Ноздревым возникает – на высочайшем уровне – эффект фокусника, который вытягивает изо рта бесконечную ленту. Нам кажется: все, что можно сказать, уже сказано, а он – еще, еще, еще… Гений Гоголя – в чудовищно пристальном интересе к душе человека, когда радость узнавания этой души как бы превосходит ее нравственную оценку. Вообще, я бы сказал так. Мне кажется, есть некий закон искусства, который, наверное, действует во всех искусствах, но в литературе – точно. Говорят, что художник отличается от фотографа тем, что фотограф фиксирует состояние человека в данный момент, а художник видит и прошлое и будущее. Но это не главное их различие. Главное – то, что художник вкладывает в картину субъективную творческую энергию, которая всегда превосходит энергию сюжета. И степень таланта художника есть степень превосходства его творческой энергии над энергией сюжета…
(Замечание в скобках: формула, по-моему, блистательная!)
– …Например, – продолжал Фазиль, – художник изображает бессилие человека. Сильный художник изобразит его с такой мощью, что, с одной стороны, мы художественно воспринимаем состояние бессилия, но, с другой стороны, эта энергия нас укрепляет…
– Как в «Скучной истории» Чехова.
– Или у Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» – какое ощущение мировой пустоты. Или – весь поздний Мандельштам. Он сам погибает и предчувствует это, его мир распадается, но его энергия нас укрепляет. Помогает нам жить…
Пока – прервемся.
Экспериментально спрошу – на сей раз себя самого (как, разумеется, экспериментальна в некотором роде и наша беседа: задавая вопросы, я мог предвидеть характер ответов, на них-то и провоцируя моего друга, – то не был обычный застольный треп, запись делалась «для других», для публикации). Итак: не слишком ли получается благостно?
С этой страны, как ковер со стены, содрали этический слой
Дворянства! И великий народ стал великой туфтой.
Грустно. И ни черта не понять, чтб там мозгует режим:
Северным рекам шеи свернуть или отнять Гольфстрим!
В галстуках новая татарва. – Впору сказать: «Салям!»
Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам.
Что, и это – тоже «помогает жить»?
Не то чтобы с гор или с неба упал и отряхнул штаны,
Я генетически не совпадал с рефлексами этой страны!
Мимика, жесты, мигающий глаз, пальцев хозяйский знак.
Я понимать не желаю язык сторожевых собак!
При такой-то явственно киплингианской закваске, которая сама по себе уже предполагает цельнометаллическую мужественность безо всяких там комплексов, – и вдруг отчаяние, раздраженность, нервность! Словно интеллигентский тик на медном лице.солдата. Тем не менее…
Если сам наш XX век – век разломов и катастроф, то в литературе он – век антиутопий. Того мрачнейшего рода словесности, который изображает, а по сути – сулит человеку и человечеству наихудшую из перспектив. Безысходную деградацию. Напряжем свою память: «Мы», роман Евгения Замятина… Платоновский «Чевенгур»… «Роковые яйца» Булгакова… Из «ихних»: «Машина времени» Уэллса, «Война с саламандрами» Чапека, «1984» Оруэлла, далее – бессчетно.







