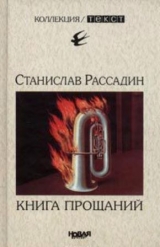
Текст книги "Книга прощаний"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Сожалеть, что в нашем прошедшем столетии – впрочем, не стоит обольщаться, мы продолжаем в нем жить, ибо конец века никогда не совпадает с двумя нулями хронологического рубежа, – словом, сожалеть, что пессимизм увлекал лучших художников, поздно и глупо. Все равно что уподобиться идиоту Панглосу из вольтеровской повести «Кандид, или Оптимизм». «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Не к наихудшему ли – и в наихудшем?
И вот наш Фазиль Искандер – в этом отношении не вижу ему подобия во всей современной литературе, включая мировую, – в век антиутопий создает целых две Утопии. Имею в виду книгу о мальчике Чике и роман о лукавце Сандро; гармонию детства и гармонию народной, крестьянской жизни.
Скажете: та и другая гармония – из невозвратного прошлого? Увы, да, ибо детство хоть и возобновляется в иных поколениях, но уже по-другому, не так, а о своем собственном остается лишь ностальгически вспоминать; о патриархальном мире абхазского Чегема и говорить нечего. Даже то, что Искандер от щедрой души впустил на единый миг в свою радостную Утопию «самого неулыбчивого человека» (определение, данное им Сталину и, с его точки зрения, убийственное), который так много сил положил на то, чтоб Утопия стала Атлантидой после потопа, – даже или именно это, при всем сказанном мною прежде, есть приговор ей. Приговор, чья реальность подтверждена присутствием палача.
Но!…
Вернемся, однако, к оборванной нашей беседе; жаль бросить ее на полуслове.
– Давно хотел, Фазиль, у тебя спросить и спрошу нарочито грубо. У тебя никогда не было «комплекса чучмека»?… Поясню, откуда эта грубость, как догадываешься, не моя. У меня когда-то давно был разговор с покойным Ви– лем Липатовым, и он рассказал: был, говорит, в ЦК, беседовал там с одним: «Вот такой парень, наш парень!» – и тот ему сказал про «Белый пароход» Айтматова. Вернее, про трагический финал. «Ну, говорит, Вилька, если б ты нашего русского мальчика утопил, мы б тебе показали. А киргизский – да… с ним!» Вот такая дружба народов. Но ведь если бы твой «Козлотур» был не про Абхазию, а про наше Нечерноземье, вряд ли его судьба оказалась бы такой счастливой.
– Ты, когда прочитал рукопись, так тогда и сказал: прекрасная вещь, но – не напечатают.
– Правда? А я этого уже не помню. Короче: был у тебя такой комплекс или нет?
– Нет. Никогда. Социально, конечно, я испытывал нечто вроде неполноценности: отец выслан, два дяди репрессированы… Но национально – нет.
– Так я и знал! Ты слишком полноценное существо, чтобы испытывать что-то подобное.
– Нет, и у меня был провинциальный комплекс, чисто технический. Подняться в лифте… Разговаривать по телефону – тем более, как это принято в Москве, часами… С этим действительно были затруднения. В Сухуми у нас просто не было телефона.
– А сегодня? Я что-то не обращал внимания – у тебя, скажем, есть видео?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, видео… Видеомагнитофон. Приставка такая к телевизору, чтобы фильмы смотреть.
– А… Есть. Но это Сандрик смотрит. А я не очень знаю, как с самим телевизором управляться.
– Ладно. Комплексов у тебя, можно сказать, не было. Наоборот, судя по твоим ранним рассказам, ты к нам, коренным москвичам, относился довольно иронически.
– Это, наверное, было. Как ни странно, но почему– то – может, потому, что я рано начал читать Толстого, – у меня было ироническое отношение к цивилизации. И к большому городу как к ее части. Огромные толпы на улицах, в метро внушали какую-то тоску. Я сильно ощущал одиночество в толпе – то, чего на природе не испытывал. Впрочем, отношение к толпе и сегодня не изменилось.
– Догадываюсь – и, между прочим, поэтому был потрясен, узнав, что ты, хотя бы и на волне перестройки, согласился стать депутатом. Жалел, что меня в Москве не было, а то бы я тебе аж в ноги кинулся: «Фазиль, ради Бога, не надо!…»
– Да, это было ужасно! Внушало ужас само присутствие там. Я не пропускал заседаний, но ни разу не выступил. Вообще все говорили: как только меня покажут по телевидению, я сплю. Это было близко к истине… Правда, когда мне предложили стать депутатом, я отказался, но земляки начали напирать на мои патриотические чувства. А я не скрывал от них, что я против отделения Абхазии от
Грузии, что надо сосредоточить свои силы на решении экономических задач внутри нашей автономной республики, развивать демократию и больше ничего не менять. Я напоминал, как болезненно этот вопрос воспринимается даже в Европе: баски в Испании, ирландцы в Англии… Сказать все это было очень непросто, но я был уверен, что другого пути нет, что всякий друтой путь – в кровавый тупик… Как и вышло. Впрочем, ни один народ никогда не прислушивается к мнению своих писателей.
– Но как его за это винить? Ты же сам в первых главах «Сандро» больше шутил насчет эндурства, а потом спохватился и стал объяснять, что эндурцы – это мистика национального предрассудка и тому подобное.
– Да! Я даже испугался. Эндурцы, кенгурцы – это ведь из моей детской игры. Я еще в детском саду придумал два племени, Эндурию и Кенгурию, рисовал их карты, изображал сражения между ними…
– Вроде Швамбрании.
– …И мой любимый дядя, который погиб потом в Магадане, хохотал над рисунками. И вдруг мой немецкий переводчик, прочитав «Сандро», спрашивает меня: «Эндурцы – это евреи?» А один мой родственник из Очам– чири говорит: «Знаю, кого ты имел в виду – грузин». Вот тут мне стало страшно. Детская игра – и вдруг отзывается в кровавом кошмаре. Как будто реализуются гоголевские ужасы… Я все думаю: почему именно двадцатый век, век таких грандиозных успехов в науке, стал и веком страшного национализма? И понял: потому же, почему он стал веком тоталитарных режимов. В ходе цивилизации на политическую арену вышло множество полуграмотных людей. И в двадцатом веке их количество перешло в качество. Масса людей, которые потеряли основы тысячелетней народной этики и не усвоили общекультурную этику, почувствовала возможность как-то влиять на политику. А если повезет, то и выскочить в правящую элиту. Мне кажется, люди, когда-то говорившие о вреде всеобщего образования, были не так уж глупы, хотя выглядели реакционерами.
– Мне это тоже приходило в голову. Помню, как сперва удивился, что нечто подобное писал Владимир Иванович Даль. А адмирал Шишков был даже против перевода
Библии на живой русский язык. Боялся, что она будет валяться под лавками в избах…
– Нет, с этим я не согласен. Поэтическая сила Библии так велика, что даже не слишком хороший нынешний перевод не мешает ей влиять на сознание людей. Но, в общем, по крайней мере лучшие из тех, кого называли реакционерами, были озабочены не своими эгоистическими интересами, а пониманием опасного межеумочного положения людей. А в наше время пропаганда вообще и пропаганда прогресса в частности порождают в человеке чувство дурного историзма. Чувство быстро меняющегося мира. Отсюда неустойчивость, взвинченность, азарт. Поспеть! Поспеть! Поспеть!… Не поспеешь к историзму, так поспеешь к погрому! И вот у нас этот бег на месте в течение семидесяти лет породил в людях чувство обделенности. Чувство украденной судьбы. А кто украл? Утешительнее думать, что кто-то конкретно, какие-то злонамеренные люди, живущие между нами…
– Эндурцы!
– Вот они-то, мол, мутят нашу жизнь. И надо во что бы то ни стало их выделить, но по какому признаку? Нация! Вот признак, по которому не ошибешься!
…Когда-то на одном вечере Искандера спросили, почему он, воспевая родной Чегем, живет все же в Москве, – не больно-то умный и совсем не корректный вопрос, от которого не грех отшутиться. Чтобы не огрызнуться. Фазиль, однако, наморщив лоб, стал отвечать со всей добросовестностью, а закончил мрачно. В Чегеме, сказал он, сейчас почти никого уже не осталось.
В романе о том же сказано, пожалуй, еще безнадежнее, даром что каламбурно: «Моя голова – последний бастион защиты от цивилизации… В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей во все щели нечисти…»
Сказано – и тем более писано – было еще до грузино– абхазской войны.
Когда в Абхазии начала литься кровь, я, помнится, сказал Искандеру:
– Прости мне мой черный юмор, но теперь тебе есть чем кончить роман: дядя Сандро убит на улице Мухуса эн– дурской пулей.
Для забывчивых: Мухус – в искандеровской прозе псевдоним Сухума.
Но Фазиль моей невеселой шутки не принял:
– Нет. Сандро умереть не может.
Конечно, не может. Как Швейк. Как Теркин. Как все те – и все то, – в неразрушимость чего стоит верить.
ПОРАЖЕННЫЙ
«…Пишу тебе в деревне, утром, под тихое урчание холодильника, довольного, очевидно, тем, что пополнился мясом и пр. Прекрасная штука – одиночество. То, которое ты волен прекратить. Это все тот же ключ в дверях: все определяется, с какой он стороны, с твоей или нет. Если с твоей, то можно жить и в Петропавловской крепости.
Кстати сказать, там и вправду были квартиры, жилье; последние жильцы удалились, кажется, во время блокады. Нет, позже. Был там у меня свойственник, что ли. Переночуешь и чувствуешь, как у тебя ноют и пухнут суставы. А Трубецкой бастион был пуст: окна выбиты, ветер свистел и гонял сор…»
Полагаю, что являюсь владельцем сокровища – нескольких десятков писем от Юрия Владимировича Давыдова, моего нежного друга Юры. Мы ведь обитали еще в эпистолярной эпохе, зуд переписки атадел не только нами, и не зря Давыдов писал мне: «…Пока ты живешь в Москве, я могу даже и неделями тебя не видеть, в телефон не слышать, а стоит тебе уехать, как меня не только тянет «на общение», нет, я тотчас ощущаю образование какой-то зияющей пустоты… Отчего так, а?»
Вот и строю эту главу на его письмах – тем более какова проза! Даром что назначалась одному-единственному читателю.
Итак, продолжим, по возможности не прерывая:
«…По ходу дела в моих «Тучах» (окончательное название – «Соломенная сторожка». – Ст. Р.) будет эпизод: генерал-губернатор Восточной Сибири, ревизуя летом 1870 года вверенный ему край, посещает Нерчинскую округу. Как мне пофартило прошлой осенью! Теперь, сейчас вспоминаю не прелесть даурских березок, очень изящныхи, по-моему, белоснежнее наших, ну прямо как творожок, и не сопки вспоминаю и не третье-четвертое, а тишину. Я такой нигде никогда не слыхивал. Ни в вятских лесах, ни на Сахалине, ни на Кольском полуострове. В Забайкалье это не просто отсутствие шума, это не нечто из шелеста листвы или звона речки, а это что-то огромное и, главное, как бы существующее совершенно самостоятельно, как вот самостоятельно существует эта или та сопка. Какая-то ТИШИНИЩА!
Я твою реакцию на «Тучи» предполагал. И то, что бесов учуял, это правильно. Смешно было бы говорить о моейполемике с Ф. М. (Когда Аким Львович Волынский сделал что-то в этом роде, Виктор Петрович Буренин, талантливый нововременец, выразился так: Достоевский и Волынский?! Ну это ж пирамида, у изножья которой – головка чесноку. Чеснок, разумеется, не без намека, но все равно точно и здорово.) Тут дело, конечно, не в полемике. Ф. М. провидел: будучи в «начале», он провидел «концы», но притом плохо и односторонне видел начало. Мне ж надо потщиться видеть вместе и то, и другое. Отсюда – эти тучи, мчащиеся и вьющиеся, в клубах, просветах, мгле и проч. Я тебе однажды признавался, что вся эта хреновина возникла поначалу мотивом, мелодией: «Ой, ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу…» Вот так и сейчас.
Сбегал в лавочку…»
Ну наконец-то!
«…И продолжаю.
Как заведено в сельских местностях, лавочница открывает свой вас ист дас, когда ей заблагорассудится. Пришлось ждать минут пятнадцать, пролетевшие незаметно, ибо, сидя на крыльце, слушал треп трех пожилых мужиков, каковые явились из-за реки не за одной на троих, как городские пижоны, а за тремя на троих, что уже само по себе настроило меня вполне дружелюбно… Так вот, один из них – беретик, ковбоечка, на темном лице белесая щетинка – добродушнейше живописал, как его («Я пьяненькой был») подсек милиционер. Да, забыл сказать, что в Тучко– во-то он, «пьяненькой», прикатил на велосипеде, надеясь успеть «до закрытия» и тотчас отбыть в Сонино (деревня в пять дворов на левом берегу Москвы-реки), где его дожидались «товарышши»…
Я несколько отвлекся от мужиков, и ты сейчас по свойству моих заметок поймешь, «куда» я отвлекался. Видишь ли, друг мой Стасик, в одиноком поедании пищи есть что– то собачье; во всяком случае, я вот так ощущаю себя, даже в самом наклоне над миской есть что-то, повторяю, собачье. В одиноком приятии рюмочки есть высокая поэзия. Соединяя первое со вторым, то есть ядение с питием, получаешь отменную, крепкую прозу»…
А я что говорил?
«Итак, рассказчика задержал милиционер и поступил прежестоко: вывинтил из колес ту штукенцию (винтиль, вентель?), которая удерживает в шинах воздух. Обезножив веломашину, милиционер сказал: «Ступай пехом. Драндулет можешь оставить в отделении. Придешь завтра. И не забудь червонец!» Бедный велосипедист, верный долгу «товарышшества», взмолился о пощаде, честно объясняя причину своей поспешности. Милиционер остался неумолим, как само государство. Мужик трижды совался в отделение, пытаясь выручить свою самобеглую коляску. И трижды получал, как он выразился, «пендель по ж…». Рассказывал он про эти «пендели» наиподробнейше, с удовольствием и даже с уважением к милиционеру, который не потяготился трижды вытягивать ногу, и притом столь метко.
Сперва я стал грустно размышлять на тему о человеческом достоинстве, о полнейшем азиатском самоуничижении, о том, что, например, гордый бритт полез бы на стенку, а наш… и т. д. Но после вспомнил один случай из своей долгой жизни. 31 год тому (писано в 1975-м. – Ст. Р.) в предместье Архангельска случилась грандиознейшая драка. Пишущий эти строки по младости лет участвовал в побоище и был основательно вздут, т. к., теперь он может признать, никогда не умел драться. А битва была не русских с кабардинцами, а русских и американцев с англичанами. (Все три великих флота!!!) С кораблей прибежали «эмпи», морские полицейские, этакие коломенские версты, и принялись дубасить своих, то есть янки, резиновыми дубинками. И что же? Граждане заокеанской республики даже и не пикнули. Впрочем, не знаю, отзывались ли они об «эмпи» уважительно».
Неужто надобно объяснять, что вовсе не «лавочка» – ну, разве отчасти – причиной тому, как совместились, переплелись, пронизали друг дружку серьез и шутейность, история и подножный быт, гордый бритт и «пьяненькой» соотечественник, национальная психология и тюремная неотступная память? То, что и родило «Бестселлер» и иную давыдовскую прозу?
«Вот сижу на волглой скамье Исаакиевского скверика, что против «Астории», гляжу на Исаакий, наполовину погруженный в туман, а думаю о тебе, как ты там у Рижского залива?…» (Декабрь 1972-го.)
Друзья – неважные мемуаристы. Все время тянет сворачивать на мелочи, милые, может быть, только вам двоим, и вот даже «Исаакий» пробуждает шаловливые ассоциации. Вспоминаю не то лишь, как Юра вел нас с женой последней дорогой Александра II, сажень за саженью прослеживая смертный путь жертвы-царя и передвижения его несчастных убийц, но и достопамятную «Щель», узенький кабачок с дорогущим разливным коньяком. (Из письма: «…Не тебе объяснять чувства, возникающие в Петербурге. Да еще мороз, метель, иней, мгла. И узкая, как библейское игольное ушко, дверь в то полутемное помещение с подсвеченной витриной и ценами, справедливо ужаснувшими Алю».) Да и он, помню, смеялся, когда я прочел ему из До– влатова – как некто, завсегдатай той славной забегаловки, названивает своей жене: «Звоню тебе от Исаакиевского собора!… Звоню от Исаакиевского собора!» Пока та не выдерживает: «Ты что – Монферран?»…
Короче: «Гляжу на Исаакий… Напротив вижу дом Мятлева, мимо которого снуют наши соотечественники, озабоченные близостью Нового года, ради коего необходимо раздобыться мандаринами. Балкон, где сиживал некогда Дидерот, обтянут кумачом с белыми буквами какого-то призыва (при Кобе отвергли чужеземное слово: «лозунг»). Надо (надо ли?) глянуть на дом, где жил Зотов-моряк, сын моего «соавтора». Спрашивается: на кой ляд топать на Офицерскую, 37 (ныне ул. Декабристов, близ Мариинки)? А ведь потопаю. Оттуда – на Литейный, в дом Краевского, где жил Зотов-отец; а рядом, в б. Эрте– левом переулке, я решил поселить Анну Одинцову, возлюбленную Александра Михайлова. (В романе «Завещаю вам, братья…». – Ст. Р.)
Вот так, Стаська, и живу в каком-то призрачном мире, подчас и не пойму, какой же, собственно, реальный».
И то. Был случай, когда критик-доброжелатель поддел Давыдова: гоже ли в «Глухой поре листопада», где охранка дразнит невозвращенца Льва Тихомирова нелепыми и оттого нервирующими посланиями, заимствовать фарсовый сюжет… Ну, ясно, у Остапа Бендера, в точности так же терзавшего миллионера Корейко: «Грузите апельсины бочках» и т. п. Было и другое: журналист-историк щегольнул эрудицией, походя сообщив, будто на стене одного из казематов Петропавловки было нацарапано: «Fuimus» – «Мы были». А вышло курьезно: последнее-то как раз Давыдов придумал, что же до первого, то, напротив, это Ильф и Петров, прочтя тихомировские записки, спародировали эпистолярный полицейский шантаж. Так какой же мир призрачен? Какой реален?
Сам Юра рассказывал: отбыв лагерный срок и будучи в Питере, хмельной и сентиментальный, решил навестить прах мореплавателя Федора Матюшкина, о ком до посадки успел выпустить книжицу. Приехал на кладбище (на Смоленское? Каюсь, забыл) и, оной могилы не обнаружив, пришел было в смятение: не сбрендил ли? Слава Богу, спрошенная старушка-смотрительша успокоила: «Да могилку-то перенесли! В Лавру, к лицеистам, – он, оказывается, с Пушкиным вместе учился, а мы и не знали, пока в книжке одной не прочли…» В общем, «вторая реальность», пока творец ее отлучился в ГУЛАГ, вроде как заставила первую себе подчиниться.
Давыдов, сам тому несколько удивляясь, говорил, что ему важно как бы физическое прикосновение к истории. Будь то мимолетное детское воспоминание о Вере Фигнер, в тридцатых годах случайно увиденной на станции Валентиновка, возле поселка политкаторжан (так и спрашивали: «Как тут пройти к каторжанам?»), или дружба с Еленой Бруновной Лопатиной, внучкой одного из любимейших давыдовских героев. Дружба, к коей отчасти был причащен и я, будучи приведен им на день рождения к «Бруновне», – впрочем, тот вечер не обошелся без шероховатости. Один из гостей, старинный приятель именинницы, с громкой -двойной! – графской фамилией, стал восхвалять, в пику Ежову и Берии, рыцарей революции Дзержинского и Менжинского. Я, соответственно подогретый, громогласно и их причислил к бандитам, после чего бедный граф (теперь со смущением соображаю: заробев, как говорится, поротой задницей, – а время стояло наглухо брежневское, сталини– зирующееся) покинул застолье, и уже от входной двери доносились его возмущенные восклицания: «Что он говорит! Что он говорит!!»
Стоп. Почему – и не впервой в этой книге – вспоминается преимущественно забавное? Конечно, и потому, что Юра Давыдов был носителем той веселости, которую никак не следует путать'с преходящим весельем. Синоним этой веселости – внутренняя свобода, и ему, что он сознавал, дававшаяся, и давшаяся не сразу, не просто.
«Тяга к историкам – проявление зрелости. Правда, робкое… у тебя. Ничего, дорогой, поспеешь в срок. А теперь серьезно: Тарле немог размышлять, ибо всегда оглядывался на Иосифа Первого, хотя при оном не столь опасались исторических параллелей, как после оного. Вполне разделяю твое отношение к великому Наполеону и отношение это высказал однажды (в «Головнине»): дескать, огромный военачальник и неогромный человек. Что же до стиля, то в нем, как мне мнится, угадываешь влияние Герцена и Толстого. Не так уж и худо, а? Во всяком случае, аз готов превозносить стиль Тарле, ибо Тарле письменно хвалил стиль Давыдова. Причина веская, не так ли? И даже следователь неудобозабываемого МГБ мягко корил Давыдова: вот, мол, ты его хвалил (в газетной статье), а он, видишь, тебя хвалит… Веселовский (Степан Борисович) – иной тип историка. Его непреходящее величие в полной внутренней свободе от всего внешнего, штука редкостная. Не только, кажется, в России, но в России особенно. Эта независимость, однако, вовсе не тождественна бесстрастию; как сказано, история – не дело евнухов. А Тарле… Тарле трепетал, как и Маршак. Но у Тарле был «опыт» (сидение в лагере, в Лодейном поле, где пайка полагалась в зависимости от степени известности з/к-ученого), а твой (и мой!) Маршак и без «опыта» трепетал. Короче, оба, как щедринские редакторы, были приговорены к пожизненному трепету» (1971).
«В истории, как, впрочем, и в других областях, надо различать сведения и знание. Первое лишь предполагает второе: второе не бывает без первого. Первое – дело наживное; второе – от Бога. И тут я разделяю твое восхищение пензенским семинаристом и провалившимся кандидатом в Первую Государственную думу. У Ключевского есть то, чего нет у бессчетного множества профессоров и академиков, не говоря уж о беллетристах, о нашем брате: художественного исторического мышления. Именно мышления, а не стиля, хотя я очень люблю и стиль его; но – главное, определяющее – мышление художественное. Ты даже не представляешь, какие грандиозные баталии происходят между видами-подвидами-отрядами-подотряда– ми историков по поводу, скажем, например, понятия «исторический факт». У-у-у, голова кругом!… Или вот теперь пушен в ход математический анализ исторического материала. И все это, разумеется, интересно. Да вот художественность-то исторического мышления по-прежнему редкость из редкостей. (Ты, конечно, «сечешь», что я говорю не о живописности, которой хватало с лихвой и Карамзину, и Костомарову, а французы, наверное, такие фейерверки пускают, что и версалям не снилось.) Фауст (?) у Гете предупреждал: «Не трогайте далекой старины; нам не сломать ее семи печатей, а то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий». Так вот, тайна Ключевского, по-моему, как раз в том, что он постигает дух времени, не вызывая в нас подозрения на присутствие духа профессорского. (Любопытно, как этот семинарист понимал дворянство; обратного, т. е. чтобы дворянство понимало разночинцев, заключить, пожалуй, нельзя, исключая, может быть, предсказания де Кюстина, да и тот ведь не русский дворянин.)».
Это – из письма 1976 года. А годом раньше, в размышлении над «Двумя связками писем» («Соломенная сторожка»), еще не зная, что много позже как необходимость возникнет «Бестселлер», – о герое обеих книг, не отпускающем Давыдова от себя все том же «партизане» Лопатине:
«Вдруг глянул на лопатинскую судьбу – и ему подобных, хотя он выдается из любых «порядков», – как-тосверху, что ли, и заспотыкался, чувствуя непосильность задачи»…
Так – неизбежно мучительно – проходит стадия освобождения,дабы превратиться в стадию свободы.
«Горький ухватил лопатинскую сущность, сказав, что в европах такой был бы известным ученым или знаменитым путешественником… В его замечании есть перекличка с Пушкиным: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес…» Но Пушкин опрокинул в прошлое, а Горький – в географию. Разница! Горький неточен, ибо и в европах рождались, жили подобные Лопатину. Русские условия со счетов не сбрасываю, но не надо «обуживать», дело шире. Я говорю о «лишних людях» всех времен и народов, извини за формулу, которая теперь звучит иронически.
Мне кажется, во всех пластах времен раствор культурной среды достигает такой степени концентрации, когда выпадают кристаллы этой среды – очень красивые, но, увы, самой-то среде не нужные.
Правду сказать, чтотакое Герман Лопатин? (Сугубо между нами.) Громадная, всеми признанная одаренность. Всеми: от Маркса до Тургенева, от Лаврова до Горького, от жандармских штаб-офицеров до левых журналистов. И что же? Какова жизнь? Ну, хорошо, молодецки похитил из ссылки Лаврова – плюс, так сказать, ладно. Принялся переводить «Капитал» – бросил. Ринулся спасать Чернышевского – не спас. Пустился поднимать погибающую «Народную волю» – не поднял, загубил очень и очень многих и сел в Шлюшин, в Шлиссельбург. Вышел 60-лет– ним, как сам определил, «на дожитие». И ужаснулся тому, что происходило в девятьсот пятом, а потом и в приснопамятном, исключая падение династии.
Какие таинственные силы мечут личность? Отчего у нас являются эти «обломовы наоборот», т. е. энергические, но все ж обломовы? И почему, вопреки разуму, они мне милее штольцев? И как это все объять не одной лишь русской меркой? И наконец, почему, по какому обету я, именно я, бедный малый, обречен размышлять о таких материях, очевидно, неразрешимых, во всяком случае для меня и мною???»
Размышление-вопль. Возбуждающее – как и то, и другое – и мою мысль, нынешнюю, о нынешнем, но опять– таки остающуюся упершейся в знак вопроса.
Да. Герман Лопатин («и ему подобные» – в той или иной степени, в той или иной сфере деятельности) – то, что называется enfant perdu: французская идиома, плохо переводимая на русский, и не только по причине неблагозвучности. Буквально – «потерянное дитя», метафорически – словно бы выкидыш истории и действительности. Чаше всего – трагическая фигура, и если действительно не сбрасывать со счетов «русские условия», то нельзя не добавить: за этим – трагедия всей России, ее истории, ибо постоянное возникновение «обломовых наоборот», как и то, что они в самом деле «вопреки разуму» нам «милее штольцев», – причина множества национальных бед. В частности, той, что лучшие люди, пошедшие в революцию, ее идеалисты, именно ей оказались ненужными, лишними, вредными. А победили «штольцы наоборот», прагматики вроде Ленина, открывшие дорогу циникам, от Сталина до Брежнева.
Как известно, бывают не только «потерянные дети», но и «потерянные поколения». Известно и то, откуда последнее выражение, ставшее терминологическим, – из эпиграфа к «Фиесте» Хемингуэя, где он процитировал сказанное «в разговоре» Гертрудой Стайн: «Все вы – потерянное поколение». «Generation perdue».
Однако вот что существенно: данная пчеломатка англо-американского модернизма тоже подслушала будущую крылатую фразу «в разговоре», в быту. Фраза была сказана сгоряча хозяином гаража своему нерадивому работнику, не сумевшему починить старый «форд» Гертруды. А существенно то, что вряд ли обруганный неумеха мог претендовать на роль фигуры трагической, хотя он, отмечает Хемингуэй, был человеком его поколения, также побывавшим на фронте. Эту роль добровольно взял на себя именно автор «Фиесты» и «Прощай, оружие!» (как и Ремарк), осознав трагедию как трагедию – утраченных идеалов, потерянных координат – и как раз в силу (в силу!) этого осознания обернув трагедию победой. Творческой самореализацией – своей собственной и целого литературного поколения. (Что, впрочем, одно и то же: позднее
Нина Берберова скажет, что явление одного лишь Набокова оправдало существование целого поколения эмигрантов.)
А сегодня? Сегодня только ленивый из литературного поколения, возникшего с перестройкой, не говаривал, что и он, мол, из новейшего «потерянного поколения». И разве не так? Больше того, разве в этом есть что-то дурное, наподобие личной – или поколенческой – вины?
Боюсь, что дурное есть. Свою потерянность наша молодая – правда, уже относительно, в дни. когда пишу эту книгу, кому за сорок, кому и за пятьдесят, – «творческая интеллигенция» сделала словно бы своим самооправданием. Какой там трагизм? Сплошной кайф! Нынешние потерянные получают бесконечное удовольствие, даже сознание собственных привилегий, почти номенклатурных. «Конец истории», «конец культуры» – гуляй, пацаны, на поминках по старой словесности! Мы – такие! Потому что время – такое!…
Может быть – и даже наверняка, – это мое сожаление не случайно спровоцировалось Давыдовым, и дело не только в «обломовых наоборот», непосредственно натолкнувших на вышесказанное. Причина – уход его самого, заметно обезволивший современную литературу, во многом лишивший ее ясного понимания, что есть творческая свобода, что она дает и какие обязанности налагает.
Год 1983-й, начало рабо!ы над повестью о Глебе Успенском:
«Когда Гл. Ив. был уже болен, к нему, на окно психушки, часто прилетал голубь или подходила вплотную молодая женщина «строго-монашеского облика». И голубя, и эту женщину он называл Маргаритой. И не голубь то был, и не женщина – а Совесть. Они, т. е. голубь-женщина-совесть, то горько попрекали Гл. Ив., то ласково ободряли… Не знаю в русской литературе другого писателя, столь одержимого требованиями Совести, а уж русской литературе совестливости не занимать стать. Не знаю другого писателя, который имел бы таких читателей,как Гл. Ив. Вообрази: Шлиссельбург, шлиссельбуржцы, годы и годы без права переписки; но вот на заре века поступает нови– чок-узник; тюрьма оживает в перестуке… Первый, сразу же вопрос новичку: что, как, где Глеб Успенский? Понимаешь? Да, он любил тех, кто утонул в Шлюшине. Да, многих знал и высоко (по душе) ставил. Но гимнов не слагал. Напротив, сознавал тщету усилий, даже ошибочность пути. (Не возникает ли, тихо-тихо не возникает ли рефрен темы пушкинско-декабристской, пророческой; ну, если и не рефрен, то вариация.) «Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию» – вот точнее точного определил один автор-экономист на рубеже веков. А Гл. Ив. и мужик? Говорил, они, революционеры, хотят, чтобы я рисовал шоколадного мужика, а такого нет и в помине. (Любопытно, нонешние деревенщики с их ненавистью и презрением ко всяким там Чернышевским и полным незнанием аграрной истории России, нонешние тоже жалают видеть в минувшем шоколадного мужика. И «видят» и внушают читателю, что вот-де погибла и т. д. и т. п. Конечно, погибла и погибло; конечно, все пошло не так, да зачем же столь пошло мыслить? А потому, думаю, что эдак легче «сводить счеты».)».
…Юра Давыдов был моим счастьем – и в том частном смысле, что оказался осуществлением вожделенной мечты. Моя любовь к нему вначале ревниво опережала мой же интерес к тому, что он пишет. Я даже страдал, читая его книги, которые с небрежностью молодости обзывал: «история с географией», – слишком мало отражавшие его человеческий опыт. Да и потом: где его лагерь, пиявил я Юру, где тамошние дружки, разбойник ли Митя Куроч– кин или геройский подполковник Женя Черноног, для меня – легендарные после Юриных устных рассказов? Помнишь, приставал я, как меня потряс твой рассказ о последней лубянской ночи, когда тебя привезли из лагеря с сотнягой, надежно запрятанной в подметку сапога, – прощальным подарком соузников? И как ты в ночь перед волей прислушивался-принюхивался к шорохам-запахам Москвы?…







