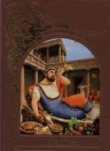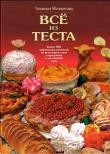Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Высшее общество Зодвинга, как и сам Зодвинг, выглядит чрезвычайно тяжеловесно. Эти люди носят меха в любую жару, носят кожаные штаны, ушитые железными вставками. Их рубахи – натуральные кирасы; на ногах у них всегда сапоги, и они всегда подкованы железом. Женщины мало отличаются от мужчин: кожа, меха, железо – все так же, только вместо крепких штанов у них крепкие юбки пониже колена. Один Хальданар здесь в летящей белой тунике без белья, и в тонких сандалиях.
Молва о нем заполняет уста. Здесь, на пленуме, перед общим сборищем за овальным столом, все успели пошептаться узкими группками в недожженных беседках, а я успела послушать. Достопочтимое общество полагает, что этот приблуда ой как непрост. Явился из ниоткуда, и тут же вспрыгнул на вершину. Значит, он хитер. Либо за ним стоит кто-то столь могущественный, что все желаемое для него возможно. Либо он держит старого Миродара на коротком поводке, а это опять же означает, что он не лыком шит. Главу высшей гильдии поди-ка прижми к ногтю, если он сам, кого хочешь, прижмет. За кустами, клумбами и богами-инвалидами не смолкает задавленная шумиха – все под впечатлением от Хальданара из Предгорья, ныне зовущегося Хальданаром из Зодвинга. Все косятся на него, мучительно обдумывая каждое слово, что скажут ему, и каждый чих, что в его присутствии себе позволят. Никто не знает, как вести себя с темной лошадкой, и оттого атмосфера на сборище напряженнее стандартной.
Данный пленум – традиционное собрание правящей верхушки Зодвинга. Верхушка состоит из глав гильдий, и советников городничего в составе двенадцати мудрейших мужей. Толпа получается внушительная, но это все фон, суета. В законотворческую элиту входят владыки всех объединений: гильдии торговцев, артистов, мореходов, охотников, ремесленников, земледельцев, строителей, и прочих-прочих, но подлинной властью обладают лишь владыка горняков, имеющих монополию на добычу богатств гор, и владыка жрецов, имеющих монополию на умы и души людей. Советники – это скорее дань приличиям, чем реальная сила, так что решения городничего зависят, в основном, от того, чей голос прозвучит убедительнее и громче – голос главного горняка, или главного жреца. И моя задача в том, чтобы слышно было одного лишь Хальданара.
Владыка гильдии горняков – человек твердый. Он много десятилетий на посту, через его руки проходят такие богатства, какие не воображают себе самые состоятельные люди Пларда. Он давно заправляет и армией, и правосудием, и контрабандой, и ворами, не говоря уж о городничем и его советниках. У этого человека есть два сына – хваткий старший, и рохля младший. Незадолго до пленума я немного похозяйничала в их поместье, и в результате отец оказался отравлен вином, а старший сын – повинен в отравлении. Теперь гильдию возглавляет младший сын, и я могу не тревожиться, что Хальданара потрут лицом о колено в дискуссиях и прениях.
Если что, все живы. Эйрик заставил меня пообещать обходиться без убийств, и я пока обхожусь. Это произошло, когда Минэль нашла Корнелию в одном поселении далеко на востоке, и я с торжеством сообщила ему, что скоро он будет отмщен. Он схватил меня за руку, глубоко побледнев; его глаза стали похожи на бешеные водовороты в темных омутах.
– Не надо, – прошептал он. – Я передумал, Латаль.
Естественно. Я нисколько не сомневалась, что ты передумаешь. Уж достаточно хорошо тебя знаю.
Я принесла ему два прекрасных бирюзовых глаза, и он впал в отчаяние, хоть я и не убила ее. Мягкотелый дурачок. Нельзя прощать зло, пойми же ты. Прощая зло, ты становишься соучастником. Впрочем, не буду врать, мне плевать на мораль. Никто не смеет покушаться на меня и моих людей, вот и все. Зодвингские чинуши, поглядывающие на Хальданара с опаской, очень правы в своей опасливости. Пусть поглядывают так и впредь.
Участники пленума рассаживаются за овальным столом под утренним солнцем, и приступают к обсуждениям. Вскоре они прервутся на легкий перекус, потом на продолжительную обеденную трапезу. Трапеза, блеснув вкраплением ожесточенного диспута, перейдет в пирушку с девицами из дорогих борделей и играми на раздевание; ближе к утру наступит перерыв на отдых, потом еще пара суток угара и веселья, а после изможденные мужи, возможно, до чего-то договорятся, наконец. И разъедутся по своим обиталищам – восполнять силы, отнятые рабочими буднями.
Участники рассаживаются за столом, а Хальданар никак не может перестать украдкой озираться в поисках меня. Он знает, что не увидит меня, не вычленит из антуража, но чутье подсказывает ему, что я близко, и навязчивая потребность в любимой сущности не дает ему тиши и сосредоточения. Чувство, что я близко, впрочем, не покидает его, и то, что сейчас он угадал – случайность. Он постоянно «замечает» мое присутствие в своих апартаментах, в учебных комнатах, в храмовом зале, на пляже. И в школе, и в Зодвинге, и на берегу – всюду я с ним, хотя на самом деле нет. Минэль присматривает за ним, а я от него отдыхаю. Минэль сообщила, что поросенкоподобный бывший заместитель не намерен действовать, и я спокойна. Этот кругленький понимает, кого сразу обвинят, случись с Владыкой несчастье, и потому таится. Когда-нибудь он сделает свой шаг, но не сейчас. Сейчас он будет корчить смиренную овечку, а Хальданар – делать вид, что верит ему. Пока это продолжается, оба они остаются в безопасности, а я остаюсь в стороне.
Возвращаюсь с пленума веселая и утомленная. Хочется отдохнуть, но так, чтобы веселье продолжить, чтоб не оборвался хороший день среди кислых стен.
– Пойдем, погуляем, – предлагаю Эйрику, проходя в комнату.
Он сидит у окна, но смотрит не на улицу, а на дохлую муху в паутине. Ветерок поигрывает шторкой, во дворе уже тень, и зной заметно спал. Закат чудесный, мягкий, как парное молоко, и если выйти из нашего трухлявого бруска и немного пройтись, можно попасть на безлюдный берег, где никто никого не осудит за купание голышом. Эйрик, правда, думает о мухе и выпившем ее пауке, а вовсе не о купании, и не о беге по хрусткому песку наперегонки. Я подхожу к нему вплотную, осторожно привлекаю его голову к своему животу, и чувствую, как по нему растекается мое тепло. Как живой сок бежит лучами, наливая почки и бутоны, смывая хмурь вынужденного сна. На стыке тел – границе между мной и им – образовалось солнце, испускающее меткие весенние дорожки.
– Мне не хочется, – торопливо говорит Эйрик из-под моей груди. – Давай не пойдем.
Я вздыхаю, напрягаясь. Ну сколько можно? Разве у тебя было недостаточно времени на то, чтобы скиснуть в простоквашу взаперти?
– Я знаю, что ты не хочешь, – отвечаю терпеливо, приподнимая его подбородок и заглядывая в лицо. – Но сделай над собой усилие. Нельзя же остаться в этой комнате навсегда.
Он жил на улицах, в потоках, в вихрях, в людях, а теперь как будто ушатом накрылся. Этот Чудоносец никого не заболтает до желания отсыпать медяков, угостить выпивкой и прыгнуть в постель. Этому Чудоносцу и грызенную кочерыжку никто не подкинет.
Он отстраняется, обрывая лучи, встает и отходит подальше. Он выглядит чуть лучше – наваристая рыбная похлебка, которой я исправно его снабжаю, дает результат, и раны от кандалов совсем стерлись. Глаза по-прежнему похожи на черные провалы в никуда, а рот по-прежнему похож на кривую складку. Злость в нем поначалу была сухой, зажатой, подпольной, а теперь она разворачивается, распухает, и рот-складка становится жестче и угловатее день ото дня. А глаза вообще не меняются. Это просто куски ночного неба – безмолвные и бессмысленные, ведущие в бесконечность пустоты бесконечно пустыми тоннелями.
– Люди будут смотреть на мою метку, – бормочет он, мазнув себя по щеке тыльной стороной ладони. – Зачем?..
– Ты прощен верховной гильдией и невинен перед законом, – я спокойно возражаю. – Никто не отнесется к тебе дурно.
– Все равно…
Ему стыдно. Он ненавидит себя, Корнелию, Зодвинг, горы, шахты, жреческую школу и снова себя. Себя особенно. Ему кажется, что он рожден на свет для неудач, и что лучше было бы вообще не рождаться, чем родиться таким неудачником. Ему кажется, что мир не для него, что он слишком гадок для мира. Что люди не обязаны терпеть его на своих улицах, на своем берегу, и что похлебке, которую он потребляет, можно было бы найти куда лучшее применение.
– Здесь куда ни плюнь – ворье, жулье, доносчики, шантажисты, насильники, садисты, бесталанные певцы, – напоминаю грустно, делая в его сторону шаг и другой. – И им хорошо. Мир – грязное место. Никто не останется чистым, придя в него, даже я не осталась.
– Ты не осталась… – бормочет он едва слышно. Для человеческого уха вообще неслышно, но я разбираю. – Ты изменилась, Латаль, – добавляет он отчетливо. – Что ты делаешь вообще?
Я дергаю плечами, отвечаю с ухмылкой:
– Живу, дорогой. Просто живу в пространстве, которое вокруг.
Он смотрит на меня странно, и неосознанно отходит еще чуть дальше. Я спокойно стою у окна – изящная девушка в голубом платье – а ему кажется, что из-под моего облика просвечивает медведь. «Наверно, я разлюблю вино» – шуршит в нем нелепая мысль. Что-то сдвигается в моем облике, и Эйрик поспешно поясняет:
– Я чувствую себя в ловушке. Как будто у меня зависимость. Как будто я от тебя завишу.
Это правда, но неужели я так ясно дала это понять? Ведь не собиралась без нужды.
– Пойдем гулять, любимый друг, – предлагаю ласково. – Море сегодня тихое, изумительное. Поплавай со мной, пожалуйста.
Ну, все, беда. Он боится меня. Ласковый тон представляется ему вуалью угрозы, просьба превращается в повеление. Я была мила, заботилась о нем, искренне желала поддержать, но он запомнил медведя, отпечатал в себе ту легкость, с которой я освободила его из заключения и возвысила Хальданара, проникся бирюзовым даром Корнелии, и все – человечности во мне не осталось. Он видит во мне существо, а не девицу.
– Но я ведь и есть существо, – говорю осторожно, будто ступаю на хрупкий лед. – И разве это плохо?
Он дергает головой в одну и другую сторону, и отвечает неуверенно:
– Не знаю. Ты хорошее существо; я видел тебя прекрасной! А сейчас я вижу, что тебе нравится пользоваться своим превосходством, и ты больше не хочешь дружить с людьми. Я не смогу тебя любить, если ты попытаешься превратить меня в игрушку.
Немного обидно это слушать. Когда я успела сделать ему что-то плохое?
– Я всего лишь хочу, чтобы ты вернулся, – бубню понуро. – Чтобы был таким, как раньше – злым на судьбу, но добрым к себе. Ты себя запираешь, как будто хоронишь, а хоронить надо мертвых, а не живых.
Ему не хочется заниматься жизнью – всеми этими движениями, думами, поисками решений, всякими отношениями, вкусами, цветами. Вещи, разговоры, развлечения, истории, путешествия, задачи, действия, победы – ему ничего не надо. С людьми иногда случается такая болезнь.
– Но любовь-то тебе еще нужна? – спрашиваю глухим голосом, приближаясь к нему, и хватая за локоть, когда он дергается, чтобы опять шагнуть подальше.
Он не вырывает локоть, но весь сжимается, будто я подбираюсь к нему с кнутом. Будто я – мешок, из которого может выпрыгнуть любой из многочисленных злодеев, и свершить какое угодно бесчинство. Будто я доверху набита сплошными злодеями!
– А ты меня любишь, Латаль?
Когда он говорит, его рот почти не шевелится. Словно губы сшиты свободными стежками, позволяющими размыкаться едва-едва. Нижняя половина лица густо кучерявится, потому что он давно не брился; а перечеркнутый шалаш на щеке – уже совсем заживший – светит розовым, потому что он сегодня скреб его ногтями с отвращением. Кожа Эйрика пахнет его кожей – это один из лучших ароматов в Мире.
– Ты считаешь меня достойным себя и выше себя? Если нет, то это не любовь.
Мне расхотелось на берег. Что я там не видела, в общем-то? Моря живут от начала времен, как и сущности, и будут жить до конца времен. А Эйрик такой краткий, как одна ворсинка в огромном ковре.
– Мне жаль, что люди не становятся духами после смерти… – бормочу, забывшись, вжимаясь губами в лохматую челюсть.
– Я не умираю.
– А что ты делаешь в этой комнате?
Он такой чуткий, как будто не совсем человек. Я отказалась от идеи тащить его куда-то против воли, и солнце сразу вернулось на границу тел. Лучи-дорожки вновь пронзают нас щекотным родством, похожим на весну.
Он гладит ладонями мою спину, мои волосы. Его касания едва не растворяют мою оболочку.
– Я бы не хотел быть духом, – говорит он. – У нас есть смерть, а у вас вообще никакого спасения. Что ты будешь делать, когда ничего не станешь хотеть?
– Ждать, пока чего-то захочу.
Он как-то весь сминается и расползается, подобно намокшей бумаге. Из его мышц вытекает остававшийся там характер.
– Мне очень жаль тебя, Латаль, – говорит он с глубинной болью. – По-моему, ты совсем не понимаешь, на какую пытку обрекли тебя боги.
Вечная жизнь в мире людей – это пытка? Не знаю, я бы скорее назвала это баловством.
========== 14. ==========
Мы сидим за столом, и плетем важные колдовские амулеты – те, которыми пользуются таинственные чудоносцы. Дурацкие ожерелья из ниток и ракушек, браслеты из монеток, цепочки из ремешков. Получается скверно, коряво. У меня почему-то неуклюжие пальцы, а Эйрик вообще не умеет создавать всю эту красоту – ему ее всегда создавали дружественные девицы. Он злобно посмеялся, когда я предложила заняться чудоносной атрибутикой, но спорить не стал, а в процессе даже увлекся. Результат нашей работы скорее неудовлетворительный, но хотя бы руки заняты, и я, конечно, надеюсь, что он втянется, вспомнит. Я не оставляю надежд его вернуть. Резкий, напористый стук в дверь отвлекает нас.
Хальданар, нарисовавшийся на пороге, упакован в темный холщовый балахон до пят, укрыт глубоким капюшоном. Он теперь слишком знаменит и значителен, чтобы слоняться по ночлежкам подгнивших городишек, и потому явился инкогнито. Плотно прикрыв за собой дверь, он скидывает капюшон, с нетерпеливой досадой щурится на Эйрика, и повелительно выплевывает в него:
– Растворись.
Тот не поднимает головы, продолжая монотонную возню с бусами из абрикосовых косточек. Достопочтимый Владыка гильдии жрецов совсем не пугает его – его в последнее время никто из людей не пугает. Хальданар суров и горяч. Его ноздри раздуваются, челюсти каменно сжаты. Его раздражает сам факт визита, а тут еще этот…
– Эй, Перьеносец… – гадливо начинает он, а я встаю, и жестом обрываю его.
– Говори, зачем пришел, – предлагаю улыбчиво.
– Ты знаешь, зачем, – рубит Хальданар, шагая вглубь нашей трухлявой комнаты.
– А ты все-таки скажи, – я улыбаюсь шире. – Если даешь обещания, которые не можешь выполнить без помощи, так умей о помощи просить.
Он так свиреп, как будто я в чем-то виновата, или Эйрик в чем-то виноват. У него глаза, как трещины, из-под насупленных бровей их не видно. Я подбираюсь к нему мягкой поступью, кладу руки на грудь. Он отшатывается, будто у меня раскаленные булыжники вместо ладоней.
– Латаль, ты либо на моей стороне, либо нет, – хрипит он. – Либо участвуешь, либо нет. Брось свои развлечения. Я уже поговорил с городничим, поздно отказываться.
Как же быстро он ко всему привыкает! Куда ни ткнется – тут же свой. Роль важного человека уже так присохла к нему, что он берется решать проблемы властителей. Только вся сила его – во мне, и от этого не уйти.
Плардовцы наглеют, распускаются. Они держат Зодвинг за горло своими вояками и данью, и теперь желают дочку городничего в плен – для дополнительных гарантий. Городничий в панике, ради единственной дочери готов кланяться до земли, а если главе города кому-то и кланяться, то тогда уж главе духовенства. Хальданар не смог отказать себе в удовольствии пообещать ему, что сбережет девицу, но теперь он должен найти ей замену, а заменить ее могу лишь я. Внешность у нее специфичная, первую попавшуюся бродяжку за нее не выдать.
Я льну к груди, беспокойной под мешком балахона, тычусь носом в тесный вырез, пытаясь дотянуться до запаха кожи. Хальданар, дергая кадыком, глядит поверх моей макушки на Эйрика, занятого бусами – абсолютно равнодушного к ситуации, похожего на ребенка с побрякушками, которого не заботят дела взрослых.
– Я не нахожу в твоей голове благодарности, – шепчу я, подняв невинные глаза. – Почему ты не думаешь о том, чем заплатишь мне за услугу?
– Потому что я не буду платить.
Он отодвигает меня решительно и резко, я даже слегка теряю равновесие. Ослабшие растекшиеся ноги вынужденно просыпаются, впиваясь ступнями в пол. Эйрик отрывается от косточек, возмущенно дрогнув. Глубины его организма не приемлют грубостей к тем, кто выглядит, как женщина. Хальданар машет передо мной указательным пальцем, как ментор при нравоучениях.
– Ты меня втянула в эту ерунду, Латаль, – шипит он агрессивно. – Ты – со мной, всегда со мной, поняла? Не я это решил, ты решила, вот и не отнекивайся. Наглый дух, думаешь, можно влезать в дела людей наполовину? Хочу – участвую, не хочу – не участвую, так ты думаешь? Нет, дорогая, любимая гадкая сущность. Раз ты меня выбрала, то и работай на меня теперь. Обоз с данью отправляется через два дня, и ты должна быть там. Игрушку можешь взять с собой.
Замолкнув, он вылетает за дверь, будто за миг до вспышки пожара, набрасывает капюшон, и слишком стремительно, чтобы не терять в важности, шагает прочь. Ему принципиально удалиться, не дав мне ответить, и я посмеиваюсь, неторопливо возвращаясь к амулетам. Эйрик отложил свои бусы, и глядит на меня с недоуменным ожиданием.
– И что? – спрашивает он сухо.
Я счастливо улыбаюсь, подкидывая горсть монеток к потолку.
– Он знает, что я не посрамлю его перед городничим, – отвечаю весело. – Потому ведет себя так дерзко. Но он знает и то, что платить все-таки придется, и потому заранее зол.
Монетки валяются вокруг, и мы в центре денежной клумбы. Раньше Эйрик скрипел бы нутром от неподобающего обращения с деньгами, а сейчас ему все равно. Он утратил свою отменную скрупулезную жадность, его страсть к наживе остыла до пепла.
– Мы едем в Плард? – уточняет он со скукой.
Я швыряю в него деревянную бусину, и сразу еще несколько. Бусины мягко врезаются в его рубаху, падают на пол, и разбегаются по сторонам, как пугливые жучки. Эйрик не обращает на них внимания.
– Хочешь быть любовником дочки городничего? – я хохочу, швыряя в него кучку чаячьих перьев, но те лишком легкие, и оседают на стол, не долетев. – Раньше полжизни отдал бы за такое!
Он встает из-за стола, устав от глупых амулетов и моего глупого поведения. Одно из перышков все же добралось до него, и теперь белеет на расслабленном плече.
– Хочу, – говорит он тихо, и отворачивается.
На самом деле, он по-прежнему ничего не хочет.
– Плардовцы смели Венавию.
В просторных апартаментах Хальданара чахнет единственная свечка, и мы с ним прячемся в полутьме. Мы пьем холодный мятный отвар, и крепкий маслянистый запах заполняет углы.
Сегодня Минэль сообщила мне, что город на западе сдался на милость победителей, удумавших подмять под себя территории по эту сторону моря, иссушить их и обескровить, сгрести их богатства в свои закрома. Венавия – это огромная земледельческая община, тамошние пахари не очень-то сопротивлялись. Теперь они будут выращивать урожай для Пларда, а Плард пока выберет и сметет еще какой-нибудь город. А потом еще, и еще, пока не сломает зубы о кого-то упорного и удалого.
– Их сожгут, – бормочет Хальданар из своих мыслей, которые совсем о другом. – Не вечно им одним жечь…
До отправления обоза остается несколько часов, и его корежит от всего этого предприятия. Его злит унижение, которое терпит Зодвинг, и еще больше злит то, что я уезжаю далеко и надолго. А еще больше его бы злило, если бы я оставалась. У него в душе хаос – буран, землетрясение, шторм, несварение желудка – все сразу. Он не стал зажигать больше свечей, потому что не хочет меня видеть. Он так сильно хочет сжать меня в смертельных объятиях и целовать до обморока, что не хочет видеть. Я пришла для того, чтобы сообщить о Венавии и попрощаться, а не для того, чтобы мучить его, но все равно мучаю. Мне самой тяжко, человеческое сердце ноет. Мне придется оставить его одного, без возможности спрогнозировать встречу, и глупенькому человеческому сердцу кажется, что я оставляю его навсегда. Мы сидим по разным краям комнаты, и не смотрим друг на друга, а запах мяты такой сильный, что у меня уже кожа будто бы в мятной пленке. Наверное, тут весь интерьер в этой пленке, включая пламя свечи.
– Только не пытайся лобызать меня перед уходом, – ворчит Хальданар, уткнувшись в кружку. – Твои губы опоганены, меня затошнит.
Я вся опоганена, не только губы… Я посмеиваюсь над этой бредовой мыслью, хотя мне грустно, очень грустно. Я не хочу оставлять здесь без присмотра то, что безраздельно мое.
Хальданар вынимает из кармана бубенец, и энергично громыхает. «Перекинься в Доротею» – слышу я его мысль, и перекидываюсь. Мои телеса расплываются по стулу и свешиваются вниз, лохматые угольные брови и усики выгодно оттеняют большие красные щеки, громадная грудь возлежит на шаровидном животе. В декольтированном красном платье я похожа на очищенный от корки арбуз.
Не успевает смолкнуть бубенец, как Тэсса в мальчишечьем образе входит к нам из смежной комнатушки. Вид у нее помятый, но бодрый – она спала, но мгновенно проснулась, как надлежит старательным, хорошим слугам.
– Да, господин? – обращается она кротко, глядя в пол.
Поросенок-заместитель больше интересовался ее естественными отверстиями, нежели чем-то еще, а манерам и усердию ее научил Хальданар. Он оказался требовательным Владыкой, я даже не ожидала.
– Вот твоя новая госпожа, – говорит он хмуро. – Поедешь с ней.
Девчонка не сдерживается – вскидывает глаза. В них – недоверие и слезы, и перечеркнутый шалашик на ее щеке дополнительно перечеркивается соленой дорожкой. Тщедушное тельце слабнет от подлинного горя, и она едва не оседает на пол. Она ничего не говорит и ничего не думает, просто беззвучно рыдает, будто находясь в конечной точке своего существования. Она уверена, что влюблена в прекрасного и сильного Владыку, спасшего ее от Поросенка, и что любовь ее вечна, а преданность самоотверженна. Ей казалось, что у нее все правильно наладилось, что она обрела свое место в мире и имеет какую-то значимость, а теперь обожаемый господин вдруг отсылает ее.
– Не реви, – грубо бросает Хальданар. – Тебе нельзя больше здесь жить. Посмотри на себя – сиськи скоро вырастут, как у Доротеи. Какой из тебя будет мальчишка?
Сквозь туман она думает о том, чтобы обнять его колени и просить-просить-просить, но не решается. Эта идея кажется удачной ее содрогающемуся разуму, и не хватает ей всего лишь капли смелости. Мне все реже и реже бывает жаль людей, а вот ее сейчас жаль. Она такая мелкая во всех смыслах, и всю жизнь лишь катится туда, куда ее пнет ветер.
– Не реви, – повторяет Хальданар еще грубее. – А то выпорю.
У него в шкафу таится роскошный гибкий прут – на случай, если потребуется наказать недостаточно почтительного и усердного ученика, не вставая с места. Тэсса обрывает рев, одним махом затыкая скважины. Она однажды испробовала этот прут, и больше не хочет.
– Иди, собирайся, – велит Хальданар чуть мягче. – Выезжаете с рассветом.
Она вытирает нос рукавом, трагично кивает, и возвращается туда, откуда пришла. Я принимаю свой стандартный облик, и теперь отлично умещаюсь на стуле.
– Не в Зодвинг же ее гнать, – бормочет Хальданар понуро. – Несчастная оборванка на улицах совсем загнется. А тебе как раз нужна служанка – дочки городничих не путешествуют без служанок. Наряди ее в платье и причеши, а то больно уж она страшненькая.
Я ухмыляюсь укоризненно, и говорю с тихой печалью:
– Девчонка влюблена в тебя, а ты к ней так.
Он искренне удивлен.
– Чего? Влюблена? Что за ерунда?
– Какой же ты чурбан, Владыка, – посмеиваюсь я. – Тебе надо в самое ухо крикнуть, чтобы ты услышал.
Он залпом допивает отвар, и отставляет кружку.
– Чепуха это все, – говорит он с какой-то кромешной усталостью, почти с измождением, и на миг сжимает виски ладонями. – Кто кого любит – совсем не важно. Хлеб важен, море, война, власть. Страх важен, боги важны, и снова хлеб. А любовь неважна. Она ничего не решает.
– Говоришь, а сам не веришь…
– Латаль, – обрывает он меня. – Я пообещал городничему сберечь его дочку не ради того, чтобы он стал моим должником, а ради того, чтобы тебя спровадить. Чихать я хотел на политиканов этих, на влияние и прочее дерьмо. Я просто хочу, чтобы тебя рядом не было. И тогда, когда тебя не будет, мне политиканы и дерьмо станут интересны, и гильдия моя, и Поросенок, и боги, и книги. Ты просто уезжай, пожалуйста, Латаль, не мочаль меня больше. Я больше не хочу видеть тебя во всех мошках, птицах, крабах; хочу твердо знать, что ты далеко. Я с ума сойду, если ты останешься здесь, но не со мной.
Да понимаю я все, незачем распинаться. И понимаю, что, стоит мне уехать, ты будешь сходить с ума от того, что эти мошки, птицы и крабы – точно не я.
– Сможешь о Тэссе позаботиться? – спрашивает он после паузы, и вновь потирает виски.
Он рано встал, утомился за день, и давно хочет спать. И, конечно, не уснет до самого солнца.
Я улыбаюсь, указывая подбородком на дверцу в смежную комнатку.
– Она подслушивает, – говорю добродушно.
Он гневно хлопает ладонью по колену, восклицая:
– Вот паршивка!
Тэсса отскакивает от дверцы по ту сторону, и кидается упаковывать туники с сандалиями. У нее всего две первых, и одна пара вторых.
– Можно, я останусь с тобой до утра, Хальданар? – спрашиваю спокойно, а он предсказуемо сжимает зубы и мотает головой.
И разваливается в своем кресле, откидываясь на спинку, будто собирается вздремнуть.
– Я про Венавию вообще не слыхал, пока здесь не поселился, – говорит он задумчиво. – Пока здешние уроки не послушал, карты не поразглядывал. Я вообще много нового здесь узнал. Развился, облагородился. Ты меня из глухой деревни вывела, от гнева леса спасла, сюда толкнула. Спасибо тебе.
– Эй, ты со мной не прощайся, – я смеюсь, хотя чуть не плачу.
Он слегка смущен.
– Это так, на случай, если меня Поросенок прибьет, или кто из чинуш, или плардовцы. Неправильно это, когда для тебя что-то сделали, а ты спасибо не сказал.
Ладно, все, я начинаю плакать, и это значит, что пора уходить.
– До свиданья, Хальданар, – выдавливаю из себя, и оборачиваюсь комаром, который плакать не умеет.
– До свиданья, Латаль, – выдавливает он в ответ.
А Тэсса жмется ухом к двери, и ей не совестно.
Я сделала себе зарубку, что люди не будут решать за сущность, а сама позволила Хальданару решить за себя. Какая-то я бесхребетная и непоследовательная сущность.
Вопреки моему предсказанию, он сразу лег и заснул, и проспал почти до полудня. Когда он проснулся, мы уже уехали далеко.
Наш обоз тянется, как нить из распускающегося полотна. Вереница телег, перемещаемых мулами, нагружена железом, алмазами, медью, золотом. Мы везем врагу такие богатства, что даже мне – созданию, не привязанному ко всяким материальностям – немного не по себе. Кроме того, мы везем меня – ценную заложницу. Сопровождающие – возницы, погонщики, охрана – сочувствуют мне, вздыхают украдкой. Доротея не слишком симпатична внешне, но она положительный человек, ее любят. И уж конечно она куда положительнее меня.
Днями мы трясемся на телеге под навесом, ночами лежим на земле под звездами. Путь неблизкий, можно и натрястись, и належаться всласть. Тэсса вечно ревет, и меня это изрядно утомляет. Поначалу мне было жаль ее, потом вместо жалости пришло раздражение. Какая же ты сопливая малявка, ужас! Вот уж великое счастье – прислуживать грубияну, который считает тебя страшненькой, и может выпороть в любой момент. Нашла, из-за чего в соплях тонуть, дура.
Справедливости ради, она действительно страшненькая. Я подарила ей платье и яркие заколки для волос (снова выполнила волю Хальданара!), но это не помогло. Она все такая же тощая, синюшно-бледная и кривоногая, и метка помилованного каторжника на щеке жестоко уродует ее. Тэсса станет красивой, только если научится перекидываться, как я.
Эйрик рад ей. Их объединяет метка, и он доволен, что у нее все благополучно. Свое чувство он пытается скрывать, но скрыть чувство от сущности – задача маловыполнимая. Он почти не разговаривает с ней, не садится рядом, и даже лишний раз не смотрит в ее сторону – опасается разозлить меня. Ревновать к малявке было бы смешно, но мне нравится его настрой. В Пларде рядом с нами появятся женщины, и ему стоит потренироваться вести себя с ними – то есть, потренироваться игнорировать их.
Колесо отвалилось перед самым Плардом, в нескольких часах пути. Обоз встал среди леса – внутри массивно-разлапистой тенистой громадины, где стволы деревьев могли бы быть домами, будь они полыми под своей корой. Дорога здесь узкая и кочкастая, с подъемами и спусками. Телега с оружием получила увечье на колдобине; несколько ящиков вывалилось наземь, раскололось, выпотрошилось соломой и уважаемыми зодвингскими клинками. Пока телегу ремонтируют, мы с Эйриком стоим над разбитыми ящиками, и любуемся художественным смертоносным железом.
– Тебе надо поучиться обращаться с таким, – говорю я. – Вдруг пригодится.
Он равнодушно жмет плечами.
– Зачем? Я все равно не смогу ударить человека лезвием. Это не мое.
– А если потребуется защищаться?
– Побегу.
– А если потребуется защищать кого-то?
– Побежим вместе.
И все-таки ему стоило бы поучиться. Воителем не станет, конечно, но хоть выглядеть будет чуть внушительнее – не таким уязвимым. Сейчас он выглядит так, будто ему любое уличное хулиганье может навалять, и это, в любом случае, не очень хорошо.
Утомленный народ снует туда-сюда, сидит по обочинам, пьет отвары из бутылей, сплевывает под ноги. Тэссы нигде не видно. Может, отошла за кустики по нужде, или просто разминается. Вечереет в чаще быстро, даже стремительно. Честно говоря, хотелось бы скорее разобраться с поломкой, доползти до города, и отдохнуть в цивилизации. Мы уже долго едем, и я уже долго толстая, и тяжелые складки моего тела уже давно не ароматные. Да тут у нас никто не ароматный.
Птиц в густых кронах – тучи, а насекомых – тучи туч. На висячей ветке гусеницей возникает Минэль. Она начинает говорить со мной, и я забываю о ванне. Не до ванны становится вдруг.
– Что такое? – сразу спрашивает Эйрик, моментально ловящий все перемены моих настроений, даже если их не отражает облик. – Ты встревожена?
– Впереди засада, – шепотом отзываюсь я. – Если бы не поломка, нас бы уже разнесли.
Он напрягается, но без уверенности.
– Точно? – шепотом сомневается он. – У нас плардовские знамена. Кто осмелится сунуться к нам?