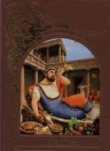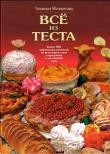Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Да, со стороны фасада творится безумие. Туда нам сейчас не надо.
========== 22. ==========
Первая городская тюрьма – единственное прохладное место в Пларде и окрестностях. Ее нет наверху, все ее тело – это три этажа вниз, под землю, и вся она влажная, осклизлая, гнилостная. Проведя там час, забудешь, что существует солнце. Вернее, помнить-то будешь, а верить – с трудом. Оно, солнце, будет казаться древней легендой, пересказанной полубезумной старухой. Так происходит у людей, а у меня с памятью получше. И мне необязательно проводить там целый час.
Место сие не похоже на ту заколотку, в которую наше трио угодило сразу по прибытии в Плард. Первая городская тюрьма – она не для уличных дебоширов и рыночного ворья, она для отъявленных головорезов, военных преступников, убийц Владык, и прочих каннибалов. Главный соперник и оппонент нынешнего городничего тоже здесь. Ведьма, наславшая мор на детей десяток лет назад, опять же здесь. На самом деле, дети в тот год массово умирали от кишечной инфекции, вызванной расплодившейся кровяной мухой, но это никому не интересно.
Я навестила ту «ведьму». У нее почти нет волос и зубов, а кожа вся покрыта язвами, которые то подсыхают корочками, то сочатся мутной жидкостью. Руки и ноги у нее согнуты неестественными углами из-за деформированных суставов. Она никогда не расчесывается, не моется, и не вытирается, испражнившись. Она весьма мало похожа на человека. Мой визит она приняла как должное, потому что привычна к гостям. С какими только исчадиями бреда, галлюцинаций и снов не вела она бесед эти годы! Сущность милосердия заглядывает к ней регулярно, и беседует по-настоящему, здоровым образом. Сущность рассказывает ей великое множество вещей! О том, каково Межмирье, и каковы боги. Жизнь за морем, и звездные просторы. Земные недра, и океанские глубины. Что было в далеком прошлом, и что есть в головах людей. Почему солнце встает и садится, и почему трава зеленая. Эта узница знает больше, чем всякие мудрецы, ученые мужи, шпионы, и наблюдательные нищие. Сущностям нельзя вмешиваться в дела людей, но иногда информирование не считается вмешательством. Никто не слушает безумцев, поэтому им можно знать больше, чем прочим. И поэтому они знают. Кстати, теперь ее можно справедливо называть ведьмой – ведь она ведает.
Камера Хальданара такая тесная, что вытянуться во весь рост он может, только если ляжет по диагонали. Такая низкая, что вытянуться во весь рост вертикально вообще никак. Остальных горцев распихали в многоместные камеры, а его сунули в одиночную, напоминающую отсек в шкафу. Только шкафы обычно сделаны из сухих досок, и в них не принято запирать людей. Хальданар выглядит затвердевшим и заострившимся, и каким-то зеленоватым, хотя провел в тюрьме только сутки. На лице у него щетина, на языке – ругательства. На тунике – капли высохшего воска, которые появились, когда ярый поклонник Торнора швырнул в него подсвечником на выходе из банкетной залы. Он сидит в углу, на камнях, припорошенных влажной соломой. В другом углу стоит сосуд с водой, а на горлышке его – ломоть хлеба. Окна в камере, разумеется, нет, но пока еще есть дверь. Когда преступник осужден, его замуровывают, закладывая дверь. Оставляя дырку, в которую можно совать миску каши и кувшин воды. Хальданар не в курсе этой тонкости, и я ему не расскажу.
Я прихожу в естественном облике, и перекидываюсь в девицу. В камере становится совсем-совсем тесно. Хальданар сразу заключает меня в объятия – ему хочется это сделать. Его тело напряженное, сжатое, как будто готовое к прыжку. Прыгать ему некуда. Я оттягивала момент прихода, потому что мне нечего ему сообщить.
– Поразительно, – говорю виновато, стоило разомкнуться объятиям. – Я не знаю, кто и почему убрал Владыку. Никто во дворце не знает, никто в Первом Храме, никто в верхнем Пларде. Я обшарила головы всех, кто хоть как-то приближен к духовной и светской элите города, и – ничего. В головах прислуги, стражи и прочих – ничего. Так не бывает, но так есть.
– Самоубийство? – быстро предполагает Хальданар, и я развожу руками в замешательстве.
Торнор не думал ни о чем таком. Неужто нечто натолкнуло его на мысль сию прямо вчера, перед самым поступком? Что такого могло произойти во время развеселого приема? Какая же досада, что мертвые головы молчат!
– Брадобрея моего не взяли? – спрашивает Хальданар подчеркнуто пренебрежительно, будто меня можно обмануть формулировками и тоном, отвести мои глаза от болезненной тревоги.
– Нет, – отвечаю с ухмылкой. – Он ушел в лес.
Я не буду повествовать ему о том, как на самом деле «ушел» Одеос. Это было ужасно, если честно. Кипучий чудак рвался в драки, в споры, в свалки, объявив врагами гильдии и Владыки все сущее, и никакого сладу с ним не было. Мне пришлось стать подкоряжным желтым скорпионом, и утихомирить его парализующим ядом. Взвалить на плечо своему подзабытому верзиле-грузчику, и попросить Эйрика помочь мне с массивной ношей. Вот так мы и попали в лес.
– Если за семь дней нас не выпустят, пусть возвращается в Зодвинг, – велит Хальданар, напряженно сводя брови.
– Он не поедет…
– Скажешь, что такова воля Владыки – поедет.
– Хорошо.
Здесь, на дне трехэтажной ямы, не слышны уличные безобразия, но они есть. Одна толпа требует освободить оклеветанного посланца Надмирья, и принести ему нижайшие извинения. Другая толпа требует растерзать иноземного паскуду, так вероломно предавшего оказанные ему доверие и честь. Третья толпа требует сию минуту найти настоящего убийцу, поскольку в плардовском духовенстве свих паскуд полно, и незачем сходу валить на чужаков. Четвертая толпа просто стенает и скорбит, лишившись светила своего, лучезарного возлюбленного батюшки-Торнора. Именно четвертые, почему-то, раздражают меня больше всех.
– Суд-то будет? – с искусственным смешком спрашивает Хальданар. – Или все решили уже?..
Вчерашнее его спокойствие схлынуло полностью. Вечером ситуация показалась ему глупостью, теперь он понимает, что речь идет о политике. Политика может выглядеть сколь угодно нелепым фарсом, будучи при этом жестокой силой. Она не стесняется выглядеть абсурдом, и это прибавляет ей силы.
– Не знаю, – отвечаю честно, глядя в стену, но наблюдая лицо. – Видимость суда точно будет, они же здесь цивилизованный народ. А про настоящий – не знаю.
В Первом Храме сейчас возбуждены другим делом, а убийцы подождут. День вскрытия Конверта пока не назначен, а у чинуш от духовенства все сухожилия дрожат от волнений, нетерпений и надежд. Как надлежит всякому главному жрецу, Торнор выбрал приемника на случай своей внезапной кончины, и запечатал его имя в три слоя плотной архивной бумаги. Тем, кто рассчитывает на церемонии вскрытия Конверта услышать свое имя, сейчас ни до чего.
Мы сидим, неловко согнувшись, хотя пространство не настолько тесно, чтобы аж сидя не выпрямить спину. Каменные стены влажно поблескивают, сдобренные рыжим язычком на фитиле свечи. Пахнет плесенью, мочой и печалью. Безнадегой, я бы даже сказала. Именно ей и должно пахнуть в могиле.
– Принеси писчий набор и бумагу, – говорит Хальданар сдавленно, как будто ему наступили на грудь. – Я был безответственным…
Хорошо. И конверт, и сургуч – все будет. Он до сих пор не запечатал имя приемника, что действительно безответственно с его стороны. Но я добавлю некоторый штрих, пожалуй – ведь имею же право! Принесу ему два листа бумаги, и два конверта.
Поверхность реки гладкая, как стекло – кажется, пойдет трещинами, если бросить камень. Сильный дождь пролил – смыл липкое пекло вместе с пылью и потом. Ранний вечер розоват и свеж, и природа видится покрытой глазурью, подчеркивающей краски, изгибы, текстуры. Солнца нет, небо в полупрозрачной пелене, и все, что под небом, застыло в четкости и покое. Мы сидим на берегу, на еще сырой траве – я в центре, а по бокам Минэль в облике эффектной брюнетки, и Эйрик в укороченных штанах и босиком. На коленях Чудоносца – закрытая книга «Истории под седыми парусами», которую он полюбил, как очаровательного щенка, и с которой не расстается. Одеос лежит на стекле реки – на спине, растянувшись, без движения. Собственное дыхание он слышит как чужое – кого-то бесконечно близкого, но отдельного, самостоятельного. Тихая теплая вода держит его на себе, как на плотном желе. Его нутро буянило и устало, и сейчас отдыхает. Он успокоился, но все еще недоумевает от перемен, случившихся в нем, и от того, что он пропустил их, не отметил. У него пять старших сестер, и ни одного брата. Поздний сын в жреческой семье – это как спасение за минуту до краха! Когда все уже решили, что наследника мантии не будет, дом опозорен, низвержен, почти мертв! Его мать – учитель языка, на котором говорят жители побережья по ту сторону моря. На их языке «одеос» это «будущее». Первое, что он усвоил – статус превыше всего. Его никогда не влекли Надмирье и прочая духовность, но жреческий сан ему был необходим так, будто именно за ним он явился в жизнь. Вся атрибутика и все условности необходимы, чтобы не посрамить род. Ему по-прежнему нет дела до того, что за границей зримого, но на смену превозношения интересов семьи пришло превозношение интересов гильдии. Фанатизм взметнулся в нем, как пиво в кружке, из-под которой выдернули скатерть. Оскорбления, нанесенного гильдии, достаточно для того, чтобы жечь. Но сейчас он лежит на упругой поверхности, и в ушах у него – плеск воды и шум крови. А перед глазами – перламутровое небо, не ясное и не затянутое, а как будто накинувшее вуаль. Безмятежное и легкое небо.
– Люди любят мучеников, – говорит Минэль, сидящая возле меня на густой траве. – Они любят не тех, кто дал им блага, избавил от напастей, развеселил, защитил или утешил. Нет. Они любят тех, кто пострадал больше, чем они сами.
Я знаю это. Но мы с тобой больше не дружим, дорогая. И больше не будем дружить никогда.
– Тех, кому не повезло, – продолжает она с напором. – С кем обходились несправедливо. Кого угнетали и терзали. Кто погиб молодым и красивым. Кого принесли в жертву.
На ней восхитительное платье – пышное, черное, кружевное. Черный – цвет разума, логики и правоты в Пларде. Члены городского правления всегда облачаются в этот цвет, собираясь на свои заседания. Судьи и магистры тоже его уважают. Минэль выглядела ровно так же, как сейчас, когда явилась в покои Торнора, и перерезала ему горло. Угольные волосы и наряд символизировали ее правоту.
Мы уже много спели о Хальданаре, а теперь – завершающие куплеты. Мы оживляем его образ таким пряным ингредиентом как мученичество. Минэль взяла нож не по собственной инициативе – она исполнила волю своего господина. Да, бог власти, с тобой мы тоже, увы, не друзья.
Одеос выходит на берег обнаженным, и набрасывает тунику на мокрого себя. Ткань липнет к коже, и слегка просвечивает. Чуть теряет в белизне, чуть приобретает в прозрачности. Панорама реки без его вытянутых очертаний кажется пустой и неприкаянной.
– А ведь это всего лишь слово, – говорит Эйрик, до сего момента думающий о том, что хочет цыпленка, жаренного на вертеле до хрустящей корочки, кувшин терпкого вина, и певицу с лютней. – Ни чудес, ни благих деяний, ни подвигов. Одна наглая болтовня подняла его. И расшевелила народ.
Сущность слова самодовольно ухмыляется из своего платья.
– Верно, – подтверждает она.
Лицо Одеоса кривится гримасой, а тело, отделившись от разума, стремглав сгибается и разгибается, подхватив «Истории под седыми парусами». Страницы обители слова рвутся из переплета, и летят в стороны мятыми клочками.
– Ты!.. – опешивший Эйрик реагирует не сразу, но радикально.
Он вскакивает в вертикаль, и уверенно бьет буяна кулаком прямо в нос. Тот роняет книгу, и отвечает кулаком прямо в глаз. Минэль презрительно фыркает, и, приняв естественный облик, уходит в Межмирье, не прощаясь. Я наблюдаю нелепую схватку, не вмешиваясь – зная, что все закончится быстро и с пользой. Крепкий двурукий жрец слегка наваляет щуплому однорукому Чудоносцу, устыдится до трагедии, и примется вымаливать прощение. И, скорее всего, при случае купит ему новую книгу.
========== 23. ==========
– Люди начинают пребывать, – напряженно молвит секретарь Первого Храма, временный глава плардовского духовенства.
При этом он глядит в окно с вниманием, как будто люди пребывают прямо во внутренний двор ратуши.
– Пока – из близлежащих поселений, – продолжает он, хотя его собеседник-градоначальник не может не располагать данной информацией.
Кабинет очень просторен, он открывается окнами с противоположных сторон здания, и пронзается солнечными лучами насквозь. Его оформление – нежно-зеленое, белое, лимонное – выглядит таким свежим, что почти дает прохладу. На воздушных ротанговых столиках и этажерках, на матерчатых стульях и кружевных ковриках располагаются кошки – лохматые, гладкие, лысые. Городничий слегка сдвинут на кошках – это единственная зазубрина на его шлифованной практичности. Он сидит в своем солидном кресле за солидным столом, и гладит мощную откормленную зверюгу, хрипло мурчащую у него на коленях. При этом мыслями он ускользнул, и безнадзорный язык его неаккуратно бросает:
– Разберусь.
Временный главный жрец, встряхнувшись, резко отворачивается от окна.
– Вынужден предостеречь вас от решительных шагов без согласования с нами, – выдает он с давлением. Голос у него слегка болтается – как рубаха, которая не по размеру.
Городничий не удерживает кислый смешок.
– Вам бы со своим решить… – бормочет он в сторону. – Что у вас происходит, господин секретарь?
Жрец весь сморщивается, как от протяжной ноющей боли, и гасит инфантильный порыв спрятать лицо в ладонях. Этот миловидный пухляш вызывает у меня желание срочно поесть сдобных булочек, запивая их сладким ягодным молоком. У него чудесные мягонькие щечки, сочные девичьи губки, и добрые-предобрые глаза цвета мшистых древесных стволов – в точности такого же цвета, как у Хальданара. Аппетитной своей ручкой он достает платок из кармана туники, чтобы промокнуть вспотевший лоб, но не доносит шелковый клочок до места – роняет на пол.
– Безумие… – шепчет он, не заметив потери платка. – Беспрецедентный случай, ваша милость!
В Первом Храме – хаос, кавардак и дым, всеобщая потерянность и кручина. Церемония вскрытия Конверта должна была впрыснуть ясности и благополучия в жреческую жизнь, но имя, выдавленное с трибуны оледеневшим горлом человека-булочки, стало шоком для каждого. Торнор назвал приемником своего сына. Выбирать родственников – это дурной тон, но не запрещено официальными правилами. Проблема в том, что мальчишке всего тринадцать, он учится в школе, и до верхней степени ему еще четыре года. А до посвящения – того больше.
Секретарь долго вглядывается в меня, сидящую на подоконнике, будто видит за кошачьим обликом сущность. Этот неравнодушный, чтящий традиции и чистоту человек симпатичен мне, и я испытываю некоторую неловкость из-за его искренних переживаний. Вокруг его сознания вьется мысль, что Торнор сошел с ума, и он шарахается от этой мысли, боясь скользнуть по ее краю. Владыка, тем более умерший, это почти божество. Усомниться в нем – это преступление против Надмирья, всего порядка вещей, и самой жизни! Мне немного стыдно за его муки, потому что Торнор был абсолютно адекватен. Он выбрал в приемники надежного, ровного и умного мужчину средних лет, одного из своих приближенных – предсказуемый и скучный выбор. Именно его имя большинство ожидали услышать, но я заменила конверт. Прошу прощения, Конверт. Получила нужные почерк и подпись, получив нужное обличие, и махнула писульку. Делов-то. Труднее оказалось снять с пальца вросшее в него кольцо-печатку, но я смогла. Немного мыла, немного терпения, и писулька была опечатана. Кольцо вернулось на место, подлинник сгинул в печи – все шито-крыто! Я чрезвычайно порадовалась данной успешной операции, и наградила себя тортом с воздушной горой землянично-сливочного крема.
Когда городничий сидит за своим рабочим столом, он выглядит не слишком внушительно. Стол громоздкий, тяжелый, высокий, а человек за ним головой похож на старика, а телом – на отрока. Он ставит локти на столешницу, отчего кисти рук у него оказываются на уровне лица, и, выглядывая из-за переплетенных пальцев, он с некой игривостью молвит:
– Парень смышленый…
– Он ребенок! – мигов взрывается секретарь, как вызревший нарыв, который чуть ковырнули хирургическим инструментом.
– Не скажите. За морем в его возрасте принимают царствование и командуют армиями…
– Он не жрец!
– Так посвящайте его поскорее!
Секретарь вдруг весь стихает, как ветер с окончанием грозы, оседает на стул из ротанга, и захлопывается в глухую раковину. Миниатюрный тонколицый дедушка, беседующий с ним из-за ветвей пальцев – без пяти минут первый император по эту сторону моря. Он завоевал столько городов, подгреб к себе столько цивилизованной суши, что среди бардов, шутов, и всяких весельчаков, стал называться воробушком на коне. Мелкая птичка, управляющая крупным скакуном, понятно? Людям осторожным, менее веселым, он стал казаться фигурой почти мистической, выходящей за границы естественного. Секретарь принадлежит скорее к осторожным, чем к иным, и в этот момент почти нескрываемой дерзости собеседника он вдруг чувствует занозу ненависти, впившуюся в живую мякоть.
«Ненависть – это страх, – думает он с тоской человека, стоящего в шаге от проигрыша. – Мне стыдно за себя. Стыдно за всех нас».
Первый Храм – единственный барьер, который этот наездник не перескочит, не заметив, не затопчет копытами, смешав с пылью. Единственная реальная узда. Они, плардовское духовенство, не могут позволить себе ни малейшей слабины.
– Я созову конклав, – говорит секретарь так тихо, как будто надеется, что его не услышат. – Мы сами выберем Владыку.
Городничий выпрямляется и вытягивается в своем кресле, чуть улучшая сочетание маленького себя с большим столом.
– Это очень смелый шаг, – отзывается он с недоверием, отлично расслышав. Он хочет добавить что-то вроде «хватит ли у вас характера?», но сдерживается.
Голосованием Владыку выбирали всего дважды в истории Пларда – когда наводнение уничтожило Конверт, и когда действующий Владыка был обвинен в измене, и его решения аннулированы. Оба случая произошли когда-то в глубине веков.
– Простите, господин секретарь, не видится ли вам эта мера избыточной? – продолжает городничий аккуратно. – Не вполне соответствующей ситуации, осмелюсь выразиться…
А собеседник непременно согласился бы с ним, если бы не эти присвоенные территории и полномочия, и совершенно новый порядок, который повис над головами, укрыв своей тенью. Хрупкий старичок нарастил такую массу, что для противовеса теперь важен каждый фунт.
– Его дядя может стать попечителем, – продолжает градоначальник мягко, как бы уговаривая и утешая.
Временный главный жрец не желает слушать, и немалым усилием сохраняет почтительный и цивильный вид. Он тянется за платком, дабы промокнуть потный лоб, вспоминает, что платок теперь на полу, а не в кармане, и непредставительно выталкивает воздух изо рта вверх, сдувая челку.
– Меня тревожат паломники, ваша милость, – сообщает он, возвращаясь к теме, прерванной и порванной темой приемника.
Люди начинают пребывать. Пока – из близлежащих поселений, но это только потому, что из дальних мест они еще не добрались. И городничего изрядно беспокоит это слово – «паломники». Потому что оно означает веру и страсть, а не просто любопытство, как ему бы хотелось. Народная вера – сила разрушительная, тайфуноподобная. Не говоря уже о народной страсти.
– Меня тоже, – признается градоначальник. Узкие прищуренные глаза его при этом шершавят гранитной крошкой. – Приговор Ставленнику повлечет за собой истерику.
– И неважно, виноват он, или нет, – вторит ему секретарь.
В этом моменте они находят согласие.
Городничий бережно перемещает кота с коленей на стол, и тот, потревоженный, презрительно встряхивается. Мелкая шерсть кружится среди пылинок в острых полуденных лучах.
– Госпожа Айола сообщила, что характер повреждений указывает на самоубийство, – говорит городничий, вставая. – Линия, угол и глубина разреза выглядят так, как если бы человек сделал его самостоятельно, своей рукой.
Секретарь встает тоже – немалое удивление поднимает его, надавив на рычаг.
– Это спорно, – отзывается он нетипично звонко. – Я лично осматривал тело…
– Вы сомневаетесь в компетенции главного городского лекаря? – градоначальник поворачивает голову полубоком, как птица в поисках лучшего обзора.
Секретарь в замешательстве, он теряется и сдувает челку. Он обучен врачеванию, как и всякий жрец, но это не ставит его вровень с главным городским лекарем.
– На нее не могли повлиять? – предполагает он быстро, пока не передумал.
При этом он вновь смотрит на меня в упор, и это не доставляет мне радости.
О чем ты, кто мог повлиять на госпожу Айолу? Уж не какая-нибудь лысая морщинистая кошка ли, у которой темное пятно на лбу напоминает яблочный огрызок?
Впрочем, я бы не слишком доверяла доктору, который не справился с кишечной инфекцией, и обвинил в многих смертях более талантливую, успешную и любимую родителями сестру.
Городничий начинает шагать по кабинету, сопровождаемый взглядами желтых, зеленых, голубых кошачьих глаз. У него поступь и осанка молодого танцора, а не пожилого чиновника.
– Если мы не найдем убийцу, – говорит он, останавливаясь перед высоким зеркалом, обрамленным костяной рамой, – нам придется его назначить. У вас есть кандидат?
Секретарь гневно щелкает зубами, отчего его милые щечки чуть вздрагивают.
– Назначать виновных – не в наших устоях, – бросает он с брезгливостью. – Владыка должен быть отмщен!
Городничий пропускает реплику – ему неинтересны сентиментальности, и всякие игры в честь.
– Если мы обвиним Ставленника, нас снесут, – произносит он с оттенком печали.
Конечно! Я же говорю – самоубийство! Показания такой важной персоны, как госпожа Айола, громко прозвучат на суде. Неважно, что городничий сам в них не верит, равно как и секретарь, как не поверит и весь Первый Храм, и самые отпетые поклонники Торнора.
– У вас были разногласия с Владыкой? – словно мимоходом любопытствует городничий, поймав лицо собеседника в зеркале.
То приобретает сероватый оттенок – даже в отражении видно.
«Разногласия… – думает временный главный жрец, в сухой ярости забывая дышать. – Я молился на него! Какие могут быть разногласия с живой святыней?!»
Он с натугой переводит дух, сдувает челку. Отросшие пушистые волосы придают его облику дружественной простоты и веселья, но в моменты умственного раздрая раздражают и отвлекают его.
«Я знаю! – думает он суматошно. – Понимаю, чего ты хочешь. Единодержавия! Ограничил полномочия Совета, упразднил Народное Вето, теперь хочешь замести в угол Первый Храм. Не позволю!»
Не только это. Городничий много деталек подкрутил в свою пользу, пока не осела пыль побед, не смолкли парадные барабаны. Он умен и предприимчив, этот тонкий старичок со смешными детскими пальчиками. Победы не ослепляют его, овации не оглушают. Он не блаженствует на волнах народной любви, вскипяченной огнем триумфа, он методично и расчетливо строит свой дом из разнокалиберных, плохо стыкующихся друг с другом, но очень прочных камней. Свою империю.
– Соблаговолите ли вы отужинать у меня на днях? – предлагает он, читая в зеркале лицо собеседника.
Секретарь освежает облик быстрой каплей улыбки.
– Это доставит мне подлинное удовольствие, – с глубоким кивком отвечает он.
Я замечаю, что стол жесткий, когда Эйрик становится мягким. Вроде все было нормально – крепко сжимающие его тело бедра, соленая кожа с запахом солнца, первозданная гармония движений и выдохов-вдохов, и, главное – ясное понимание, что к чему, и что зачем. Но… Он сдулся и обвис. Потерял интерес. Устранился. И принялся зашнуровывать штаны, как ни в чем не бывало.
– Мм?.. – тяну в некотором смятении. – Уж этих-то слабостей у тебя не было!
– Угу.
Он не испытывает эмоций по поводу события, но чувствует, что не против перекусить. Он вообще как-то рьяно полюбил перекусы в последнее время.
Я спрыгиваю со стола, поправляю одежду. Доски пола скрипят и проседают под ногами, визгливая брань просачивается сквозь стену. Окно завешено плотной шторкой, а за ним – фиолетовый вечер. Постоялый двор перегружен – он на пути стекающихся в Плард ставленникопоклонников. За отдельные комнаты пришлось платить втридорога. Пиво здесь хорошее, а постельное белье совсем ветхое – полупрозрачное, штопанное. Но выстирано нормально, почти без пятен.
– Мне пора подыскать кого-то другого, да? – спрашиваю со скукой.
Эйрик кое-как стягивает шнурком волосы в хвост. Получается очень небрежно, но ему идет. Что-то пиратское появляется в чернявом неопрятном человечке, какая-то музыка пытается звучать.
– Не знаю, – отвечает он, действительно не зная.
– Далеко ходить не надо, – бубню я, наблюдая за своей трепещущей тенью. – Симпатичный паренек по соседству!
С ареста горцев миновало уже куда больше семи дней, но Одеос не уехал в Зодвинг, поскольку я не передала ему приказ Владыки. Я перекидываюсь в стройного юношу с золотистой кожей, и, крутнувшись вокруг себя для демонстрации, простецки интересуюсь:
– На такое тельце мальчик клюнет?
Эйрик дергает ртом в легком недовольстве, и скупо бросает:
– Вряд ли.
Меняю облик на его чудоносный – копирую в точности, вместе с разгильдяйским кучерявым хвостом и укороченными штанами. Делаю поворот, являя все свои стороны, и вопрошаю с надеждой:
– А на это?
– Вряд ли, Латаль.
Он чуть-чуть раздражается, и мне это приятно. Приободренная, беру новую внешность – сухопарую строгую наружность возлюбленного Одеоса из зодвингской обители. Уж перед этой-то личиной жрец не устоит! Делаю неторопливый поворот, и застаю Эйрика хохочущим по-ребячески, нараспашку. Догадался, наконец, что я просто шучу.
– Ты сейчас спишь… – я бормочу, вдруг поймав летящую мимо мысль, как сачком. – Укрылся снежной шубой, и исчез. И ничего для тебя нет.
Он никогда не видел снега, и, тем более, шубы из него. Он не вполне понимает, о чем я силюсь сказать, да и сама я – не вполне понимаю.
========== 24. ==========
Поляна украшена яркими лоскутками, соломенными чучелками, бусами из шишек и желудей. В самом центре возвышается алтарь бога леса. Он состоит из бревен и веток, из шкурок животных и сушеного мха. На нем покоится большая миска с водой, в которой плавает главный герой гуляний – прекрасный бело-синий феотис. Он цветет всего один день в году, и заслуживает внимания к себе. Рядом высится алтарь моей госпожи, богини праздника и удовольствия. Он сплетен из гибкой лозы, опутанной тряпичными лентами, косами, шнурами и нитками. На нем покоится кувшин с вином…
Очередной праздник цветения феотиса, символизирующего окончание очередного сезона дождей. Одна из деревень долины – такая же, как многие десятки других. В каждой из этих деревень сейчас идентичное гуляние. В каждой на видном месте возвышается знамя Пларда – небесно-голубое полотнище с гордым белоснежным парусом. Солдаты посетили общину за общиной, воткнули в каждой флагшток с полотнищем, и сообщили жителям, что отныне те являются подданными Пларда, и обязаны платить дань. И что в случае возражений поселение будет сожжено, а жители – пронзены копьями, и оставлены на съедение птицам и червям. И что если кто-то имеет сомнения, то может навестить деревню ниже по течению реки, и осмотреть пепелище. Возражений и сомнений не было почти ни у кого, и желания ходить вниз по течению реки тоже. Навьюченные оружием солдаты выглядели так, что им хотелось отсыпать дани прямо сейчас, не дожидаясь срока.
Все вокруг меня так, как положено. Столы с яствами, проседающие в грунт от своей тяжести, костры, искры, песни, хороводы. Девицы и юноши прыгают через пламя, незатейливо заигрывают друг с другом, дарят друг другу витые шнурки, кожаные ремешки, и шарики из меха. Среди шнурков появилось много по-плардовски бело-голубых. Старшее поколение угощается жареной дичью и солеными грибами, хлещет вино и брагу. Жрец с покрывалом на голове стоит меж алтарей, скрещивая на груди клеймованные руки. В одной руке у него обоюдоострый нож, в другой – букетик лесных цветов. Девица в венке, в возбужденном ожидании ножа, кружится в хороводе. Лохматым котенком я сижу на коленях знойной брюнетки в черном кружевном платье. Минэль полюбила этот облик, и отказалась от облика гнилозубой старухи. Я обещала, что мы больше не будем дружить, и мы не дружим. Я просто сижу у нее на коленях. Другие присутствующие сущности недовольны нами. Ею – за то, что водится со мной, а мною – потому что это я. Презренная изгнанница, которой не место на празднике жизни, не говоря о празднике феотиса. Эй, вы, не хамите там! Природу не запретить! Пусть я заперта в Мире, но я все еще сущность! И быть мне оной до конца времен.
Небо темнеет, воздух свежеет, действо близится к кульминации. Жрец думает о том, как аппетитно благоухает жареная дичь, и что ему наверняка ничего не достанется. Минэль отрывает кусочек мяса от своей утиной ножки, и кладет на кружево передо мной. Я жую, энергично мурлыча.
– У городских жрецов мелкого пошиба теперь фобия, – бросает беззвучную реплику Минэль. – Боятся, что их отправят служить в деревню.
Угу, и прецеденты уже были. У них, бедолажек, и так все грустно, теперь еще и это. Конклав, героически созванный секретарем Булочкой, не принес желаемого избавления. Слишком многие участники воздержались, слишком разрозненными были голоса высказавшихся. Заседали пять суток, и не высидели ничего. Некоторые голосовали за Хальданара, натужно меняя почерк, трясясь над анонимностью. Кто-то вывел его имя нерешительно-бледными буквами, замалевал, и жирно, с каким-то отчаянием, написал имя другое. Кто-то, обреченно махнув рукой, поддержал кандидатуру Булочки. За малолетнего сына почившего Владыки не проголосовал никто, и тот с ликующим облегчением вернулся в школу. Плард остается без Владыки, объединенные земли – без верховного жреца, и ряды духовенства вибрируют нервами. Пользуясь ситуацией, плардовский городничий сократил количество духовных лиц в Суде чинов, и урезал снабжение Первого Храма из казны. Первый Храм в ответ не благословил военный поход на пустынный Мхемат, и поход пришлось отменить, к немалой злости городничего. В общем, тенденция наметилась тревожная. Деревенский же жрец стоит у алтарей, недалеко от знамени с парусом, и у него нет печалей, кроме взыгравшего аппетита, не находящего утоления.
Минэль привлекает к себе внимание местных. У нее благородные осанка и манеры, и платье диво как хорошо. Молодежь обоего пола заинтересована ею: кто поскромнее – бросают взгляды, кто посмелее – подходят знакомиться. Она выглядит явной горожанкой, и ее наличие будто бы перекликается с наличием небесно-снежного знамени. Город, в котором эти люди никогда не были, о котором почти не слышали и совсем не думали, начал проникать в подвижные умы.