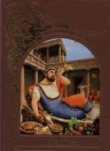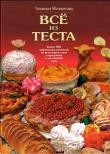Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Он слишком плотный и неподвижный. Как ночь, и как вода в пересыхающем пруду. Он не чувствует активности, нити, задачи, выбора. Просто везунчик, которого несет на гребне волны – хорошо несет, высоко, бойко, но извне, а не изнутри. По всей жизни проносит – без полноценного вовлечения. Идеальный Ставленник, честно говоря! Куда хочешь, туда и ставь…
– Тебе надо познакомиться с одним человеком, – говорю я убежденно, шаркая подошвой. – Который знает, что такое настоящий мир. Настоящая благодать души, подсвеченная гармоничной осью снаружи. Она поможет тебе понять, что ты занимаешься не ерундой. А еще она очень красивая! Она так хороша, что я разрешу тебе полюбить ее, если захочешь!
Хальданар усмехается шутке, и ничего не отвечает. Ему хочется лечь спать, но не при мне, а я не ухожу. Прижавшись виском к оконной раме, он размышляет о том, нужно ли ему больше охраны, и должен ли кто-то пробовать его еду и питье.
– Нет, – отвечаю я на размышления. – Во дворце Владыки Торнора на тебя не покусятся. Это был бы слишком опасный скандал.
– Зодвинг для них – ничто, – возражает он вяло. – Ресурс без права голоса.
– Не с Зодвингом, – я беру его руку, и ненавязчиво тяну по направлению к кровати, но он не двигается с места. – С народом.
Он все-таки поднимается, и без энтузиазма следует за мной. Тянется за руку. Он ждет, что сейчас похотливая сущность начнет приставать к нему, лезть под тунику и лапать везде, а квелый настрой помешает ему качественно ее шугануть. Я знаю, как добавить его отдыху комфорта. Я становлюсь пушистой белой кошкой, и сворачиваюсь в клубок среди подушек кровати. Он сразу зримо расслабляется, и ложится рядом.
========== 20. ==========
Клеменс сразу отказалась жить в городе, назвав его смрадным отстойником. Я люблю Плард, но не обиделась на нее, поскольку люблю верхний Плард с его белокаменными особняками, а не трущобы, похожие на один громадный барак из рассохшихся досок. Я могла бы наворовать денег на жилье в более-менее пристойном торговом квартале, но наша огородная венивийка выбрала ферму. Кукурузное поле, кричащие индюки, мозолистые крестьяне в соломенных шляпах, мытье в кадке под открытым небом – вот она, идиллия. Мы арендовали две комнаты в просторном доме большой суматошной семьи, и Клеменс вспомнила счастье держать в руках мотыгу, а мы с Эйриком больше полюбили нашу работу по внедрению Ставленника в умы и сердца людей. В свободное от прославлений время мы с ним прятались от фермеров и индюков на берегу реки, в искристом ее течении, в сочной махине леса. Мы даже построили шалаш в лесу, и разок заночевали там, но наутро Эйрик ныл, что у него затекла шея, вступило в спину, стреляет в колено и першит в горле, и менять добротную кровать на настил из веток мы больше не стали. Если приходить в дом попозже, когда хозяева уже завязали с вечерним пением под недозрелое вино, то все нормально.
От города до фермы недалеко – можно пройтись пешком, не утомившись. Мы с Хальданаром шагаем бодро, как дети, направляющиеся на рыбалку. Я – в голубом платье, он – в темном балахоне с капюшоном, призванном служить маскировке. Он не хочет общения с заинтригованным людом, не хочет пожинать славу. Мы идем знакомиться с Клеменс, потому что меня тянет их познакомить, а его утомляет дворец Владыки, и весь тамошний быт. Он желает зелени, а не белизны. Земли, а не мрамора. Воздуха, а не духов. Мое общество ему приятно, оно его не дергает. Не вызывает бурь, разрядов, напряжений. Он шагает со мной, как с сестрой – связанный некой историей, и не более. Будто я кошка, а не женщина. Будто не было у нас иглы, постели, слез. Вернее, были, но переработались в приятельство, как опавшие листья – в перегной. Удобрение для будущей жизни. Ему хорошо сейчас, он чувствует себя свободным – от гильдии, от меня, от человечества. У его сандалий очень тонкие подошвы, и он чувствует нагретый грунт под ногами – утрамбованную волнистую колею. Его лицо чувствует солнце – резкие лучи, прилипающие к коже, как расплавленный воск. Небо такое пронзительно-яркое, что жжет глаза. Травы такие пахучие, что хочется пробовать их на вкус.
Сейчас полдень, наши крестьяне обливаются потом в своих шляпах, и ждут обеда. Клеменс среди них нет. Из разума старого мужчины, который потеет в поле скорее в качестве талисмана, чем рабочей силы, я извлекаю знание о том, что она ушла на прогулку в лес вместе с Эйриком. Что отправились они недавно, менее часа назад, прихватив с собой мешочки для трав и еду для обеда. Что вернутся они нескоро, в общем. Это досадно.
Чудоносец наш выразил желание учиться травничеству. Сказал, что вдоволь намаялся ерундой и гадостями, и пора ему позаниматься чем-нибудь достойным. Клеменс встретила его идею с восторгом – людей, почитающих растения, она любит почти так же, как сами растения. Она взялась водить его по лесу, отыскивая ценные кустики и былинки, выбирая самые подходящие листики и побеги, демонстрируя их правильную заготовку. Потом они сушили добычу, связывая невзрачные венички и развешивая в сарае на перекладине, раскладывая пучки на нагретых досках. На кухне они кипятили отвары (порой зловонные); толкли свои веники в порошок, делали из них мази, смешивая с водой и маслами. Настаивали семена и корешки на самогонке. Эйрик постигал науку добросовестно, но будь венавийка учителем танцев или математики, он вникал бы ровно с той же отдачей. Ему неважно, во что вникать, главное – быть при деле. Когда он при деле, он чувствует, что у него есть будущее.
– Показать тебе шалаш? – предлагаю Хальданару, раз запланированное знакомство пока не сложилось. – Он роскошный! Не как те, в которых мы ночевали, когда плыли в Плард. Из него ноги не торчат, и он смешан с зарослями – так, что не сыщешь.
Хальданар улыбается и одобряет. У него превосходное настроение – как у работяги в долгожданный праздник. Он легок и игрив сегодня, и, предложи я ему охоту с сачком на васильковых стрекоз, он бы с удовольствием согласился. Вознамерься я нарядить его в венок из цветов, в бусы и погремушки, раскрасить лицо свеклой и сажей, он бы не воспротивился. Только посмеивался бы надо мной, как над умильным недорослем, и ожидал щекотки.
– Сущность слова не любит глупости, – говорит он, вышагивая по богатому пастбищу в сторону леса. – Не хочу просить ее узнать адрес малявки.
Бестолковый слуга выбросил письмо Тэссы, где указан обратный адрес, а его тянет ответить. Тэсса не умеет писать, она прислала ему в гильдию рисунок – коряво, неловко изображенную тетеньку с тощими ногами и большим животом, которую приобнимает громадный мужик со жреческими решетками на предплечьях. Оба они пышут зубастыми улыбками, а за ними – домик с кособокой крышей, корыто для стирки, и гирлянда развешенного для просушки белья, растянутая между сучковатыми столбиками. Таким образом она сообщила, что вышла замуж за того жреца, который спасался от маменьки, что ждет ребенка, имеет жилье и быт, и что вопиюще счастлива. Желание Хальданара ответить той жалкой дурочке, которая рвалась лобызать ему колени и служить до могилы – одна из самых бессмысленных, и вместе с тем милых вещей, что я встречала в Мире.
– Попрошу Минэль узнать, – обещаю снисходительно. – Я глупостей не боюсь.
Хальданар обгоняет меня на шаг, преграждая путь, и с теплотой целует в кромку волос. А потом мы идем дальше.
Лес, выросший вокруг нас, окутан смолистой сладостью. Разогретые стволы источают столь непобедимые ароматы, что Хальданар растекается и плывет, будто его опоили каким-то особым зельем. (Несомненно, в багаже нашей венавийки есть и такое зелье). Ему хочется обняться с деревом, но он стесняется меня, поэтому просто сбрасывает капюшон, и садится на землю.
– Там рядом есть ручей, – я сообщаю о детали шалаша, размещаясь по соседству. – Воды по пояс, но освежиться – хватит.
Под глухим балахоном его телу тяжко, и освежиться он не прочь. Ручей торопится к реке, серебрясь в зарослях, как цепочка в шевелюре. Ночью он журчит так, что хочется мурлыкать даже в человеческом обличии.
Хальданар глядит в полог из-под отяжелевших век. Его взгляд – пьяный и влюбленный. На его пояснице приятно трепещут мурашки.
– Это не скалы, да? – я понимающе усмехаюсь, любуясь им, и наслаждаясь его наслаждением. – Не лысый красно-коричневый Зодвинг.
– Да, – отвечает он упавшим голосом. – Не Зодвинг.
Он хочет пить, но ленится достать фляжку из заплечного мешка. Благодать, что навалилась на него, мешает ему даже держать глаза открытыми. Сомкнув веки, он забывает про меня, и мне сразу хочется толкнуть его в бок. Птицы, пением которых звенят кроны, вдруг становятся почти докучающими. Я держусь, не тормошу его. Чувствую, как древесный сок течет по его жилам, как былинки трав оплетают нервы, как семена цветов дают ростки в кости. Он смешивается с лесом, становясь почти несуществующим. Видимым, но бестелесным. Мы так сидим довольно долго, а потом он вырывает себя у леса, и встает на ноги. Его взор становится осмысленным, и натыкается на меня.
– Покажи мне свой шалаш, Латаль, – говорит он добродушно. – Очень хочу его увидеть!
Он протягивает мне большую руку, помогает подняться. Стряхивает липучий вьюн с моего подола. Вьюн на собственной одежде он не трогает.
Трава у шалаша примята, и мне это не нравится. Мы с Эйриком не бывали здесь после ночевки, ковер имел возможность распрямиться и воспрянуть. Эй, не для того я выбирала место погуще и потенистее, чтобы шастали всякие! Это мое место, и только я решаю, кому тут быть, а кому не быть!
– Наглецы… – бурчу я, осматривая явные следы человека, ныряющие прямо в зев шалаша. – Свой постройте!..
Восприятием сущности я не нахожу постояльца внутри, так что подкрасться и рявкнуть – не вариант. Выместить гнев уже не на ком. Я подхожу нормальным шагом, не крадучись, заглядываю в проем, и оседаю на землю – подламываюсь. Хальданар, слегка напрягшись, также заглядывает в проем, но видит не то же самое, что вижу я. Он обнаружил там мертвую женщину в удобных штанах и с ножом в груди, а я обнаружила Клеменс. Это принципиально разные вещи, на самом деле – просто женщина, и Клеменс. Хотя длинное лезвие, будучи вонзенным в сердце, одинаково убьет и одну, и другую.
– Латаль, – Хальданар слегка трясет мое плечо. – Пойдем.
Его голос прижат, приглушен, но спокоен. Его, разумеется, не напугать ножами, трупами и кровью. Конечно, я не напугана тоже, но имею странное чувство, будто и в меня что-то вонзили. И будто это даже нанесло мне ущерб, как если бы я была человеком.
– Это она, – давлю из себя. – Венавийка.
Хальданар твердеет, подбирается. Его разум становится хрустким, как морозная ночь. На четвереньках он проникает в шалаш, касается тела. Узнает, что оно еще не остыло. Осматривает настил из веток с подсыхающей листвой, находит тряпичную сумку с мешочками для сборов, с глиняной бутылкой для воды, ломтями вареной тыквы в маленькой плотной корзинке. Он заглянул в сумку, будто мог найти там ответ. Заглянул в раскрытые стеклянные глаза.
– Пойдем, – говорит он снова, выползая наружу. – Скажем страже.
Я хватаю его за руку, не поднимая лица. Таращусь в его сандалию, жую свои губы, и сипло цежу:
– Не скажем.
Я знаю, что убийца здесь, рядом, и не торопится скрыться. Я заметила живого человека одновременно с мертвым. Он за кустарником у ручья, и станет видимым, если пройти несколько шагов на журчание воды, и раздвинуть ветви. Но я боюсь туда идти, и потому сижу.
Как же назойливо горланят птицы! Как враждебная толпа, забрасывающая ругательствами отщепенца, и готовящаяся потянуться к камням.
Вяло, будто изможденный воин, я делаю взмах в сторону ручья, затем утыкаюсь лицом в ладони, и жду, что Хальданар разберется. Пусть сделает хоть что-нибудь! А я посижу.
Замешкавшись на миг, он следует заданному направлению, преодолевая богатую растительность – аккуратно, почти по-охотничьи. Полы его балахона собирают рваную паутинку и сочные точки тли.
– Латаль, – слегка повысив голос, зовет он из-за колышущейся ветерком перегородки, но я не шевелюсь.
Отстаньте от меня, я не хочу. Отстаньте оба.
На рыхлом бережку, на мягких бугорках, густо поросших налитыми травами, возлежит Эйрик, и глядит в пространство. Части его тела хаотичны и расслаблены – он напоминает человечка, вылепленного из теста, и уроненного на пол. Он прилип к поверхности, и не чувствует себя. Движение пальцем для него равноценно поднятию тяжелого валуна. Хальданар глядит на него в тусклой растерянности, и неосознанно поддевает его пассивный башмак своей сандалией.
– Эй, – говорит он, и вновь поддевает башмак. – Ты зачем ее грохнул-то?
Догадался, кто приготовил яд из землецвета, вот зачем. Эти фигурные бархатные листы сейчас хранятся в сумке, вместе с другой добычей, вместе с питьем и тыквой. Клеменс напрасно показала ему эти листы, наткнувшись на них немного выше по течению ручья. Она ужасно сглупила.
– По тебе муравьи ползают, – сообщает Хальданар, склонившись над распластанным организмом. – В глаза могут залезть.
Крупные зеленовато-прозрачные муравьи бегают по лбу, по губам, по шраму в виде перечеркнутого шалаша, по четким угольным бровям. Такие муравьи водятся только здесь, в этой речной долине. Называются «водянистые».
Эйрик не реагирует на насекомых и жреца – не потому, что рисуется, а потому, что впрямь не замечает. Он подозревает, что умер, и я подозреваю то же самое. Хальданару его жалко, а мне – нет.
– Ты ж не такой… – бестолково бормочет Хальданар, присаживаясь на корточки у кучерявой головы. – Пернатый не обидит никого – я помню. Она напросилась, наверно? Напала, да? Сама виновата?
Я без понятия, виновата Клеменс, или нет. Я ведь не сущность справедливости. Я сижу себе в позе перепуганного ребенка, забившегося в угол, и не собираюсь влезать. А Эйрик в это время вскидывается, хватает Хальданара за наряд своей единственной рукой, на которой засохли тонкие потеки крови, и истошно кричит ему в ворот:
– На каторгу не пойду! Не пойду, понял?!
– Не пойдешь, не пойдешь, – бубнит тот опасливо, не отцепляя от себя чумазых пальцев. – Кому ты там нужен, увечный? Вкалывать-то не сможешь…
Он не на шутку напуган – не фактом убийства, а липким безумием, которое видит в черных моргающих дырах перед собой. В этих дырах такая тьма, что даже богам неведомо, что за отродье может выползи оттуда.
Эйрик взлетает над травой, чтобы бежать без цели, но мощные руки удерживают его, делая бег невозможным. Они тащат его к ручью – волокут, как бессмысленно трепыхающуюся в сетях рыбу – к середине, где глубже. Погружают в воду, вталкивают в нее с макушкой, и полощут там, треплют, промывают. Игнорируют брыкания, пузыри и фырканья, и всякие прочие сопротивления. Хальданар – он как утес. Если ты не сущность, то не берись бороться с ним. Если ты не тот, кого он любит – то не берись тем более.
Наконец, он решает, что хватит – вытаскивает на воздух выстиранные лохмотья. Эйрик висит в его зажиме, как полевое пугало, пережившее бурю, и ему кажется, что нет венавийцев, плардовцев, сущностей, леса, войны, перьев, зато есть Ставленник – настоящий, вышедший из чрева бога, или из какого-то похожего места. Это неважно, впрочем, откуда он вышел. Главное – куда пришел. И – зачем пришел. Затем, чтобы стало легче, и чтобы мир получил какую-то награду за то, что он существует. Ведь бытие без воздаяния – это слишком жестоко. Каждый заслуживает оплаты своего труда.
– Отпусти, – шепчет Эйрик, вернувшись в жизнь, и Хальданар отпускает.
Они стоят посреди ручья, по пояс в торопливой искрящейся воде, облюбованной мальками и стрекозами, и голосистыми лягушками по ночам. Ил под их подошвами поднимается, холодно ползет к голым щиколоткам. Ветви деревьев колышутся тенями на их мокрой коже.
– На вашей ферме полно лопат, – молвит Хальданар серьезно. – Ты воруешь, я копаю.
На самом деле он намерен отправить на воровство меня. Эйрику он это говорит, чтобы тот собрался. Переключился с бесплотного болезненного хаоса на конкретную насущную задачу, которая решаема. Но мне думается, что они вполне способны справиться без меня. Я перекидываюсь в рябую горлицу, и улетаю прочь.
========== 21. ==========
Полярную белизну дворца забрызгало красками. Желтой, красной, синей, пурпурной, и всеми прочими. Как будто в метель добавили конфетти. Эти пестрые вкрапления, кружащие среди снежинок-жрецов – гости, жители верхнего города разной степени достопочтимости. Нарядные, словно клумбы; блестящие, словно леденцы. Светские мероприятия, проводимые в резиденции Владыки духовенства – исключительно плардовская добрая традиция. Ни в одном другом городе не смешивают цыплят с жеребятами. Я сегодня наряжена леденцовой клумбой, а вокруг меня происходит бал. Присутствие сущности вина вопиюще уместно здесь, и я сама вопиюще довольна своим присутствием. Здесь, где музыка, шлейфы и пудра. Дурман-напитки, смех и маски. Игры, заигрывания и подыгрывания. Где в промежутках между бокалами, танцами, и забавами с бегом в мешках, решаются судьбы. Все сливки Пларда, а, значит, и обширных земель от пустыни на западе до пустот кочевников за горами на востоке, сейчас собраны здесь. Если запереть двери и поджечь дворец, громадный зверь лишится головы. Меня просто сотрясает восторгом от этой мысли! Хальданар, любимый, мы с тобой так прекрасны! Мы добрались почти до неба! Эти люди пожирают нас глазами, перешептываются о нас в уголках, отталкивают друг друга в стремлении представиться нам, целуют наши руки. Ладно, все перечисленное происходит с тобой, а я лишь сливаюсь с изысканной публикой, но это неважно, ведь твой успех – это мой успех. Ведь ты – мой Ставленник.
Он не участвует в веселье. Не пьет, не танцует, не бегает в мешке. Но наблюдает с интересом, и иногда притопывает в такт музыке. Сначала он держался подле Владыки Торнора, перебрасывался с ним шутками и любезностями, потом тот удалился передохнуть, и Хальданар остался предоставленным самому себе. Вереница ищущих знакомства сразу потянулась к нему. Шевеления в сознаниях людей разнообразны. Кто-то считает себя счастливым в невероятной возможности прикоснуться к божественному. Кто-то прикидывает шансы извлечения из громкой фигуры выгод. Кто-то полагает, что вся эта шумиха со «Ставленником» – пыль и дурь, но на всякий случай прокладывает к нему мостик, потому что «а вдруг?». Кто-то убежден, что горный выскочка – мошенник, и жаждет вывести его на чистую воду, снискав себе почета на его низвержении. Есть и такие, кто еще не определился, и пока осторожно присматривается. Среди них городничий, который достаточно мудр, чтобы не ограничивать себя зрением с одной точки. Есть здесь и те, кому вообще неинтересен зодвингский гость, а интересны закуски и упругие колыхания в декольте. Есть и такие, кто перебрал с напитками, и желает теперь лишь прилечь.
Снаружи к стеклам окон липнут сумерки, плотные, как мармелад, а изнутри в них долбятся свечи и бриллианты. Запах пота все явственнее доминирует над запахами духов. Моя сестрица Фиаль – сущность танца – притворяется золотой рыбкой в восхитительном аквариуме в виде колонны, заменяющем собой одну из настоящих колонн. Артистка с зубодробительным голосом, жена толстого отдышливого банкира, который по собственному саду гуляет на тележке, готовится затянуть романс. Ее связки устроены таким диковинным образом, что разговаривает она до ужаса противно, а поет замечательно.
Но слушаем мы ее недолго. Грубый вскрик, похожий на отрывистый рык, прихлопывает веселье.
– Ставленник, стоять! – рявкает стражник, кожаный и металлический, будто полностью одетый в ботинок.
Хальданар и без того стоял, так что приказ не кажется уместным. В первый миг я нахожусь в той же растерянности, что и прочая публика, а во второй – понимаю.
– В чем, собственно, дело? – вопрошает городничий, взирая на шумного охранника, как на разлаявшегося без причины пса.
Тот выкатывает грудь и обнажает меч, и следом за ним звякает железками остальная стража.
– Владыка Торнор мертв, – с надрывом извещает человек-башмак. – Убит! Зарезан! В собственных покоях!
Предвидя бардак, городничий вскидывает руку в привлекающем внимание жесте, и по-отечески молвит:
– Прошу спокойствия!
Народ топчется на месте и оглядывается друг на друга, как бы не зная правильного поведения, и рассчитывая повторить за соседом. Стражники-зодвингцы следуют примеру местных, хватаясь за оружие, но Хальданар быстро усмиряет их.
– Убрать оружие! – командует он. – Резни не будет!
Зодвингцы нехотя зачехляют железки, волна ропота бежит по озеру нарядных людей. Кто-то пьяный требует вернуть музыку, кто-то чувствительный, не откладывая, плачет. «Наши» жрецы ненавязчиво стекаются к Хальданару, местные – утекают от него подальше.
– Арестовать всех горцев! – приказывает башмак, и от такого хамства мне самой хочется схватиться за топорик, а может за клыки.
– У вас есть основания обвинять гостей? – хмуро спрашивает разумный городничий.
Он разговаривает негромко, но его прекрасно слышно. Его маленькая седая голова запрокидывается при взгляде на рослого первого стражника, но вид его при этом внушительнее и мощнее.
– Суд решит, ваша милость, – немного сбавив грохот, отвечает начальник охраны. – А мы примем меры.
До собравшихся помаленьку начинает доходить, что шум с обвинениями – это верхушка айсберга, а самая суть здесь в том, что Владыка-то мертв. Владыка духовенства Пларда и обширных земель, от пустыни на западе до пустот кочевников за горами на востоке, а не абы кто. Суета поднимается, как закипающее молоко, и мне уже хочется смыться из дворца, который так экстремально резко перестал гармонировать с сущностью вина.
Конвоируемый стражниками, Хальданар шагает гордо, задрав подбородок до потолка. Сейчас в его облике куда больше достоинства и стати, чем в минуты шествия меж колонн в саду, при торжественном знакомстве с Торнором. И здесь не бравада – он на самом деле не воспринимает обвинения всерьез. Убежден, что это просто бестолковость паники первого момента, и очень скоро недоразумение разрешится. В невиновности каждого из своей свиты он уверен, как в собственной, а я размышляю о том, мог ли Поросенок оказаться столь недальновидным и простым. Его нет в этом зале, как и многих других – я не дотягиваюсь до поросенковского сознания. А Хальданар, взглянув на меня, выдает мне мысль: «Жаль Торнора, он вроде ничего». Не о том ты думаешь, друг, не о том. Мы твой образ лучезарный строили-строили, а тут – такая грязь. Такая подстава!
Ночлежка выглядит столь прилично, что ее даже не тянет называть ночлежкой. Она расположена в нижнем городе, но предназначена для крепко стоящих на ногах купцов, и всякой заезжей интеллигенции. Она выстроена из серого камня, декорирована раскрашенными глиняными плитками, а на крыше у нее развевается знамя без смысла – просто большое ярко-голубое полотно с пушистыми облаками. Фасад ее подсвечен факелами, а продолговатые окна ярки и приветливы от щедрых свечей. В этой гостинице ничто не скрипит, не проседает, не отваливается. Ничто не шевелится в постели, и не пристает к подошвам. Наша комната – за дубовой дверью с вставками из темного непрозрачного стекла, и я вхожу в эту дверь со свертком в руках.
– Переоденься, – говорю небрежно, бросая сверток со шмотками на стул.
Эйрик и Одеос сидят на кровати – с разных ее концов, удобно обложившись подушками. Один – просто сидит, другой – с книгой на коленях. Хальданар оставил своего доверенного человека присмотреть за нестабильным Чудоносцем – чтобы не удрал, и еще каких глупостей не сделал. Сам проявил инициативу, без просьб и предложений. Какой же он молодец! Теперь жрец читает Чудоносцу вслух, а тот с интересом слушает. «Истории под седыми парусами» – сборник сказок о всяких морских приключениях, глубоководных чудовищах, затонувших сокровищах. Как по мне, ерунда и глупость, но людям такое нравится.
– Объяснись, – велит Одеос, догадавшись, что предложение – к нему.
Ему не чужд жреческий снобизм. Не для того он учился годами, строго придерживался устоев зодвингской обители, пережил церемонию посвящения в сан, чтобы теперь какая-то мелкая сущность вина (да еще изгнанная!), ему указывала.
– Всех ваших арестовали, – отвечаю просто. – Жрецов, стражу, прислугу, Владыку. Не хочу, чтобы и тебя – тоже.
Я принесла ему костюм горожанина – такой, в каких ходит по улицам простое приличное население. Может, будет лучше, если он смешается с толпой, и уберет подальше свой нож, у которого рукоять вся в зодвингских рубинах.
Выслушав мой короткий рассказ – сухие сводки – он движется к свертку размеренным шагом, и тем самым ножом протыкает его многократно. Люди. Почему каждый из вас имеет пятна на разуме? Почему никто не адекватен полностью? Зачем ты испортил добротный наряд? Между прочим, купленный, а не украденный. Полегчало тебе? По моим ощущениям – нет.
На самом деле, этот момент для меня драматичен. Речь не о том, чтобы замаскировать и прикрыть жреца, а о том, чтобы не дать ему метнуться к страже с требованием ареста. Потому что он готов. Он хочет пить эту чашу со своими, а не отсиживаться отщепенцем. Момент драматичен для меня понимаем: Одеос любит Хальданара сильнее, чем я.
Он перемещается к окну – тем же ровным, благородным шагом. Вытягивается перед ним в свой солидный рост, заслоняет вечер массивным телом. Все тело у него дрожит, и вся душа дрожит. Как лист железа, по которому ударили молотом.
– Я не буду прятаться, – говорит он.
Голос у него дрожит. Гнев и боль сплетаются в нем, как волокна каната. Я не знаю, почему я такая незадачливая, никчемная сущность. Почему людям, которые рядом со мной, вечно плохо. Почему, имея перед ними великие преимущества, я никогда никого не могу уберечь. Хотя хочу! Видят боги, я никому из людей не желаю зла! Кроме тех, кто причиняет зло мне, но сейчас не о них.
– Они подставили чужака, – пресно говорит Эйрик из подушек. – Удобно.
Да, наверное. Решили заменить Владыку, использовав момент. Может, руками кого-то из «наших» – кого-то слабого и подгнившего; может, собственными руками. Или это не духовенство, а городские вершители. Или психанула одна из любовниц Торнора – вариант дурацкий, но у людей чаще всего бывает по-дурацки. Это для них наиболее естественно. Я не удивлюсь, даже узнав, что Торнор совершил самоубийство. И я, конечно, очень скоро все узнаю – как только заставлю себя вернуться в тот опороченный дворец.
Я не смотрю на Эйрика – ни на лицо, ни на нутро. Не смотреть на лицо легко, на нутро – сложно, но я стараюсь. Он похож на железную болванку – заготовку для меча. Плотный, однородный и глухой. Никаких шевелений не происходит в нем, никаких импульсов и разрядов. Он совсем остывший, а я… как будто бы тоже. Я не хочу касаться губами его ресниц, обводить шалаш на щеке кончиком языка. Не хочу сжимать его пальцы. Вдыхать его кожу, слушать сердце. Щекотать его чуткостью свою чуткость. Если он выйдет из комнаты, я ничего не лишусь.
Он подходит к Одеосу с книгой, протягивает ее раскрытой на нужной странице. Той, на которой они остановились.
– Читай, – говорит он. – Интересно.
Тот, дернувшись, бьет его взглядом, похожим на хлыст.
– Не шути со мной, каторжник, – цедит жрец с высокомерной яростью.
Но Эйрика не трогает это слово, ненавистное ему прежде, и не трогает тон. Он хочет знать тайну зачарованного секстанта, найденного в песке бухты Тихой песни.
Одеосу до ядовитого жжения стыдно. В его семействе, до чрезвычайности уважаемом и цивильном, убеждены, что то, как ты обращаешься с обслугой и прочей чернью, характеризует тебя. Что с низшими подобает быть учтивым, внимательным и милосердным, дабы держать планку, и не срамить свой род.
– Прости меня, – просит Одеос, понурив голову, и забирает сборник сказок. – Давай читать.
Он знает «Тихую песню» почти наизусть – с сестрами замусолили в детстве. Этот том, как сувенир, он держит при себе – забрал из родительского дома, и бережно хранит. Живописуя превращение героя в одно из щупалец стощупальцевого монстра, он смотрит не в текст, а на меня. Его глаза похожи на лужицы – бледно-голубые и влажные. Он никогда не пьет вино – вообще не пробовал ни разу в жизни. Он не любит дурман и искажение, а меня считает вредной и загрязняющей. Ему кажется, что я могу превратиться в щупальце.
А за окном – какой-то шум, и меня тянет выглянуть наружу. Чуть дальше по улице, в факельном свете, два человека ссорятся, ожесточенно споря и толкаясь.
– Пустили змею в постель! – вопит один, с отвращением плюясь. – Таких гостей – к коням вязать, да на куски!
– Он Надмирьем благословлен! – надрывается другой. – Его злодеи оболгали!
Слов и красок они не жалеют, и все слова с красками – в этом духе. (Люди так быстро разносят новости, как будто им помогают сущности!) Вот уж в ход идут кулаки и пинки, вот дискутирующие стороны обрастают соратниками. Потасовка быстро становится похожей на свалку, появляются стражники, и им тоже достается. Клубы агрессии заволакивают улицу, как дым свирепого пожара. Свалка растет. Мужчины ныряют в ее глубь, на ходу засучивая рукава и подбирая камни; женщины бранятся из окон, швыряя сверху крупные картофелины и бараньи кости. Дети торопятся опрокинуть на враждующих ночные горшки. Собаки заливаются лаем, но их перебивают, теснят. Морская сказка в нашей комнате больше не звучит – захлебнулась. Эйрик стоит возле меня, наблюдая за диким бардаком внизу, и от него пахнет безветрием.
– Мы заменим одну войну другой, – говорит он вяло. – Бог власти хотел не этого.
Верно. Этого никто не хотел.
Дверь открывается без стука – не с ноги, но все-таки довольно грубо. Щуплый сутулый мужичок, похожий на старческий мизинчик, возникает на пороге. Это хозяин гостиницы, и он спешит.
– Выметайся-ка, друг, – резко обращается он к Одеосу. – Мне погромы не нужны.
Жрец вскидывается, разметав подушки, ошеломленный и оскорбленный до кончиков ногтей.
– Что ты сказал? – шипит он подобно кипящему маслу. – Ты…
Ему трудно осознать эту нереальную непочтительность. Он машинально тянется к ножу на поясе, а я целенаправленно тянусь к его руке, хватая локоть.
– Мы уйдем, – заверяю хозяина. – Спасибо тебе, добрый человек.
Я благодарю его за то, что не позвал стражу. Он собирался, но рассудил, что это было бы низко. Он не в курсе, кто виноват, а кто невинен, и решил остаться в стороне от всех движений – чиновничьих и народных.
– Я не добрый, – сурово рубит он. – И лохмотья свои заберите, – он тычет в стул с дырявым свертком.
Я послушно беру тряпье, и осторожно увлекаю бурлящего жреца под локоток к выходу.
– Через задний ход, – чеканит мизинчиковый мужичок. – Я выведу.