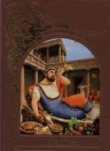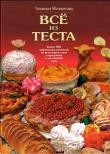Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Порт – как город в городе. Здесь больше жизни, чем в остальных районах Пларда, больше риска, грязи и тягот. Здесь есть деньги, но маленькие и трудные по сравнению с теми, что Хальданар мог бы зарабатывать обязанностями жреца. Он мог бы с достоинством ступать по улицам в белой мантии, служить при храме, где снабжают мягкой постелью и богатыми яствами, мог бы вести душевные беседы с ищущими его мудрого слова, купаться в почете на праздниках. Один вечер торжества в зажиточной семье дал бы ему больший заработок, чем две недели ежедневного грубого труда в порту. Но он не хочет. У него все время болит спина, а ладони покрыты многослойными мозолями, потому что на содранных мозолях сразу образуются новые. К ночи он так утомлен, что даже не замечает, как я прихожу к нему спать. Мы почти не проводим время вместе, и это печалит обоих, но он твердо решил, что больше не жрец. Если бы служение богам состояло лишь из благословения младенцев, свадебных церемоний, прощаний с умершими старцами и бесед с мающимися душами, он бы вернулся к ремеслу, но ритуалы с жертвоприношениями – неотъемлемую часть профессии – он отринул навек. Он пообещал себе, что более не убьет ни одного невинного, и ради выполнения обещания грузит ящики и бочки в порту.
Мне не нравится эта жизнь. Я хочу красивый дом с садом, хочу гулять по лесу, купаться в реке и в море, карабкаться по деревьям, точить когти о пни, нежиться в чистой ароматной постели. Хочу слушать музыку и разговаривать с приятными людьми, и чтобы приятные люди чесали мне шейку и гладили холку. Хочу носить платье из нежной дорогой ткани, и играть в догонялки с босыми мальчишками. Хочу, чтобы Хальданар целовал мою кожу и перебирал волосы, и чтобы в догонялках я была самой быстрой. А вместо этого я имею то, что имею.
Чтобы хоть как-то развлекать себя, я хожу в кабак по вечерам, пью ром и рассказываю забулдыгам о том, как участвовала в сражениях в горном Зодвинге. Я могу сочинить себе любую биографию, наполнив ее правдоподобными подробностями, а про вояку сочиняю потому, что люди любят вояк. Мужчины окружают меня за столом, угощают ромом, хлопают по плечу. Женщины проявляют ко мне интерес, несмотря на то, что я весьма некрасива лицом и незатейлива манерами. Я вещаю про жаркие битвы и славные победы, показываю шрамы, которыми специально обзавожусь при принятии облика. Я забавляюсь так несколько вечеров, а потом это приедается, и я просто шатаюсь по грязным соленым кварталам, полным пьяных матросов и работяг, проституток, кошек, крыс, воров и нищих.
Однажды я встречаю Беленсиана. Он стоит на большом ящике, вокруг него горят факелы, а перед ним – публика, жаждущая забав. Чтобы привлечь к себе больше внимания, он выглядит еще чуднее, чем в лесу. У него выбеленное пшеничной мукой лицо, губы покрашены углем, а вокруг глаз – пятна свекольного сока. В проколотых ноздрях покачивается кольцо с колокольчиком. Вместо перьев в его волосах торчат длинные тонкие ножи, а белки глаз натерты зернышками до пугающе кровавого цвета. Он громко, экспрессивно рассказывает о том, как в будущем люди будут летать по небу на огромных сферах, наполненных горячим дымом, как смогут погружаться на дно моря в громадных стеклянных бутылях, как корабли станут плавать без парусов и гребцов, изрыгая пламя, дым и искры. Почти никто из публики не верит ему, но народу хочется сказок и фантазий. Одна женщина выходит вперед, и робко спрашивает, смогут ли люди двигать облака, когда начнут летать на шаре. Она приехала в Плард из общины земледельцев, и ее интересуют дожди. Всегда помня, что мед продавать выгоднее, чем деготь, Беленсиан без раздумий отвечает, что можно будет не только двигать тучи, но и создавать их, когда нужен дождь, и уничтожать, когда нужно солнце, и менять так, чтобы избежать грозы и града. Женщине нравится ответ, и она кладет в корзинку прорицателя половину мятного пряника. Одну половину она съела вчера, а вторую хотела сохранить до выходного дня, но сейчас решила, что обойдется без пряника в выходной.
Насытившись вздором чудака в побрякушках, люди расходятся. Я сижу на перевернутой бочке в тени, и не тороплюсь уходить. Беленсиан изучает прибыль. В корзинке – четыре медяка, деревянное кольцо маленького размера, пестрый витой шнурок из тех, что любят селяне (некто анонимно пригласил ясновидца на свидание), подсохшая половина пряника, и длинная коричневая папироса из заморского груза. Внизу стоит почти пустая бутылка дешевого вина без пробки. Беленсиан отставляет корзинку, отдельно рассматривает кольцо, тонко изготовленное из осины, и надевает его на мизинец. Усаживается на свою трибуну-ящик, закуривает папиросу, и замечает, наконец, меня. Он машет мне приветственно, и я подхожу, приветственно маша на ходу.
– Поклон, приятель, – бодро говорит он. – Будешь курить?
Я отрицательно мотаю головой, а он сетует:
– Жадюги! – и затягивается неглубоко, экономно. – Положили всего одну папиросу. Беда с этой публикой. Приличные люди меня не слушают, а у бестолковой черни денег нет. Но сегодня улов еще не так плох. Вчера положили грязный носовой платок, хвост сушеной рыбы и выбитый зуб. Гнилой, дырявый, отвратительный зуб. Брр!
Он смеется, но совсем не весело. Я знаю, что дела у него идут худо. Заработка почти нет, одолевают давнишние кредиторы, которых он не помнит, недоверчивые слушатели срывают выступления. На днях его закидали объедками, пришлось ретироваться. Проститутка, которой он гадал по руке, и, как обычно, нагадал успех и благополучие, украла у него пояс с висюльками и плоский камушек с нацарапанной надписью «БЧ».
– Есть идея, – смеется он, сверкая жемчужными зубами в темноте, – как сделать свою жизнь сахарной. Хочу жениться на богатенькой деве. Пусть будет совсем страшная, пусть хоть на тебя будет похожа, лишь бы с деньгами. Мне бы только попасть туда, где водятся богатые девы, а я уж сумею захомутать себе одну. Но – опять беда. По нижним районам они не ходят, а в верхние меня не пустят, – он безнадежно вздыхает. – А как твоя-то жизнь, друг?
– Гружу, – отвечаю лаконично.
Он смеется, тычет меня в живот кулаком в кольцах и нарисованных завитушках.
– Достойный труд, но совсем не для меня, – отрезает он с внезапным холодом. – Кораблей – полное море, грузов – полные корабли. Все грузы никогда не перетаскаешь, понимаешь, о чем я? – он глядит на меня долго, а потом вздыхает. – Не понимаешь. Народ все время тянется в Плард, думая, что нырнет здесь в сахар. А на деле город вас всех пережевывает и выплевывает, не запоминая вас, и не замечая даже. Работяга никогда не прыгнет выше своих будней, никогда не выплывет из потока, который его несет. Вот вы грузите от зари до зари, получаете свои честные стабильные медяки, тратите их на пищу, пойло и койку, а потом вы одряхлеете и помрете, а корабли будут причаливать и отчаливать. И другие простаки будут бесконечно грузить, пока не помрут, а корабли продолжат причаливать и отчаливать. Тоска берет от этого, вот правда. И поясницу скручивает от одной мысли.
Он докуривает папиросу, и, наклонившись, кидает окурок в бутыль с остатками вина. Окурок шипит в вине, маленький колокольчик звякает в носу.
– А тебя город запомнит? – спрашиваю я.
Он смеется, хотя ничего смешного нет.
– А я хоть проживу жизнь для себя, а не для города, – отвечает он. – Вы, работяги – булыжники, из которых сложены мостовые. Все по ним ходят, и никто их не видит. Не хочу быть булыжником, а человеком быть не вышло по рождению. Чтобы быть человеком, надо родиться в хорошей семье, обучиться грамоте и наукам, получить достойный чин. А если родился рванью, то тебе или в работяги, или в бандиты, или в вольные птицы вроде меня…
– В Перьеносцы, – говорю я зачем-то, а он почему-то хохочет.
Колокольчик и прочие висюльки бренчат на его дергающемся теле, и мне тоже становится печально.
Он унимается, вытирает выступившие от смеха слезы, перемешанные с размоченным свекольным соком, и спрыгивает с ящика. Подбирает свою корзинку с подаянием, и говорит спокойно:
– Пойду я. И тебе пора, завтра с утра грузить.
Он уходит, не взглянув на меня, а ножи в его прическе поблескивают металлической гладью, отражая пламя факелов. Я наблюдаю за ним, пока он не исчезает за углом, а потом отправляюсь в ночлежку.
Я сижу чайкой на высоком ажурном заборе, и смотрю на дом. Дом большой, у него два этажа и мансарда. Его стены из белого камня, окна – в человеческий рост, второй этаж опоясывает широкий балкон с колонами-скульптурами в виде стройных девушек и рельефных юношей. Первый этаж окружен террасой с цветами в каменных вазонах. Кусты в саду фигурно пострижены, в фонтане плавают яркие рыбки. От ворот к дверям ведет широкая кипарисовая аллея. В беседке, увитой цветами, за изящным столом сидит дама в тонком платье, и читает книгу. У ног дамы лежит светлый расчесанный пес с бантом на шее.
Это самый богатый и привилегированный район города, здесь все жилища выглядят примерно так. Здесь гнездятся высокие чиновники, успешные торговцы, ученые, писцы, жрецы, землевладельцы, военачальники. В соседнем квартале живет городничий. Неподкупная стража блюдет порядок и покой. В обличии человека мне ни за что не проникнуть сюда.
Я сижу чайкой и думаю, что мне не нравятся геометрически стриженые кусты и деревья. В моем саду растения выглядели бы естественно, как в лесу. Вместо фонтана был бы пруд, а в нем – маленький водопад. А вместо рыбок – утки. Мой сад был бы тенистый, густой, изобильный. Этот – слишком ровный и пустой, какой-то чопорный. А дом красивый, он мне нравится. В моем были бы такие же огромные окна. А вот собаки у меня бы не было. Я слишком люблю быть кошкой, чтобы заводить собаку. Кстати, это – дом одного из жрецов Пларда. Или не кстати, не знаю. Я многое знаю, но заглядывать в будущее не умею. Не могу предсказать, захочет ли когда-нибудь Хальданар богатства и блеска.
Сегодня у нас выходной, и он еще спит. Я покружила над морскими волнами, полюбовалась встающим солнцем, и прилетела сюда. А позже мы пойдем бродить в лесу и кататься на лодке. У него на ладонях ужасные мозоли, поэтому грести буду я. Мы купим свежих булок и молока, и устроим милый завтрак на реке.
По чистой дороге медленно движется двойка белых пышногривых лошадей, впряженных в бричку. Это немолодой магистр природоведческих наук и его немолодая жена совершают утреннюю прогулку. У них легкие летящие одежды и легкие спокойные лица. У них легкая благополучная жизнь, они не озираются в напряжении, как люди на улицах нижних районов, никуда не торопятся, не прячут поглубже кошельки. Они отдохнувши и сыты, их беседа – о приятных пустяках. Они не ссорятся друг с другом из-за того, что один съел слишком много, а другому осталось слишком мало. Почему-то у людей принято не уважать тягу к богатству, считать ее низменной и плоской. Будто бы богатство делает людей хуже, равнодушнее и развращеннее. Это ведь неправда. Бедность и тяготы озлобляют и упрощают людей, а вовсе не роскошь. Я хочу роскоши, и мне за это не стыдно. И она у меня будет, а иначе что я за бессмертное мистическое существо?
Лесной променад не удался – лес гнал Хальданара тучами ос, стегающими по лицу ветками и ядовитым жгучим соком растений, которые совсем не ядовиты для тех, кто не проклят. Мы поспешно выбрались к реке, скинули башмаки, и погрузили босые ноги в горячий тонкий песок. Здесь пустынно, ярко, сочно, здесь надрывно кричат чайки, и колыбельно плещется вода. Я выгляжу девицей, у меня платье с фартуком и оборками в вырезе, и косынка закреплена сзади под распущенными волосами. Я выгляжу городской девушкой, молодой жительницей нижних районов Пларда. Хальданар завязывает на моем запястье деревенский витой шнурок, и разнежено улыбается.
– Я бы рассказал тебе свой сон, но ты его и так знаешь, – говорит он.
Я завязываю шнурок на его запястье, улыбаюсь и отвечаю:
– А ты все равно расскажи.
Он рассказывает. Ему снилось, что он – сущность штиля, слуга бога морей. Он разговаривал с господином, и в звоне масс крошечных колокольчиков распознал слова о том, что штиль и покой лучше шторма и приключений. Что необходимо только грести, не жалея себя, методично и упорно продвигаться, и тогда ты доберешься до цели без потерь. Не надо быть всезнающей сущностью, чтобы понимать, что сон озвучил ему его собственные мысли.
– Пусть с мозолями, но зато верно, да? – он гладит меня по щеке грубым большим пальцем.
У меня слабеют ноги, и хочется повиснуть на нем, закрепиться. Я дрожу, дыхание сбито, и я ничего не могу поделать. Какие странные ощущения! Я знала, что они бывают у людей, но чувствовать самой – это совершенно другое. Как же это получается? Что-то чужое просачивается в меня, и пытается мной управлять.
– Чем же ты пахнешь?.. – бормочу как в помутнении, скользя носом по его ключицам.
Он сжато усмехается:
– Потом? Морской водой? Ночлежкой? Харчевней? Вареной требухой?
Я смеюсь:
– Нет…
– Мужчиной?
Мне хочется провести по его коже языком, и я с трудом держусь. Я вожу пальцами по его плечам, рукам. Они твердые под одеждой, широкие, выпуклые. Они настоящие, а не как у меня. Я могу принять любой облик, но ни один из них – не мой. Ни один из них – не я. Во мне тоже бежит кровь, но она как притворство. А Хальданар не притворяется, его кровь – это его единственная кровь. У меня стынет разум от этой мысли. Насколько же ценно это тело, если оно – единственное! Хальданар касается им меня, вжимается им в меня, дает его уникальное тепло и невозможный запах – совсем не жалея! Это так восхищает, так возбуждает, так тревожит…
Он задевает мои губы своими, и мне кажется, что я теперь вплетена в него, что он принизан мной, как тонкими золотыми нитями. Что я теперь – не сущность вина, а сущность Хальданара.
Он чуть отстраняется, и мне холодно и серо от разочарования. Меня будто толкнули обнаженной кожей на стылые шершавые камни.
– Латаль, – говорит он тускло. – Разве это возможно – любить людей, когда видишь их насквозь? Ведь мы такие мутные внутри, а в мути – столько дряни. Как можно полюбить голое, естественное нутро человека, ничем не скрашенное, не подслащенное?
Я немного возвращаюсь, нахожу ногами песок-опору.
– Можно, если человек хороший. Даже легко!
– А я хороший?
– Если бы ты был плохим, я бы не стала красть для тебя лодку.
И в этот миг мне очевидно то, что было непонятно миг назад. Внезапно я разбила свое заблуждение, как стену из глины, открыв перед собой новую панораму.
– Мне казалось, – бормочу я слегка ошалело, – что мое изгнание из Межмирья – случайность и абсурд, результат нелепой промашки, помрачения. Но на самом деле я ушла сама – потому что полюбила тебя. Я давно полюбила тебя, задолго до того, как ты узнал обо мне. Я наблюдала за вашей деревней, и томилась в пустоте. Я живу от начала времен, и моя жизнь всегда была хороша и правильна. Почему же Межмирье вдруг стало таким пустым, а Мир – таким манящим? Почему я безответственно нарушила наше главное правило, которое блюла прежде – не вмешиваться в дела людей? Все просто. Потому что я полюбила тебя.
Я будто перерождаюсь от этого признания – признания ему и самой себе. Не привычно перекидываюсь, оставаясь собой, а меняюсь по-настоящему, своей сутью, своим составом. Мне кажется, что мое имя уже не подходит мне, что абсолютно другому созданию необходимо абсолютно другое имя.
Он не отвечает, лишь прижимает к себе мое тело, желая пропитать его своей кровью, прошить тонкой золотой нитью, и сделаться сущностью меня.
Мы сидим на песке, прижавшись плечами, переплетя пальцы. Солнце печет, и мне хочется искупаться, но не хочется шевелиться.
– Я бы женился на тебе, – говорит Хальданар серьезно, продолжая тему своего сна. – Но нельзя жениться, живя в ночлежке. Надо сначала накопить на дом, или хотя бы на комнату.
Мысль о ночлежке – длинной комнате с тремя десятками кроватей, стоящих почти вплотную друг к другу, на которых храпят работяги, чаще всего нетрезвые и неароматные – охлаждает пуще речной воды. Я не хочу возвращаться туда. Хальданар знает, что мне не нравится наша жизнь, поэтому вещает мне про «штиль», «упорно продвигаться», «не жалея себя» и «доберешься до цели». Я хочу отвлечься, и вжимаюсь лицом в его щеку. Я закрываю глаза, и глубоко вдыхаю. Мое дыхание вновь сбивается. Я нахожу в своем теле участки, которые раньше не привлекали к себе внимание. Там – напряженно, точно чего-то не хватает. Точно игнорируемое желание. Я знаю, что с этим делать, но только в теории. Я никогда не пробовала, и даже не представляла себя пробующей. На песке я вижу любимую васильковую стрекозу. Теперь это не стрекоза, а сущность плотских утех, и она ждет.
Я льну к Хальданару, а он отодвигается, и вновь меня бросает на стылые шершавые камни. Он смотрит глубоко и крепко, надавливая взглядом на лицо.
– Нельзя до свадьбы, – говорит он.
Я смеюсь:
– Можно!
Он категорично качает головой, и отодвигается еще дальше. Мне кажется, что я вдруг стала невероятно одинокой. Как будто пространство и время отпрянули от меня.
– Богиня чадородия будет только рада, – говорю с упреком. – Люди придумали, что иметь близость надо в браке, потому что боятся тратить свои ресурсы на чужих детей. В целомудрии нет никакой божественной воли.
Хальданар встряхивается и встает. Он понимает, что я права, но это понимание остается отдельно от него. Он – не религиозный слепец, как большинство деревенских, но все равно его разум не свободен. Ни у кого из людей нет свободного разума.
Я встаю, сбрасываю песчинки с подола, и весело улыбаюсь ему.
– Пойдем купаться, – предлагаю я, и хватаю его за локоть двумя руками. – Побежим!
И мы с ним бежим.
========== 6. ==========
Я вижу сестру в саду городничего, где семья празднует день рождения младшего ребенка. Фиаль сидит на перекладине, к которой подвешены большие фигуры птиц и животных, сделанные из яркой разноцветной бумаги. Бумагу привезли из-за моря специально к празднику, она страшно дорогая. Весь сад украшен этими фигурами, и будет очень жаль, если пойдет дождь. Фиаль – сущность танца – выглядит чайкой, как и я. Мне до безумия радостно встретить ее, и я тороплюсь сесть рядом.
– А мне не радостно, а больно, – сразу говорит она без слов.
Я знаю. Все мои сестры и подруги до сих пор грустят.
– Милая, у меня все хорошо! – беззвучно напоминаю я. – Я люблю человека. Я не одна.
Ясным вечером белоснежный камень дома залит жидким янтарем. Дикое солнце в стеклах окон, дверей и стен выглядит пожаром. Это не дом, а настоящий дворец, который на закате становится сказочным дворцом. В нем столько стекла, что в своем облике массивного грубого грузчика я не осмелилась бы приблизиться к нему, даже если бы меня вдруг пригласили.
Сестра перелетает на флюгер. Она слишком обижена, чтобы желать сидеть со мной рядом, а мне обидна ее неприветливость. Но меня вдруг колет идея, и, сильно сомневаясь в успехе, я все же считаю себя обязанной попробовать, и потому лечу к ней.
Из Межмирья можно видеть все, а в Мире я вижу и знаю лишь то, что вокруг и рядом. Я прошу у Фиаль информацию, которая недоступна мне самой, и она потрясена.
– Нет! – отвечает она с гневом. – Ты хочешь, чтобы меня тоже изгнали? Теперь ты равнозначна человеку. Нам нельзя вмешиваться в твои дела.
– Прости, – я пристыжено каюсь. – Я не подумала об этом.
Она так возмущена, что выглядит пожаром, как солнце в стеклах.
– Улетай, Латаль, – говорит она с горечью. – Будь счастлива с людьми, а о нас забудь.
Я улетаю. Я давно пообещала себе не грустить о прошлом и потерянном, и теперь мчусь в сторону нижнего города и будущего, гонимая новой идеей.
Люди решают вопросы при помощи денег, и я буду как они, раз я теперь с людьми. В облике громады-грузчика я беру почти все свои медяки, рассыпаю их по двум тряпичным мешочкам, и отправляюсь в один из злачных районов, облюбованных оборванными преступниками и авантюристами. Я довольно долго брожу по загаженным улицам, изучая население, выискивая человека, ум которого не пропитан ублажающими жидкостями, и не убит жестоким беспринципным дном. Я ищу того, на кого смогу положиться, кого смогу нанять без опаски, что он забудет о деле через полчаса. Я останавливаю выбор на быстроглазом шустром парне, размышляющем о том, что убивать лошадь при ограблении обоза было варварством и мерзостью, и что с этими отморозками он больше не связывается. Я отзываю его в сторонку, очерчиваю задание, и вручаю один мешочек. Показываю второй мешочек, и обещаю отдать его по итогам. Он согласен и доволен. Я немного волнуюсь, но тоже довольна.
Я бросила работу грузчиком. Что это за жизнь такая – день за днем тягать бочки и ящики? Не хочу. Я попробовала заниматься разделкой рыбы, но это мне тоже не понравилось. Рыба хороша, когда ее ешь, а когда разделываешь, почему-то противна. Все эти кишки, чешуя, и от запаха не отделаться. Попробовала быть кельнершей (ничего не сказав Хальданару), но за эту работу очень мало платят. А ведь нам надо накопить на комнату, чтобы пожениться… Я пыталась стать глашатаем, но меня не взяли. Эта работа слишком престижна для человека без имени и знакомств. А вот в проститутки меня взяли сразу, лишь коротко взглянув на мои округлости и рыжую копну. Для этой работы я приняла очень яркий облик, чтобы мужчины слетелись на меня, как пчелы на цветок. Мы клиентом зашли в комнату, и я поняла, что такой способ заработка меня тоже не прельщает. Клиент был приятный, даже красивый, разговаривал без ругательств, в мыслях у него не было грязи и зла, одежда его была постирана, а сам он помыт, но… У него не было того особого запаха, который вызывал во мне диковинные переживания. У меня не было переживаний. Я знаю, что проституткам ни к чему их иметь, но близость с тем, к кому равнодушны мои фибры, показалась мне противоестественной. Я сбежала, не обслужив клиента, и больше не приближалась ни к одному борделю. Но у меня появился интерес, маленькая исследовательская пытливость. Теперь в разных женских обликах я знакомлюсь с разными мужчинами, общаюсь с ними, и прислушиваюсь к себе. Я ищу в своей глубине отклик, и не нахожу. Пульсации их единственного сердца, движение их жаркой крови, запах их незаменимой кожи не вызывают во мне восхищений и волнений. Двое из человеческих мужчин встревожили меня, а остальные – нет. Остальные – как будто фон.
Я попробовала работать на рынке – помогать торговцу птичьим мясом и яйцами, но меня раздражали беспрерывные склоки. Ругань на рынке не затихает ни на миг. Кто-то постоянно возмущен ценами, кто-то полагает, что продукты недостаточно свежи, кому-то кажется, что его обсчитали. У кого-то все время воруют кошельки, у кого-то выхватывают сумки. Кому-то вечно мерещатся фальшивые деньги. Продавцы пытаются перекричать друг друга, расхваливая свой товар, покупатели пытаются перекричать продавцов, стремясь взять побольше, а заплатить поменьше. Да, я знала, что на рынках все происходит именно так, но знать в теории – не то же самое, что испытывать на себе.
Я подумала, что могла бы наняться матросом на какой-то из кораблей, но тогда мне пришлось бы надолго покинуть город. Это – неподходящий вариант. Чтобы увеличить количество вариантов, я решила обучиться чему-нибудь, и выбрала цирюльничество. Я стала пропадать у мастера, осваивая ножницы и бритву, и это занятие пришлось мне вполне по вкусу.
Мы с Хальданаром перебрались в ночлежку поприличнее, и теперь арендуем отдельную спальню. Я прихожу домой девицей, а в цирюльню – парнем. Регулярно гуляю по порту верзилой-грузчиком, и кружу по верхнему городу чайкой. Хальданара очень радует наша спальня. В ней есть две удобные кровати и яркие занавески, в ней нет храпящих работяг, наполняющих воздух перегаром и нестиранными портянками. С утра до ночи он работает, с ночи до утра спит, но он не унывает. Его радует мой голос, мои волосы и улыбка, и мои движения, когда я заправляю постель, умываюсь, снимаю и натягиваю чулки. Ему нравится, как выросли его мускулы, и что бочки с ящиками теперь для него заметно легче, чем были поначалу. Ему нравится даже то, что он выучил множество гадких слов, которыми можно обругать какого-нибудь хама в кабаке. Он остриг длинные волосы, стал одеваться в городские тесные штаны вместо мешковатых деревенских, начал курить папиросы и жевать табак, обзавелся грубыми приятелями, распробовал вкус задорной кабацкой драки, и вообще стал весьма похож на местного. Нижний Плард принял его, намотал на свое веретено.
Погода сделалась прохладнее. В этих краях не бывает морозов и снегов, но и жара не постоянна. Теперь с моря летит рваный зябкий ветер, а с серого неба – освежающая водяная пыль. Я больше не хвалюсь торсом, которым можно валить дубы, и ношу плотную куртку очень большого размера. В портовых кабаках я хлебаю ром ведрами, и завсегдатаи искренне восхищены мною. В один из вечеров меня разыскивает шустрый быстроглазый парнишка, и сообщает новость, которой я надеялась не дождаться. Я отдаю ему заслуженные монеты, и от злости переворачиваю тяжелый стол с ногами-бревнами. Грохот обрывает все прочие звуки, включая музыку и чавканье, и мне несколько неловко. Чтобы не вредить образу, я делаю над собой усилие и удерживаюсь от извинений. Я молча покидаю таверну, унося свою зверскую рожу с торчащими зубами, и звуки возобновляются за захлопнутой дверью.
Храм похож на белую скалу. У него головокружительные размеры, простая прямоугольная форма и пологая односкатная крыша. Его стены снизу доверху покрыты причудливыми барельефами – реалистичными и фантастичными этюдами, перетекающими один в другой, сплетающимися линиями, сцепляющимися углами. Стены истыканы крошечными оконцами, почти как небо – звездами, а небольших дверей с двумя узкими створками – двенадцать штук в одном лишь фасаде. С противоположной стороны дверей столько же, а по бокам – по шесть. Внутри – колоссальный зал, пронзенный великим множеством лучей оконцев. Храм не делен на этажи, и высота потолка делает людей мелкими и незначительными. Внутренние барельефы в точности повторяют наружные. В центре высится белый мраморный обелиск, покрытый высеченными словами древних молитв, благословений, заговоров, клятв, абсолютно не интересных богам, но чтимых людьми. Как кусты роз по саду, по залу разбросаны алтари богов, похожие на маленькие, обильно декорированные беседки на невысоких постаментах. Белые мраморные фигуры богов в «беседках» подсвечены тонкими длинными свечами, источающими аромат ванили.
У алтаря богини чадородия – оживление. Люди в нарядных одеждах окружают его цветными всплесками, разрывая общую храмовую белизну. Издали они напоминают букет, брошенный на снег. Жених и невеста в черных балахонах стоят перед жрецом в белой мантии. Со спины жених и невеста неотличимы друг от друга. По окончании церемонии они скинут капюшоны и станут разноликими мужем и женой. Вернее, скинули бы и стали бы. На самом деле я не позволю завершить церемонию.
– Ах, мерзавец! – вскрикиваю я громко, почти надсадно, встав невдалеке. – Подлец!
Я взмахиваю руками и притопываю ногами. Я выгляжу девицей, привычной Хальданару, но одета как жительница Зодвинга. Мое лицо перекошено от отчаянного возмущения. Люди настолько обескуражены моим поведением, что молчат и не шевелятся. Даже жрец застыл, глядя на меня, как на исчадие кромешного безумия. Кричать и ругаться в священном месте? Непостижимо!
– Гоните прочь мошенника! – воплю я, тыча пальцем в Беленсиана, ошарашенного в той же мере, что и остальные. – Он лжет этой бедной благородной деве! Прикидывается любящим, а сам хочет лишь денег!
От группы людей отделяется фигура грузной дамы, пришедшей в себя раньше других.
– Да кто ты такая? – возмущенно взвизгивает она. – Сумасшедшая?!
Я делаю бойкий шаг ей навстречу, задирая подбородок.
– Жена этого притворщика! – заявляю высокопарно, будто о своем высоком чине. – Негодяй сбежал от меня в Плард в поисках наживы, но я его разыскала.
Беленсиан держится ладонями за голову и пригибается плечами, как если бы в него летели палки. Невеста стоит, опустив глаза. Она хорошенькая, скромная, глупенькая, равнодушная. Пока родители совершали поездку в соседний город, она позволила ушлому стражнику соблазнить себя. По возвращении родители получили небольшой, но вполне характерный, не вызывающий сомнений живот. Ушлый стражник уже распланировал, как распорядится богатым приданым, но мать девушки (сейчас взирающая на меня могучим тяжеловесным зверем) была так возмущена его наглостью, что сразу размозжила ему череп гранитным подсвечником. После этого на улицах нижних районов начались поиски кандидата в мужья – непритязательного мужчины, который не побрезгует взять порченую девицу и чужого отпрыска. Главным критерием отбора было внешнее сходство с осеменителем, чтобы родившийся ребенок не вызывал вопросов у благонравной общественности. Отметались законченные пьяницы, очевидные болваны, совсем уж неотесанные грубияны и явно хворые страдальцы. Провидец, складно и с огоньком ораторствующий перед насмехающейся, но внемлющей толпой, показался не худшим вариантом. Он выглядел, как чудище, но от него не несло перегаром и заскорузлостью, он не сплевывал поминутно себе под ноги, и не стал сходу называть вероятную тещу маменькой, что дало ему дополнительный плюс. На Беленсиана обрушилась главная удача в его жизни. Вожделенная богатая невеста сама приплыла к нему в руки.
В нарядной группе, окружающей алтарь, зарождаются и множатся говорки. Грузная дама – мать – проходит стадии закипания, близясь к опасной черте. Медленный оглушенный отец таится за ее широким плечом. Невеста тиха и безучастна. Она желает скорее вернуться в свою комнату, чтобы разглядывать невероятные книжки с объемными картинками, а более ей ничего не интересно. Жених сжимается в своем балахоне, чуть не плача от жгучей досады. Жрец отставляет золотую чашу с кроличьим молоком, которую благоговейно стискивал в руках. Молоко должно быть сдобрено кровью молодоженов и выпито во имя изобилия, здоровья и плодовитости. Я уберегла Беленсиана от такой неприятности, как разрезание запястий и питье крови с молоком, ему бы сказать мне спасибо.
Доверие к моим словам не абсолютно, но оно есть. Среди людей мало тех, кто полностью отрицает богов, и даже отрицатели, за редким исключением, относятся к храму не без пиетета, воспитанного в них средой. Людям тяжело допустить, что кто-то будет скандалить, лгать и клеветать на невинного в священном месте. Лишь сущностям доподлинно известно, что храм священен только для людей, а для богов он равнозначен публичной библиотеке, цирковому балагану и общественной бане.