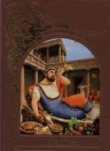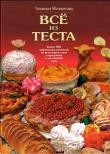Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Храп и сопение он больше не слышит, и о рыбном супе не думает. Ему кажется, будто он сейчас оборвал что-то, перепрыгнул, сжег. Словно с этих мгновений начинается новая эра.
Он притягивает меня к себе, и у меня все хрустит, продавливается и проседает. Я толком не могу дышать и шевелиться, и совсем не могу говорить. Объятия этого жреца похожи на казнь через раздавливание гранитными тисками. Он сжимает в кулаке мои волосы – короткие и темные, трется лицом о подбородок с пробивающимся юношеским пушком, целует мои губы под пунктирными усиками. У меня под животом твердеет и встает мальчишечий орган, и он не замечает даже этого.
========== 12. ==========
Зал для церемоний невыносимо роскошен. Не будь Владыка Миродар в сговоре с плардовцами, его бы разграбили при набеге, попутно ошалев от жадности. Здесь стены захлебываются позолотой и мозаиками из драгоценных камней, потолок захлебывается тем же. Драпировки красного бархата переливаются жемчужной вышивкой, перемежаются зеркалами в золоченых рамах. Мраморные статуи богов и богинь увенчаны бриллиантовыми тиарами и венками, увешаны ожерельями, амулетами, цепями. Бог гор держит на ладони самый крупный рубин, что знает человечество. Посеребренные деревянные фигурки сущностей, развешанные гирляндами, наряжены в заморские шелковые платья и украшены ювелирным богатством не хуже богов. Сотни свечей и факелов наполняют драгоценности искрящейся игривой силой.
Слуги не допускаются сюда, и я присутствую божьей коровкой – сливаюсь с бархатом. Жрецы – как белые пятна на картине. Их облачения слишком монотонны и скромны для храмового зала; они здесь будто проплешины. Ученики в туниках цвета песка кажутся тенями жрецов. Одеос обнажен; его статная фигура намного лучше гармонирует с антуражем. Если поставить его в гордую позу и надеть бриллиантовый венок, он сможет показаться краю глаза одной из статуй. Владыки нет в зале; его появление ознаменует начало таинства. На трибуне в багряном кресле восседает его заместитель – немолодой мужчина милого вида. У него круглая лысая голова, круглое мягкое тело, уютное лицо с пухлыми губами и крошечным вздернутым носиком. Он похож на симпатичного тряпичного поросеночка – игрушку и подушку одновременно. Его глаза – круглые угольки. В них такая жажда, что становится страшно. По обители прошел слух о намерении Владыки сделать заявление на посвящении ученика, и все до последнего трубочиста уверены, что речь пойдет о его уходе на заслуженный покой. И все до последнего трубочиста уверены, что верный заместитель сменит его на посту. Ученик считает эту церемонию своей, заместитель – своей, а я знаю, что это моя церемония. Да, и Хальданара тоже, конечно.
На трибуне – два кресла – помпезное и попроще. Заместитель сидит в том, что попроще, и делает вид, что обозревает зал и собратьев, на самом же деле обозревая свои фантазии. Он видит себя на соседнем месте в мантии Владыки, в расписной митре, с расписным посохом. Реальность для него не существует – фантазия вытеснила ее всю. Он даже не заметил, что неправильно зашнуровал сегодня сандалии. Ночью Тэссе влетит за то, что тоже этого не заметила.
Прямо под трибуной двумя лесенками из трех ступеней зажат массивный стол с бархатной скатертью. На нем, среди мраморных канделябров, ждет своего мига парадное жреческое облачение – туника и мантия цвета чистейшего горного снега. Резной ларец с обоюдоострым ножом внутри поблескивает отполированными орнаментами и золотыми вставками. В огненных углях очага уже раскалены железные решетчатые «рукава» – инструменты, которыми духовенство традиционно уродует себя. Нагой Одеос стоит между столом и очагом, вибрируя, как струна. Он ждал этого дня всю свою жизнь, и теперь реальность для него выглядит мерцающими пятнами. Он так желает получить сан, что готов сбежать из зала, не дождавшись начала церемонии. Далекая мечта манила его; мечта на расстоянии вытянутой руки – пугает.
Хальданар стоит рядом с моей богиней, и пытается угадать, где же я. Он ворочает глазами по сторонам, и с трудом удерживается от того, чтобы ворочать головой. Он понимает, что не увидит меня, но слишком жаждет увидеть, чтобы оставить попытки. Он не выбирал, где встать – богиня праздника и удовольствия сама притянула его. Мне бы хотелось обернуться белокурой девой, величаво прошествовать меж обескураженных служителей, и поцеловать его губы с тем жаром, что затмил бы жар углей очага. Я сижу на бархате, и подгоняю время. Скорее бы завершились все эти глупые условности! Скорее бы овладеть моим прекрасным Владыкой в наших новых апартаментах…
Старенький распорядитель взмахивает сучковатым аскетичным посохом, и люди мерно, как корабли, расплываются по местам. Жрецы образуют дугу перед трибуной справа, ученики – напротив них слева. Одеос остается стоять, где стоял. Он уже не вибрирует, а содрогается. Заместитель кое-как очнулся от грез, и теперь возвышается над всеми, розово-пылающий от возбуждения. Владыка, натужно кряхтя, поднимается к нему по лесенке, поддерживаемый распорядителем под локоток. Оба они древние и немощные, и даже я не разберу, кто там на самом деле кого поддерживает. Благоговейное молчание наполняет зал.
Далее я подумываю о том, чтобы прогуляться где-то – переждать вереницу человеческой ерунды. О, богиня, почему же людям так важны условности?! Почему гимн должен запеваться самым юным юнцом, подхватываться по возрастающей, а самый старый старец втекает в хор последним? Почему очи поющих должны быть уткнуты в пол? Почему ладони следует держать сведенными у груди?
Гимн тягучий, заунывный, серый. Похожий на монотонный стон огромного умирающего чудовища. Ничего общего с деревенскими праздниками долины у ритуалов Гор нет. Здесь ни вина, ни плясок, ни бубнов и колокольчиков. Ни выкриков, ни яств, ни всеобщей доброжелательности и любви. Любовь здесь только у Одеоса с его жрецом, у меня с Хальданаром, и у заместителя с митрой, которой он не обладает. У последних чувство невзаимное, но самое всепоглощающее. Этого чувства более чем достаточно на двоих.
Завывание смолкает, и Владыка держит речь. Некогда от его голоса тревожилась вода в кувшинах, теперь уж горло его скрипит подобно ветхой деревянной лачуге на свирепом ветру. Все задерживают дыхание и напрягают уши, а полуглухой распорядитель даже не пытается разбирать слова. В принципе, слушать здесь нечего. Старый Миродар зачитывает тексты священных писаний, заученные жизнь назад, и среди присутствующих не знает этих текстов только Хальданар. На церемонии не происходит ничего интересного, но почти никому не скучно. Почти все благоговеют, отдаются торжеству момента, тянутся душой к богам. Только Хальданар не благоговеет, не отдается, не тянется; только ему скучно. И мне тоже, да, я уже теряю терпение. Сейчас будет другой гимн, потом другая речь. Потом Владыка с заместителем спустятся с трибуны, и начнут долго и занудно издеваться над Одеосом: мазать его вонючими растирками, разрисовывать угловатыми орнаментами, сбрызгивать маслом, молоком, родниковой водой, посыпать солью и пеплом. Потом сожгут ему руки от запястий до локтей раскаленным железом, и будут сбрызгивать водой, приводя в чувство. Хальданар в это время будет очень грубо ругаться про себя, и я тоже. От запаха жареной человечины кого-то непременно затошнит, а у кого-то разыграется аппетит.
Время медленно движется вперед, и все ползет по плану. Божьи коровки не умеют зевать, и лишь потому я не зеваю. Людям важно соблюсти все обычаи, и они соблюдают. Богам важно знать, что люди готовы к жертвам ради них – что они способны отдавать, а не только брать. Церемония посвящения в сан не предусматривает жертвоприношений, так что никто из богов не заметит ее. Да и я, честно сказать, была бы не прочь не заметить.
Наконец, можно проснуться. Отзвучал очередной гимн, произошло напряженное восхождение на три ступени. Владыка стоит на трибуне, тяжело опираясь на посох. Его колени дрожат под одеянием, митра норовит сползти на лоб, и заместитель то и дело поправляет ее. В мутных глазах стоят крепкие стариковские слезы. Владыке кажется, что это день его смерти, и что вот-вот наступит миг его смерти. Он глядит на бледного страдающего Одеоса, нетвердо стоящего рядом, и завидует ему так, как не завидовал никому никогда. Одеос облачен в белоснежное жреческое, заветный нож закреплен на поясе туники. Ледяной пот струится по его коже, а мучительное счастье носится по жилам. Заместитель притопывает возле них, разрываемый изнутри предвкушением великого успеха. Я переползла с бархата на жемчужину, и могла бы показаться кому-то кровавой капелькой, если бы кто-то взглянул на меня. Внимание публики натянуто до угрожающего треска. Все ждут великоважного заявления Владыки, и тот приступает…
Он делает жест Хальданару, веля подняться, а после – заместителю, веля спуститься. Заместитель столбенеет, его глазки-угольки выпирают наружу. Он так ошеломлен, как будто утром вместо солнца на небо взошло зеленое яблоко. Его маленький ротик, похожий на пупок, беззвучно открывается и закрывается. Владыка гневно повторяет жест, и ничего не понимающий заместитель пришибленно сходит с трибуны. Хальданар равнодушно занимает его позицию, и я ликую всеми пятнышками на своем тельце.
– Сыны мои, – скрипит старый Миродар, не вытирая слез. – Возлюбленные дети мои. В каждом из вас не живет моя кровь, но живет мой дух. Одна любовь моя к богам нашим милостивым сравнится с любовью моею к вам. Наша обитель – только камни и металл, а истинное богатство здесь – вы. Вам я отдал многие лета мои, и отдал бы еще больше, но срок мой на исходе.
Слезы бегут по его лицу, и по многим другим присутствующим лицам. Один из учеников затыкает себе рот кулаком, чтобы не разрыдаться в голос. Божьи коровки не умеют хохотать, и лишь потому я не хохочу.
– Сыны мои, – выталкивает старец из своего спазмированного горла. – Последнее, что я могу дать вам – новое светило. Новый ориентир, который наметит ваш путь по благословенному миру – это мой добрый и мудрый продолжатель – Хальданар из Предгорья, отныне зовущийся Хальданаром из Зодвинга.
Лица присутствующих мгновенно высыхают и вытягиваются в изумлении. Ученик, затыкавший себе рот, застывает с кулаком в зубах. Заместитель, соображающий быстрее других, багровеет от бешенства. Новичок, чужак, приблуда получит митру? Грязный лесной неуч возглавит обитель? Неотесанный дурачок, который никак не может освоить обеденный этикет, получит власть не меньшую, чем власть городничего? Да старый болван напрочь лишился рассудка!
– Понимаю ваше удивление, дети мои, и принимаю его, – продолжает Владыка, тяжело повисая на посохе. – Примите и вы мою последнюю волю. Этот человек – смелый и дерзкий иноземец – поведет нашу гильдию путем развития против пути застоя. Мы – духовенство – образцы и кумиры для людей, мы – зенит людского общества. Да будем же теми, кто не боится двигаться вперед и ввысь.
Он говорит о бесстрашии перед переменами, а сам опасается отпустить посох, служащий ему подпоркой. Ослабшие от волнений ноги могут подвести его, но он рискует. Движением, полным достоинства и торжества, он передает богатый посох Хальданару, и, жестом попросив пригнуться, венчает его голову своей митрой. Распорядитель – глухой, но не слепой и не глупый, без приказаний способствует передаче священной мантии. Публика внизу заворожено отслеживает каждое движение на трибуне. Старик, лишенный всех регалий, поворачивается к бледному Одеосу, и с героически доброй улыбкой говорит ему:
– Вверь же сердце свое Владыке, дорогой новообретенный брат.
Одеос мешкает. Он болтается в густом пространстве изумления, экстаза, боли, усталости, экзальтации, оглушения. Он пьяный без вина, и спящий наяву. Старику приходится повторить обращение, к моему восхищению повторив и добрую улыбку. В полузабытье Одеос опускается на колени перед Хальданаром, и прикладывается своими горячими губами к его прохладной руке. Поймав сигнал, вся публика преклоняет колени, включая старика, а разъяренный заместитель делает это последним. Он не знает о моем существовании, но я чувствую его злобу так, как если бы вся она была направлена на меня, как если бы я была его заклятым врагом. И Хальданар пронзительно разделяет мое чувство.
В апартаментах Владыки есть дверь. Настоящая дверь из досок и шкур, и – о, чудо! – с настоящей железной задвижкой. В этой большой комнате с излишком мебели, ковров и звериных чучел уединенно, как на плоту среди моря. Потрясающее забытое ощущение! Звуки не попадают сюда извне, и не выпадают отсюда наружу. Больше никакого постороннего храпа, чужих шагов и совокуплений; и никакого шепота, сдерживаний и кляпов. Хальданар ритмично движется во мне, долбя дорогу к самым недрам, а я прогибаю спину, опираясь на локти, и выкрикиваю пошлости в поверхность подушки. Обжигающе сочные шлепки окрашивают в розовый мой белый зад, и я истекаю восторгом от того, как быстро невинный жрец освоился в телесных выражениях чувств. Еще недавно он боялся дотронуться взором до моих сокровенных мест, теперь сокровенных мест не осталось и для настоящих, тактильных касаний. Теперь он обожает играть языком у меня между ног, и наблюдать, как выступает блестящая зовущая влага. Обожает прикусывать все, что доступно прикусыванию, и посасывать все, что доступно посасыванию. Его активный рот стремительно становится моим героем.
Пока Хальданар буйствует во мне, я отсутствую в его голове, но при расцеплении наших тел вновь происходит сцепление разумов. Я лежу на чистых простынях, пахнущих солнцем, и слушаю его мысли. Он думает о том, что ему, как и заместителю, позарез нужен личный паж. Я смеюсь над его идеей, и всецело одобряю ее. Я готова переселиться из комнаты слуг в эти покои уже вчера.
– Что он собирается делать? – спрашивает Хальданар негромко, мягко привлекая меня к себе.
– Пока ничего, – так же негромко отвечаю я, мягко привлекаясь. – Он слишком зол, чтобы размышлять.
Заместитель будет точить свои ножи, а я буду за ним наблюдать. А новому Владыке следует назначить нового заместителя.
– Подумай, кого возьмешь в помощники, – предлагаю я.
Он лениво бормочет:
– Мне все равно. Я хочу спать, Латаль.
Я тянусь губами к его губам, проскальзываю по ним теплой дымкой.
– Спи, любимый, – шепчу с лаской, укладываясь удобнее. – Остальное будет завтра.
Утром в хозяйственной не досчитались слуг. Тэсса не пришла за умывальной водой для господина, не пришла на завтрак и на уборку кухни. Ночью заместитель избил ее до полусмерти, вымещая гнев, потому она и не пришла. Теперь слуги ходят понурые и злые – все догадываются, в чем беда. Вчера старик Миродар попытался смазать маслом свое решение словами о развитии и кумирах, но его все равно не поняли. Воля Владыки не подлежит осуждению, и никто не протестует даже в мыслях, но все озабочены, и слугам жалко попавшего под раздачу Тэса. Жрецы перешептываются в глухих закутках, ученики перешептываются в закутках по соседству. Я выгребаю золу из печи, чищу рыбу, ублажаю целебным отваром обугленные руки Одеоса. Наш новый Владыка пока уединяется в своих покоях – не делает заявлений, не дает приказаний, никого не принимает. Старик с утра умиротворен и весел. Груз вины мучил его, страх разоблачения мучил его, нежелание расставаться с привычным постом мучило его, а теперь ему полегчало. На трапезу он явился будто бы даже помолодевшим. Кругленький заместитель буравил его ненавистью за столом, но это не нарушало его бодрость и аппетит.
В полуденный час всем велено собраться в переднем зале, и мы собираемся. Распорядитель, разнесший повеление, стоит со своим сучковатым посохом недалеко от висячих клеток, и следит, чтобы никто не занимал место в центре. Хальданар без церемониального облачения выглядит обычным Хальданаром.
– Сыны мои, – говорит он с незанятого места в центре. – И сыны богатеев Зодвинга, которые нам здесь прислуживают. – Его голос еще долго будет способен волновать воду в кувшинах. – У всех вас полно дел, поэтому я быстро. Назначаю почтенного Миродара своим заместителем, а юного Тэса – своим личным пажом. И объявляю о помиловании одного каторжника в семь лун, начиная с сего дня. И если вы считаете меня наглым деревенским выскочкой, то я с вами согласен. Всем добра.
Продекламировав сие лаконичное обращение со всей подобающей внушительностью, он важно покидает зал, испепеляемый моим озверелым взором. Тэса в пажи, значит? Мало тебе поросенка во врагах, меня злить удумал? Ой, напрасно.
Кухня, как всегда, полна грязных горшков и нечищеных овощей, а купальные кадки жрецов, как всегда, требуют горячей воды, но мне это теперь безразлично, и неприметным жучком я ползу в щель под дверью, обитой изнутри воловьей шкурой. Хальданар сидит за столом, и покрывает пергамент однотипными каракулями – тренируется ставить свою владыческую подпись. Я перекидываюсь за его спиной, чтобы было внезапно, и возмущенно вскрикиваю:
– Какая мерзость!
Он дергается от неожиданности, роняет чернильную каплю на письмена, и откладывает перо.
– Латаль, – говорит он, потирая лоб таким жестом, будто бы уже наслушался утомляющих гадостей, хотя еще не слышал ничего. – Не злись. Когда ты злишься, ты не замечаешь мой разум, а замечаешь только свой.
Я бы с удовольствием вылила чернила ему на голову, но тогда мне пришлось бы потом лицезреть его с некрасивыми двухцветными волосами.
Он поворачивается на табурете, и поднимает на меня очень спокойное лицо. В его мыслях грустно, но тихо. Он все решил утром, отсиживаясь в этих замечательно уединенных апартаментах, которые не назовешь кельей, хотя по правилам они именно кельей называются.
– Я так не смогу, Латаль, – говорит он с тоской, похожей на смерзшуюся землю под снегом северных краев. – Будет беда, пойми.
Я уже кое-что поняла. Тэсса не нужна ему, он просто берет ее под защиту. Со временем, оклемавшись, она покинет обитель, потому что женщинам здесь не место. И я тоже должна покинуть обитель, мне здесь тоже не место. Хальданар трет чернильные пятна на своих пальцах, и глядит на меня с болезненной любовью.
– Если бы ты выбрала меня, я был бы твоим, – говорит он через силу, словно тащит груженую телегу. – Но ты не выбираешь. Я мысли слышать не умею, но твои слышу. Ты о Перьеносце тревожишься, и на своем ложе его представляешь. На моем ложе – вот на этом. – Он машет в сторону восхитительной кровати, на которой прошла наша ночь. – Я к такому не готов. Я могу только убить его, чтобы ты меня ненавидела, и могу отпустить, чтобы ты с ним ушла. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела, поэтому уходи.
Девицы умеют плакать, и я оборачиваюсь божьей коровкой, которые не умеют. Сущностям не пристало плакать перед людьми – даже перед любимыми. Слишком уж много чести. Я расправляю крылышки и улетаю, просачиваюсь в щель под дверью, мчу по коридорам, лестницам, залам. Мчу через вестибюль, где новый Владыка совсем недавно произнес свою первую речь, и врываюсь в пронизывающий яркий день. Пыльная травинка подставляет мне себя для опоры, и я отдыхаю. Кучерявые облака висят в сочном небе, а море трется о песок и пенится, плетя колтуны из обрывков водорослей. Мне так горько, что я бы уничтожила все эти бестолковые красоты одним махом, если бы могла. Если бы я была всесильным верховным божеством, которого не существует.
Минэль!..
Она сидит на песке молодой черноволосой женщиной, и сонно поглаживает подол шелкового платья цвета серебра. Капли хрусталя в серебряной оправе сбрызгивают свежестью тонкие запястья и длинные пальцы. Гладкая кожа лоснится от знойного полуденного пота. Дорогая подруга, как же я соскучилась по тебе!
– Здравствуй, – приветствует она, не разжимая губ и не поворачивая головы.
– Вам нельзя со мной говорить, – торопливо пугаюсь я.
Неужели ее тоже изгнали?
– Это решают боги, – ее голос звучит во мне надменно и почти пренебрежительно. – Мой господин прислал меня сюда, потому что здесь происходит нечто важное.
Разумеется, бог власти сейчас пристально наблюдает за Хальданаром через свою подданную.
– Он объединит под собой города и деревни, равнины и горы – твой лесной жрец, – продолжает Минэль, скользя пальцами по шелку, а взглядом – по волнам. – Вернет покой, который скоро совсем рухнет. Он станет великим человеком – больше, чем человеком. В грядущих веках его имя будет звучать над землями по эту сторону моря, удерживая в них силу единства. Все потому, что ты однажды вмешалась в его дела вопреки запрету. Боги единогласно осудили тебя, но мой господин благосклонен к тем, в ком есть задатки вершителей. Он прощает тебя, и разрешает своим подданным контакты с тобой. Ты больше не одинока в Мире. Но ты не должна покидать своего жреца, забудь об этом. Вы с ним, как лодка и весло – неполноценны друг без друга.
Последние слова хлестнули меня мокрым веником. Как же, скажешь тоже! Неполноценна я без какого-то там человечишки!
– Сущность слова, – раздраженно обращаюсь я к Минэль. – Подскажи мне слова, которые убедили бы его не гнать меня.
Она, наконец, поворачивает свое четкое лицо в мою сторону, и отвечает вслух, как смертные.
– Ты по-прежнему глупая, Латаль, – заявляет она со вздохом. – Одна из главных ценностей слова – в его способности не прозвучать. Чем молчаливее ты, тем разговорчивее сердце того, кто тебя любит.
– А ты по-прежнему грубиянка, – обижаюсь я, ползя вниз по травинке.
Добираюсь до горячего песка, и ползу обратно вверх.
========== 13. ==========
– Даже боги не знают наперед.
Мы с Минэль сидим на краю утеса, в ветре над волнами. Я болтаю босыми ногами девицы, она держится с достоинством, как женщина. Капли хрусталя в ее украшениях покрыты каплями соленой воды, долетающей снизу. Море сегодня неспокойно.
– Бог верит в человека, – говорит Минэль серьезно. – Для нас это так же твердо, как знание.
Огромная гематома тучи ползет от горизонта в нашу сторону. Совсем скоро она слижет солнце, и море станет цвета металла.
– А если он не справится?
Мне тревожно за Хальданара. Он хороший, замечательный, но слишком простой для великих свершений. Он по-прежнему плохо умеет читать, и у него есть враг со ртом, похожим на пупок. Он всего лишь чистый душой лесной житель, случайно и безалаберно ставший главой могущественной гильдии.
У Минэль нет ответа на мой вопрос. Если бы ответ существовал, я бы его знала, и мне не пришлось бы спрашивать.
Она принимает естественный облик, готовясь просочиться в Межмирье, а я предлагаю:
– Не оставляй меня надолго. Приходи.
Лента тумана проскальзывает по моей руке, лаская на прощание, и исчезает. Я еще немного любуюсь темнеющим простором, затем оборачиваюсь чайкой, и лечу домой. Мой дом – в городке, прилипшем к горам. Там есть хорошая ночлежка, она же проституточная, она же паб, она же рынок, она же склад, она же театр, она же храм, она же контора начальника порта. Раньше среди прочего была общественная баня, теперь для бани построено новое здание. А это здание – самое большое в городе, с берега похожее на громадный деревянный брусок, принявший множество бурь, палящих лучей, истошных дождей, и самых пестрых посетителей. В центре бруска есть двор – широкий, как целая площадь; там проводят праздники, собрания и казни. Наша с Эйриком комната открывается балконом и окнами во двор, и мы наблюдаем за жизнью города. Местная жизнь любит кучковаться под нашим балконом.
В комнате темно, как в сумерках. Небо уже полностью покрыто бугристым синяком, жирный предгрозовой свет туго протискивается меж волокон занавесок. Пыльные доски пола скрипят и проседают подо мной, будто во мне веса, как в буйволе. Силуэт Эйрика растянут по кровати. Он лежит без подушки и одеяла, и открытыми глазами не видит потолок.
– Найди ножницы, – просит он, не шевелясь.
– Уже нашла, – отвечаю я, и беру их со стола.
Они пробыли там весь день, а он не заметил. Я принесла их утром из скобяной лавки, когда узнала о его желании постричься. Его кудри превратились в валенок, и ничего другого, кроме как отстричь, с ними уже не сделать.
Эйрик медленно, как под водой, садится на кровати, а оттуда пересаживается на пол. Не зажигая свечей, я устраиваюсь рядом, и начинаю отрезать прядки почти под корень. Вскоре мы окружены мятыми колечками и спутанными спиральками – черными с блестками седины. При нашем расставании после приема у советника седины не было.
Я орудую ножницами молча, а он молча сидит. Он хочет уехать подальше от гор, но не хочет выходить из комнаты. Он даже на балкон высунулся лишь единожды на миг, и больше к нему не приближался. Я чувствую его душу несвежим фаршем с вкраплением перемолотых костей, и ничем не могу помощь. Единственное, что я могу – не торопить его, не трясти и не трогать. И я не трогаю.
Он решил навек завязать с предсказаниями, но я не верю. Зодвинг жестко ушиб его за плутовство, и еще жестче напугал, но морской ветер должен выдуть из него дурные впечатления. Эйрик должен быть подвижным, ищущим, ярким, жадным – потому что именно таким я его люблю. Он не позволит правосудию закопать себя горными породами, песком и пылью.
Он такой худой, что мне кажется, будто я могу носить его на руках девицей, без привлечения грузчика. Спина изрыта кнутом, ноги изгрызены кандалами. Хальданар размышлял о том, что делать с меткой каторжника – грубым шрамом в виде шалашика через всю щеку, и придумал перекрыть его диагональным порезом. Теперь все помилованные будут ходить с зачеркнутой меткой, чтобы их не принимали за беглых. Эйрик не смотрит в поверхности, которые могут отразить его, и моется в полутьме большой мягкой мочалкой. Пыль, набившаяся в грудь, временами заставляет его надсадно кашлять. Уже шестой день мы живем вместе в этой ночлежке, и он еще ни разу не взглянул мне в лицо. Мы почти не разговариваем; он даже не сказал мне спасибо за то, что вытащила его. Он даже не вполне осознает, что именно я не дала ему умереть в шахтах. Я не обижаюсь, но мне очень хочется, чтобы он поскорее вернулся…
Я завершаю стрижку. Теперь изможденное серое лицо еще больше похоже на череп. Я долго прижимаюсь губами к голому виску, а потом в молчании иду за метлой. Эйрик в молчании возвращается на кровать. Его изрытая спина заживает, лежать на ней уже почти не больно. Поначалу он целыми днями лежал на боку, отвернувшись к стене, а теперь вот так – не видя потолок. Я заметаю волосы, и все-таки зажигаю свечу. На улице грохочет, плещет, сверкает, воет, и будто бы разламывается. Ветхое здание стойко принимает очередной удар окружающего мира. Чтобы было спокойнее, я закупориваю комнату ставнями, закрываю балконные двери, и вынимаю из сундука большое одеяло. Пристраиваюсь на кровати, и прячу нас двоих под шерстяным полотном.
– Ты кого-нибудь убила с тех пор? – спрашивает Эйрик сухим шершавым полушепотом.
– Нет, – отвечаю сразу, гадая, решится ли он произнести вслух то, о чем мыслит.
– А знаешь, кого надо убить? – он решается без колебаний.
– Знаю.
Я уже ищу ее. Если он захочет поспешить, я попрошу Минэль, и она справится с поиском в момент. Из Межмирья видно все; там нет ни расстояний, ни высоких стен, ни темных углов, ни маскировочных костюмов. Корнелия – его любовница из Зодвинга – покинула город с торговым обозом, и скрылась где-то по ту сторону гор, в землях кочевников. Я летала туда соколом еще до того, как Эйрик задумался о мести. Если бы он вообще не задумался об этом, я бы все равно достала ее.
Юный хрупкий цветок приходил на его выступления, засматривался, слушал, затаив дыхание, всячески одобрял и ластился. Эйрик падок на все это – на женщин, внимание, похвалу, и очень быстро у них случилась «любовь». Когда его подозрительной работой заинтересовалась стража, и ему пришлось уходить от погони, он знал, у кого затаиться. Корнелия укрыла его в своем погребке (на самом деле, заперла), и прямехонько двинулась к страже. За помощь правопорядку в Зодвинге дают неплохую награду, а для полуголодной служанки в разоренном доме – просто роскошную награду. Она намеренно приручала его, молча наблюдая за тем, как он, по незнанию местных законов, роет себе яму, и, сорвав куш, уехала за лучшей жизнью. Когда Эйрик догадался, что стал дичью на продажу, он впал в ярость. Его не раз подставляли и нахлобучивали, но чтобы так подло и с таким невинным влюбленным лицом…
– Прости, Латаль, – говорит он серо, впервые повернувшись на меня.
За девицу? За то, что ухитрился обмануть меня тогда на пляже, усыпить и удрать? Нет, не прощу. Я никого ни за что не прощаю, и ничего не забываю. Но, пока ты нужен мне, я могу стерпеть некоторые из твоих человеческих несовершенств. Особенно если ты за них наказан.
Сейчас ему кажется, что я – единственный друг, отпущенный ему судьбой; что ни от кого, кроме меня, он не видел и не увидит добра. Мне льстят эти фантазии, но они – очередная человеческая слабость. Люди похожи на листки бумаги – их так же легко заполнять, изменять, скручивать, трепать, уничтожать. Они такие же ненадежные и кратковременные, и требующие бережного хранения. Я буду хранить тебя, любимый, и никакое из зол, что тебе причинят, не останется без ответа. Я буду покрывать тебя хорошими словами, изящными узорами и свежими красками. И я тебя уничтожу, если ты снова покинешь меня. Если посмеешь решать за меня, владеть мне тобой, или нет. Человек не должен ничего решать за сущность, и я надеюсь, что ты сумеешь понять и запомнить это.
Зодвинг сверху похож на очень вычурную посудину для очень претенциозного приема. На какую-то тяжеловесную глиняную емкость с множеством отсеков, перегородок, углублений и подставок. Кружа орлом над городом, я представляла себе, как эту штуковину можно заполнить закусками, соусами, сухарями, горошком, увенчав подставки чашами с вином и блюдцами с цветами. Город диковинно втиснут в горы, и порой простому взору не отделить скалы от стен, а плато от крыш. Навесные мосты над расщелинами и провалами похожи на ленты поджаренного теста. Проголодалась я тут, что ли?
Участники пленума собираются в Саду Тысячелетия. Это бывалое место, видавшее всякое. До набега здесь было роскошно, почти как в храмовом зале жреческой школы, а теперь это площадка над обрывом, огороженная парапетом, декорированная осколками недоломанных статуй, недобитых фонтанов, недожженных беседок. Я сижу на вытянутой руке бога труда и хозяйства, и вспоминаю Сад Тысячелетия прежним. Искусственные водопады и ручьи звенели аквамариновыми искрами, цветники пылали сказочными всплесками, золоченые обелиски и стелы жгли глаза. Это был дворец без крыши и стен, предназначенный для самых элитных сборищ. Здесь проходили инаугурации городничих, свадьбы их детей, суды над их врагами. Здесь принимали послов, разрабатывали законы, объявляли войны. За свою бесконечную историю Сад повидал столько заседаний, пиров и оргий, что здешние драгоценные фигуры животных, должно быть, вздохнули с облегчением, когда их забрали в трофеи. Здешние собрания всегда начинались одинаково, и всегда одинаково заканчивались.