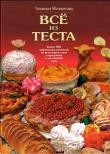Текст книги "Сущность вина (СИ)"
Автор книги: Соня Таволга
Жанры:
Постапокалипсис
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
========== 1. ==========
Если на деревенские праздники заходят незнакомцы, их никогда не гонят. Наоборот, их привечают и щедро угощают, потому что знают: сущности могут являться в любом обличии. Я, например, люблю оборачиваться кошкой или ребенком-мальчишкой, потому что они шустрые и неприметные. Девочек люди стерегут – считают, что девочки подвержены дурным влияниям злых обитателей Межмирья, а мальчики бегают сами по себе, никто не обращает на них внимания. На самом деле среди нас нет добрых и злых. Мы не помогаем людям, и не пакостим. Мы только наблюдаем, и несем богам все, что видим. Мы видим деяния и помыслы, истину и ложь, правоту и заблуждения. Мы видим, что на сегодняшнем празднике цветения феотиса жрец принесет богу леса неугодную жертву. Бог желает невинную деву, но та, что дожидается своей минуты в венке из трав и цветов, уже не чиста. Весь год жители деревни будут страдать от гнева леса из-за ошибки жреца. Тропы будут путаться, уводя людей в глухие темные чащи, зверь будет сбивать охотников со следа, ягоды и грибы не уродятся, топоры переломаются о стволы. Мы знаем это, но ничего не скажем. Мы просто наблюдатели, глаза и уши богов, их слуги и подданные.
Я сижу на руках у старухи, я – белый пушистый котенок. Старуха гладит меня по шерсти, ее руки сухие и дрожащие. Ее рубаха пахнет дымом костров и скисшим молоком, ее длинные седые волосы свисают с худых плеч и сгорбленной спины, как водоросли. Это сущность слова, слуга бога власти. Ей подносят яства и вино, и разговаривают учтиво. Люди уважают стариков, как будто те вскоре должны стать духами. Но никто не может стать духом, человеком или богом. Мы все просто появляемся собой.
– Тебя почитают больше других, – говорит мне старуха. Она тихо бормочет, склонившись ко мне, касаясь моей шерсти тонкими губами и дыханием с запахом браги. – В плясках и забавах возносят тебе хвалу.
Я – сущность вина, слуга богини веселья и удовольствия. Больше меня люди любят только сущность целебных трав, помогающих от похмелья.
– У них тяжелая жизнь, – отвечаю я, не открывая рта. – Чем злее обыденность, тем громче гуляния и пиры.
Старуха треплет меня за шкирку, улыбаясь гнилыми обломками зубов.
– Не пытайся умничать, Латаль, тебя это не красит, – крякающе смеется она.
Мои подруги и сестры уважают меня меньше, чем люди. Сущности охоты, земледелия и рождения не хотят считать меня ровней. Минэль – сущность слова – полагает себя кладезем порядка и мудрости, а меня – котомкой сумасбродства и бестолковости. Как будто у людей не хватает сумасбродных и бестолковых слов.
Поляна украшена яркими лоскутками, соломенными чучелками, бусами из шишек и желудей. В самом центре возвышается алтарь бога леса. Он состоит из бревен и веток, из шкурок животных и сушеного мха. На нем покоится большая миска с водой, в которой плавает главный герой гуляний – прекрасный бело-синий феотис. Он цветет всего один день в году, и заслуживает внимания к себе. Рядом высится алтарь моей госпожи, богини праздника и удовольствия. Он сплетен из гибкой лозы, опутанной тряпичными лентами, косами, шнурами и нитками. На нем покоится кувшин с вином. Над кувшином вьется шершень – моя сестрица, сущность песни. По краям поляны – столы, уставленные жареной дичью, солеными грибами и свежими ягодами. Вокруг алтарей детвора водит хоровод. Девица в венке, уготованная в жертвы, кружится с ними. Она может спасти себя от смерти, а жителей деревни – от года неудач, но она молчит, потому что правда опорочит сына старосты, а она любит его. Словом, она молчит, потому что дура. Мы не вмешиваемся в дела людей, но мы не беспристрастны. Некоторые люди нам нравятся, некоторые нет. Кому-то хочется помочь, а кому-то – уронить на голову сухую березу. Эта девица, кровь которой в конце праздника зальет оба алтаря, вызывает у меня презрение. Люди верят, что она попадет в Межмирье и станет одной из слуг леса, а я радуюсь, что это не так. Человек не может стать духом, а дух – человеком. Но духи могут вдохновенно притворяться.
– Ты только посмотри на нее, – я беззвучно смеюсь. – Она собирает сердца, как землянику.
Эноль – сущность охоты в обличии воителя – огромного и статного красавца-мужчины, очаровывает местных девиц окладистой бородой и тяжелым боевым топором. Ей дарят витые шнурки, кожаные ремешки и шарики из меха. Каждый подарок – приглашение на свидание. Деревенские мужчины злятся, но обычаи не позволяют им погнать нахала. Его щедро угощают вином и брагой, надеясь, что он напьется и ослабнет, но сущность не может захмелеть. Эноль будет забавляться, пока ей не надоест.
Сын старосты играет на гуслях и поет. У него красивый голос и красивое лицо. Все любят его, слушают с наслаждением. Все видят ясного благодетельного юношу, мы видим трусливого мерзавца. Но ничего не говорим.
– Минэль, почему мы ничего не говорим? – не открывая рта, спрашиваю я старуху. – Эта деревня живет лесом. Он кормит ее, согревает зимой, укрывает от врагов. Все эти люди могут умереть, если лес будет против них.
Старуха ласково теребит мою шкурку.
– Ты глупая, – смеется она. – Не вмешиваться в дела людей – это закон.
Минэль служит богу власти, и считает, что власть всегда права. А я считаю, что власть права до тех пор, пока кому-то не хватит смелости бросить ей вызов.
– Забудь свою вздорную мысль, и никогда ее не повторяй, – советует она серьезно. – Не гневи богов, подруга.
Солнце спускается, заросли заполняются тенями. На поляне разводят костры. Люди в плясках похожи на верхушки тонких деревьев, которые тревожно мотает ветер. Длинные цветные рубахи становятся серыми в сумерках. Люди в плясовом трансе забывают себя. Далеко по лесу летят звуки бубнов и колокольчиков, выкрики песен и заклинаний. Все пьяны, кроме маленьких детей, жреца и Эноль в обличии воина. Жрец единственный, кто не участвует веселье. Он стоит меж двух алтарей, его голова под покрывалом, лицо невидимо в тени. Его большие руки перекрещены на груди. В одной руке он держит обоюдоострый нож, в другой – букет лесных цветов. Его босые ноги теряются в маленьком пятне невытоптанной травы. От жесткого мяса у него разболелся зуб. Он думает, что у Эноль дивный топор, и хочет себе такой же. Борода Эноль кажется ему более мужественной, чем его собственная, и ей он тоже немного завидует. Он не разделяет трепетного ликования людей, и хочет, чтобы все поскорее закончилось. В хижине у него есть шалфей, и отваром можно утихомирить больной зуб. С покрывалом на голове он напоминает себе старушку.
– Жрец не чтит богов, – говорит Минэль сурово. – Не чтит традиции. Он оскорбляет лицемерием и людей, и богов, и нас.
Он получил мантию от отца, но служение Надмирью – не его призвание. Или он просто пока не готов сродниться с этим поприщем.
– Он еще молод, – отвечаю я. – Еще не осознает свою важность.
Минэль чихает, едва не выронив меня.
– У тебя летит шерсть, – ворчит она. – И я никак не могу понять твоей любви к людям. Они такие грязные, грубые, примитивные. От них плохо пахнет, и у большинства из них противный голос.
Я взбираюсь по ее рубахе, и усаживаюсь на плечо.
– Они так быстро умирают, то и дело болеют, – продолжает она. – Им постоянно то холодно, то жарко. Они то уставши, то голодны, то хотят чужую жену или чужого мужа. Они любят эти глупые вещи – амулеты, бусы, тотемы, шнурки и ремешки. Почему они считают, что богам есть дело до этих бестолковых атрибутов?
Я трусь головой о ее острый подбородок с натянутой тонкой кожей, и она кривится, отплевываясь от моей летящей шерсти.
– Тебе нельзя выходить в Мир, – говорю я дружелюбно. – Ты брюзжишь, как настоящая человеческая старуха.
– А ты мурлычешь, как настоящая кошка.
Наверху, в плешах крон, появляются звезды. Они еще бледные, но становятся ярче с каждым кругом хоровода. Ветер совсем стих, ветви недвижимы. Песни, крики, бубны и колокольчики набирают мощь и напор, они точно раскручиваются, накаляются, ускоряются, рвутся… и вдруг резко смолкают, словно верхушку свечи срезает раскаленный клинок. Это жрец поднял вверх руки, подав сигнал. Люди пятятся к краям поляны, не отворачивая лиц от алтарей, одна лишь девица в венке остается в центре. Она смотрит на жреца со счастливым ожиданием, будто он принес ей самый желанный подарок. Его могучий голос громом разносится над лесом, вспугивая ночных птиц. Он обращается к богу леса – главному богу для этой деревни, и Эноль склоняет голову, слушая слова с пиететом и глубокой любовью. Он обращается к богине праздника, и я довольно улыбаюсь своей кошачьей мордочкой. Моя сестрица, сущность песни, перекинулась из шершня в светлячка, и вьется близ венка девицы. Минэль, в общем-то лишняя здесь, скучает под старой липой. Девица плачет, но это от восторга, а не от горя. Жрец жестом велит ей встать перед ним, и единственным взмахом вскрывает ей горло. Кровь выглядит черной, пламя костров оставляет отблески в ней. Люди кричат и воют в экстазе, они хлопают, топают, бьют в бубны, стучат палками по столам и лавкам. Лицо жреца невидимо, но я знаю, что он морщится и скрипит зубами. Он берет с алтаря моей госпожи кувшин с вином, подставляет его под черные струи. Кровь и вино смешиваются в зелье, полном жизни, силы, продолжения, обещания. Новым взмахом жрец окатывает зельем алтари, бросает кувшин где-то рядом с жертвенным телом, и твердым шагом покидает поляну. Изможденные в плясках люди рассаживаются за столы, с аппетитом налегают на остатки яств. Бодро звучат разговоры, смех, шутки, споры. Кто-то запальчиво предлагает кому-то побороться на руках. Только сын старосты тих и беззадорен. Он украдкой поглядывает на мертвую девицу и подергивает плечами, точно в легком ознобе. Минэль сидит за столом со всеми, вкушает жареного глухаря. Я спрыгиваю с ее колен в измятую, истертую траву, и убегаю в заросли.
В хижине жреца горит свеча, ее бледный дрожащий свет заполняет маленькое окошко. Я прыгаю в этот свет, как люди прыгают в прорубь в праздник Благословения. Жрец умывается, склонившись над тазом. Его мантия и покрывало лежат на лавке, они все в алых брызгах. Рядом лежит нож в алых разводах. Вода в тазу розовая от крови, смытой с рук. Я вскакиваю на лавку, и жрец замечает меня.
– Пшш! – говорит он мне, намахиваясь. – Брысь!
Я не двигаюсь. Он спохватывается, и перестает меня гнать.
– Знаешь, что, – говорит он категорично. – Если ты дух, то подай знак. Если просто кошка, то проваливай.
Я не двигаюсь.
Он отворачивается от меня, и продолжает мыться. Его штаны пропитались стекшей водой. «Иной скотовод столько свиней не режет, сколько я – людей» – думает он. Его волосы завязаны серой тесемкой. Она из того же полотна, что штаны. Его спина загорелая, потому что он любит ходить к реке и сидеть на берегу без рубахи. «Даже не смог спросить, где он взял топор» – думает он. Отмывшись, он берет утирку, любовно вышитую кем-то из здешних девиц. Жрец – самый завидный жених деревни. Он даже выгоднее сына старосты, потому что старостами назначают уважаемых людей за заслуги, а жрецами становятся по наследству. Во всех важных вопросах голос жреца звучит громче голосов мудрецов-советников, а порой и громче голоса старосты. У него большая власть внутри общины, а над своей жизнью – никакой. «Хотя зачем он мне? – думает он. – Девицам шеи топором не рубят».
В середине хижины – очаг. В маленьком котелке греется отвар, источая маслянисто-гладкий аромат шалфея. Жрец снимает котелок, пробует отвар пальцем. Тот горячее, чем надо, но сгодится. Он переливает жидкость в глиняную кружку, полощет рот, сплевывая в таз. Закончив, он оставляет кружку на столе, и берет меня в руки. Они еще влажные, и моя длинная шерсть липнет к его коже. Он держит меня перед своим лицом. Лицо у него грубое, рельефное, загорелое. Брови и борода густые и коричневые, а глаза по цвету похожи на старый мох – буро-зеленые. Глаза серьезные и умные, и на меня они глядят без того умиления, с которым люди любят глядеть на пушистых котят.
– Лучше будь просто кошкой, – говорит он без доброты. – Кошки не такие кровожадные, как духи.
Нет, что ты, я не кровожадна. Почестей и жертв хотят боги, а мы… Мы ничего не хотим. Мы просто отражаем вас, как гладь пруда, чтобы боги могли видеть вас в отражении. Ты – жрец, но ты не ближе к нам, чем остальные люди. Ты рожден и вскормлен людьми, напитан их суждениями и заблуждениями. Ты – узник их правил, и я понимаю твою невольничью тесноту. Я – узница правил богов, и мне тоже тесно.
Он сажает меня на кровать – на перину, набитую соломой. Берет шнурок – из тех, что дарили ему девицы – и дергает кончиком передо мной. В такие моменты я чувствую себя немного униженно, но все же придерживаюсь роли. Я бегаю и прыгаю за шнурком, стараясь ухватить его когтистой лапой.
========== 2. ==========
Жрец спит, а я мурлычу у него под боком. Мне тепло и хорошо, но пора уходить. Я растворяю оболочку кошки, и просачиваюсь в Межмирье. Жрец становится бесплотным, хижина – нематериальной. Пространство заполняется сущностями. Мы скользим лентами и перекручиваемся, образуем клубки и плетения, расходимся и отдаляемся, проникаем друг в друга и перемешиваемся. Мы слышим друг друга и чувствуем друг друга, мы – единое целое. Мы составляем Межмирье, и в нем нет ничего, кроме нас. Мир наполнен Межмирьем, а Межмирье – сущностями.
Здесь тесно и пусто одновременно. Я вижу сны жреца, они тяжелы и безрадостны. Я ощущаю запах шалфея. Я знаю, что луна скрыта тучей, и скоро будет дождь. Дождь после праздника – это хорошая примета у людей. Они считают, что боги услышали их обращение и ответили им. Я знаю, что сын старосты сейчас не спит. Он бродит в лесной чаще, незряче раздвигая черные ветви, и оплакивает любимую. Его любимая была уготована богам с рождения, она не могла принадлежать никому из людей. Они вдвоем нарушили уклад, и теперь ему не будет покоя.
Мир так богат! В нем есть луна, тучи и дождь. В нем есть любовь, непокой и сны. Ягоды, морковь и котелки. Кожаные ремешки, деревянные тотемы и бусы из желудей. Войны, болезни и мотыги. Зайцы, рисунки и родинки. Башмаки, сказки и желания. Зависть, ногти и путешествия. Труд, мясо и смерть. Морозы, ритуалы и холщевые рубахи. А в Межмирье есть только мы. Только просторы сущностей без горизонтов.
Я слышу зов госпожи, и взмываю ввысь. Скольжу меж подруг и сестер, скольжу внутри них. Пронзая слой сущностей, я попадаю в слой света – в луч богини. Он красно-оранжевый, свет праздника и удовольствия. Надмирье для меня состоит из моей госпожи. Я перемешиваюсь с ее сиянием, с этой красно-оранжевой далью без горизонтов, и теперь я – единое целое с ней. В Межмирье клубятся сущности, в Мире течет время, а я – в объятиях богини, и для меня нет ничего другого. Мы с ней заполняем вселенную, мы заполняем муравья, сидящего на листе подорожника. Мы заполняем сны жреца и слезы сына старосты. Мы заполняем бесконечность времен и пространств, бесконечность циклов, начал и концов. Мне никогда не быть такой большой, как когда я в растворе с госпожой. Теперь все, что знаю я, знает она. Я слышу звон масс крошечных колокольчиков. Это она говорит со мной.
Я бегу вдоль реки, вдоль извилистого невысокого бережка, по мягким кочкам. Трава здесь густая, сочная и хрусткая, небо открытое, не забитое кронами. Я в обличии мальчишки. Вместо белой шерсти у меня белые волосы, вместо когтистых лапок – грязные босые ноги. На мне короткие штаны и длинная рубаха – все как у людей. Вода в реке теплая, я это заранее знаю, и впрыгиваю в нее с разбегу. Брызги летят стеной, солнце в них играет, блеск слепит глаза. Я скачу по песчаному дну, шлепаю ладонями по воде, брызги летят, солнце играет. Как же хорошо! Как же богат и сочен Мир!
– Да-да, забавляйся, юнец, – слышу мрачный голос за спиной. – Веселись, пока весело.
Я поворачиваюсь, и вижу жреца в зарослях рогоза. Он примял себе пятачок, и сидит на нем, заметный с воды, но незаметный с берега. У него закатанные рукава, и клейма, опоясывающие предплечья, очень ярки при дневном свете.
– Здравствуй, жрец, – говорю ему дружелюбно, и широко улыбаюсь.
Я вся мокрая, даже волосы. Иду к нему ближе, и мальки кидаются от меня врассыпную.
– Здравствуй, юнец, – отвечает он так же мрачно. – Ты из какой деревни?
Я машу рукой вверх по течению реки. С деревнями в низовье у них давняя вражда.
– Из речников? – уточняет он заинтересованно.
Я киваю, и продолжаю улыбаться. У него лицо грубое, неласковое, невеселое, но мне все равно нравится.
– Значит, умеешь лодки строить? – спрашивает. – Или не научился еще?
Уметь – не умею, и даже не пробовала, но знаю, как это делается.
– Зачем тебе? – я поддеваю песок дна, и вокруг ног становится мутно.
Я знаю, зачем ему. Жители его деревни уже почувствовали гнев леса, и гневаются на него за неудачный ритуал. Два человека отравились ягодами, которые прежде были съедобными, один заблудился и сгинул, охотники терпят неудачи. Жрец не сможет ничего исправить, и людское негодование будет расти. В конце концов они пригласят другого жреца из дружественной деревни, который в ритуале Укоренения принесет его в жертву. Он не верит, что принесенные в жертву становятся духами, и не хочет умирать. Он хочет бежать из деревни, но путь через восставший лес тоже грозит ему смертью.
– Это мое дело, зачем, – рубит он недобро. – А твое дело – сказать, можешь помочь или нет.
Я улыбаюсь, поддеваю песок и отвечаю легко:
– Могу.
Его лицо чуть смягчается. Насупленные брови расслабляются, а в глазах возникает надежда.
– Как зовут-то тебя? – спрашивает он мирно. – Я Хальданар. Не зови меня жрецом.
Он расправляет рукава, скрывая клейма.
Я улыбаюсь, и никак не могу перестать. Вода такая теплая, а солнце такое лучистое. И стрекозы с васильковыми крыльями вьются вокруг.
– Я Лат, – отвечаю привычно. – Можно сделать лодку из бересты и еловых веток. Это несложно, если с умом к делу подойти.
Я важничаю, не имея ни навыка, ни опыта, а жрец бодрится от моих слов, но сразу сникает. Я слышу его мысль, и тоже сникаю. Лес не позволит ему заготовить бересту, ветки, корни и смолу. Лес не подпустит его к своим деревьям.
– А своей лодки у тебя нет? – спрашивает он понуро, глядя в сторону.
Я могла бы украсть. Дело-то нехитрое – лодку от кола отвязать. Но если поймают, стыдно будет.
– Есть своя, – отвечаю солидно.
Жрец вскидывается на меня, как на спасителя.
– Что возьмешь за переправу?
Я совсем раздуваюсь от своей весомости.
– Тебе только на тот берег? – уточняю с толком.
Он пожимает негордыми плечами.
– Ты ж далеко не поплывешь, – молвит печально. – Эх, была б у меня своя лодка, я бы вниз по реке поплыл, может даже до моря.
Никто из его деревни не бывал у моря, и никто из их предков. Эти люди не кочуют. Вот степные племена за горами – те да.
– Отважился бы? – спрашиваю недоверчиво, с усмешкой.
Он встает рывком, и становится таким высоким и видным, что я жалею о своем невнушительном детском облике.
– Эй, юнец, – обращается грозно. – Помогаешь – помогай. Не помогаешь – не помогай. А дерзить не смей, понял?
Я киваю.
– Так что скажешь? – он шагает вперед и заходит в воду, гоня от себя круги.
Я тоже делаю шаг вперед, и наши круги встречаются.
– Завтра будет лодка, – заявляю твердо. – Жди здесь на рассвете.
Он сомневается во мне, но надеется. Вид у него суровый – сомнения и надежды прячет.
– Какая плата? – спрашивает негромко.
Я не могу ничего придумать, и улыбаюсь весело:
– Сочтемся.
Скинуть канатную петлю с кола – элементарнейшее дело. Рыбаки встают рано, но я пришла еще ночью, когда берег пуст. Люди долины никак не стерегут имущество – у них не принято воровство. Они убеждены, то боги жестоко накажут их за лиходейство. На самом деле богиня выгоды покровительствует не только торговле и честному заработку, но и любой прочей наживе. Когда я беру чужую лодку, сущность хищения в обличии лягушки наблюдает за мной из тины.
Лодка скользит по воде с мягким плеском, звезды бледнеют наверху. Я не умею грести, и весло слишком тяжело для моих слабых детских рук. Я гребу с натугой, выбиваясь из сил, передвигаюсь медленно. Мне совсем не нравится это занятие, но мне приятно думать о том, как обрадуется жрец.
Он нетерпеливо ждет в условленном месте. Завидев меня, он машет и улыбается. За плечами у него узел с пожитками, волосы заплетены в косу. Уже совсем светло, когда я добираюсь. Я неловко пытаюсь причалить, и он смеется надо мной.
– Дурной из тебя речник, – сообщает он весело. – Точно в первый раз сплавляешься. Это ведь не твоя лодка, лживый ты мальчишка?
Ему неприятно, что из-за него я краду и лгу, но он не подает виду. Он заходит в воду по грудь, подтаскивает лодку ближе к берегу, и влезает в нее. Я с облегчением отпускаю весло. Мышцы у меня гудят, на ладонях влажно алеют свежие мозоли. Это вызывает у меня досаду. Я не привыкла к неприятным ощущениям тела. Я морщусь, рассматривая испорченную кожу, а жрец насмешливо треплет меня по волосам.
– Ты вообще деревенский, неженка? – смеется он. – Ладно, окрепнешь, успеется.
Он берется за весло, и мы удаляемся от берега. Он тоже не умеет грести, но быстро приноравливается. Руки у него сильные, весло в них играет. На водной глади появляются первые золотинки солнца. Сущность странствий – слуга бога простора и воли – провожает нас взглядом из оболочки утки.
– Так куда мы плывем? – спрашивает Хальданар, разводя тихую воду.
Я больше не зову его жрецом, потому что он больше не жрец. Теперь он отщепенец – человек без племени, бродяга. Для жителей долины отколоться от общины и уклада – это страшная беда. Изгнание для них – худшее наказание из тех, что могут прийти от людей. Но Хальданар совершенно не печален. Он не любит деревню, уклад и свое занятие, не любит богов и духов за то, что те алчны до жертв. Он мечтает попасть в город у моря, который нафантазировал себе, наслушавшись рассказов скитальцев. Он ничего не знает о городе, но представляет его местом свободы, раздолья и изобилия. Он ждет от меня ответа, но я не отзываюсь, потому что вдруг понимаю что-то. Я вижу глаза утки – сущности странствий – и знаю то, что знает она. Она осталась далеко, человеческое зрение не дает разглядеть ее глаза, но я вижу их своим внутренним зрением сущности. Я знала это и сама, но оставляла без внимания, беспечно отвлекалась. А теперь я постигла, осмыслила, вспыхнула разумением… И паника захлестнула меня.
– Нет… – бормочу я, по-человечески хватаясь за голову. – Нет, я не хотела… Нет, о, госпожа…
Не думая о свидетеле, я растворяю оболочку и принимаю естественный облик. Делаю попытку просочиться в Межмирье, и бьюсь в заслонку. Пробую снова, и снова бьюсь. И снова, и снова. Межмирье не пускает меня. Меня изгнали. Заперли в Мире. Это кара за то, что я помогла человеку. Сущности не должны вмешиваться в дела людей – это закон.
Я мечусь по лодке, и она не становится нематериальной. Хальданар не становится бесплотным. Пространство не заполняют сущности. Ничего не меняется. У меня больше нет дома, госпожи, сестер и подруг. Нет ничего моего.
В отчаянии я возвращаюсь в облик мальчишки, сворачиваюсь на дне лодки, и горько плачу. Совсем как человек. Моя грудь содрогается, мышцы обмякли, я хватаю ртом воздух и что-то бормочу, подвывая. Я чувствую, что Хальданар берет меня за плечи и слегка трясет. Он бледен, как рассветное небо, ошеломлен и напуган, но сейчас в нем больше сострадания, чем страха. Он сражен и обескуражен моими метаморфозами, но сейчас он видит рыдающего ребенка и жалеет его.
Когда мое хлипкое тело выдыхается, я повисаю в руках Хальданара, а он прижимает меня к себе. Он гладит меня по голове, утешая, а я вытираю слезы о его рубаху. Я пытаюсь говорить, и слова получаются дергающимися и рваными. Я говорю, чтобы он плыл к морю, и что лодка теперь его. И что я не вернусь домой. И что я на самом деле сущность, или, как называют нас люди, дух. И что меня зовут Латаль. И что ему придется взять меня с собой, и это будет платой за лодку. Я говорю сбивчиво, со всхлипами, и он с трудом понимает меня.
Мы скользим по воде, разрезаем ее носом надвое. Река постепенно становится шире. Иногда она делает невыраженные повороты, иногда по берегам видны деревни. Я сижу на дне, вытянув ноги, полощу пальцы за бортом. Хальданар постоянно наблюдает за мной, в любой момент ожидая диковинный фокус.
– То есть ты можешь выглядеть кем угодно? – уточняет он хмуро.
Вместо ответа я оборачиваюсь ежом, потом стариком, гадюкой, филином, девицей.
– Этот вид мне нравится, останься в нем, – говорит он быстро, пока я не обернулась кем-то еще. – Тебе все равно, а мне приятно.
Я вздыхаю и молчу. Он глядит на шнурок на груди моей рубахи, и заискивающе интересуется:
– А можешь чуть-чуть развязать?
Я вздыхаю и молчу.
В лодке тесновато. Мои ноги теперь длинные, и я сгибаю их, прижимаю к груди, к завязанному шнурку.
– Есть хочешь? – спрашивает Хальданар.
Я качаю головой, вздыхаю и молчу. Он кладет весло, достает хлеб и воду, и принимается за обед. Солнце уже высоко, греет жарко. Кожа Хальданара лоснится от пота. Выжженные решетки, покрывающие его руки от запястий до локтей, блестят крошечными капельками.
– Ваши клейма – такая глупость, – говорю с недоумением. – Это больно и бесполезно.
Он пьет воду из глиняной бутыли, и загоняет пробку в горлышко.
– Не так больно, как знать, что будешь всю жизнь убивать своих соседей, – отвечает он грубо. – Бесполезно? Я с тобой согласен, а традиции Предгорья – нет. Считается, что за решетками жрец укрывается от злых духов в ритуалах. Люди придумали себе каких-то своих духов и богов… – Он вынимает пробку и снова пьет. – А расскажи, какие боги на самом деле? Как они выглядят? Ведь не как их деревянные фигурки?
Я улыбаюсь и качаю головой. Нет, конечно, не как фигурки. Я вдохновлено рассказываю ему о своей госпоже, и он слушает с интересом. Он пьет воду, хотя она давно теплая и невкусная, и с аппетитом жует сухой хлеб. Лодка чуть покачивается, а легкий ветер поигрывает моими длинными белыми волосами.
========== 3. ==========
Вечер розово-бежевый и застывший, нежный и ласковый. Мне очень нравятся летние вечера в Мире, они как будто созданы для доброты и любви. Первые звезды и бледная луна, похожая на маленькое облачко – они как вестники удовольствия и покоя. Мне кажется, что, увидев их, все люди должны стать чуть мягче и сердечнее, и чуть счастливее.
Травяной покров на поляне плотный, упругий – настоящая перина. Я помогла Хальданару сделать маленький шалаш для ночевки, и перекинулась в кошку. Он недоволен. Ему нравится, когда я в обличье девицы. Пока мы строили шалаш, он фантазировал о том, как мы будем прижиматься друг к другу ночью, и даже стремился сделать жилье потеснее. Но мне привычнее и удобнее быть кошкой или ребенком. Взрослой девицей я ощущала себя слишком громоздкой.
Он лежит и смотрит на сомкнувшиеся ветви, или, скорее, просто в темноту. Уже почти ночь, люди ночью плохо видят. Я лежу рядом, греюсь о его бедро. Он думает о городе и моих сосках, заметных через рубаху, когда она мокрая. Он в курсе, что я знаю все его мысли, но его это не смущает. Он мог бы с легкостью говорить свои мысли вслух. Это – опьянение свободой. Он всю жизнь молчал и сдерживался, а теперь ему кажется, что для него нет преград и ограничений. Это пройдет.
Он долго не может заснуть, возбужденный поворотом в своей жизни, а когда, наконец, засыпает, ему снится гладь реки, тянущаяся в счастливую бесконечность. Ему снится лодка, и снюсь я в мокрой рубахе с сосками. Больше я не буду купаться при нем в одежде. И без одежды не буду. И вообще, буду девятилетним мальчишкой. Ха-ха.
Ночью небо наполнилось мутью, и утро получилось монотонно-серым. Река, повторяющая цвет неба, похожа на железную заготовку для клинка. Дождя нет, но воздух наполнен водой, и моя шерсть отяжелела от водяной взвеси. Я сижу у шалаша, и наблюдаю за человеком, стоящим неподалеку. Его интересует наш шалаш, и еще больше наша лодка. Я его не интересую.
У мужчины волосы черные, как уголь, и в них бардак. Спиральки мелких кудряшек перемешаны с тонкими косичками, с птичьими перьями, с узкими цветными ленточками, бусами из сушеных ягод, висюльками из красивых камушков и морских ракушек. Темные глаза его обведены углем, и от внешних уголков летят к вискам угольные взмахи. На скулах и подбородке у него узоры, нарисованные хной – какие-то треугольники и ломаные линии. Его рубаха и штаны по цвету как свежая жертвенная кровь. Его широкий черный пояс весь обвешан колокольчиками, висюльками из камушков и ракушек, вышит разноцветными ломаными линиями. На его руках – звенящие браслеты, на шее – звенящие ожерелья. Если бы Хальданар заснул не под утро, сейчас услышал бы его приближение задолго до появления. Но он заснул под утро и очень крепко. Незнакомец хочет разбудить его, но сдерживается и ждет. Он хочет произвести на Хальданара исключительно хорошее впечатление.
Я сижу у шалаша на влажной траве, и перед моим зрением сущности несутся картинки – обрывки его жизни. Вот он среди сборища людей, и те благоговеют перед ним, глядят с изумленным восхищением, как на чудо. Вот он в хижине с тремя девицами, и те ублажают его с выдумкой и вдохновением, как одаренные и преданные делу мастерицы. Он бежит по лесу, а следом – разъяренная толпа, бросающая в спину булыжники и палки. Он в хижине старосты, и тот слушает его с выражением внимательного почтения. Он в городском храме, и люди смеются над ним, как над лицедеем в балагане. Он в городском кабаке, кидает пригоршни монет на стол, как земледельцы – пригоршни семян в поле. Он на берегу реки туманно-пасмурным утром, в красном наряде и в одинокой усталости.
Я иду в шалаш, и щекочу Хальданару нос своими жесткими усами. Он дергает лицом, переворачивается на бок, и продолжает спать. Я решаю больше не пытаться будить его, и мужчина-пришелец – тоже. Я сижу в шалаше, а он снаружи, и оба мы ждем.
Хальданар просыпается, когда первые капли дождя падают ему на голые щиколотки, торчащие снаружи. Он дрыгается и ворчит, и вылезает из веточного домика хмурым и вялым. Мужчина сразу встает и приветливо улыбается. Его зубы белые, как жемчужины, которых не знают жители долины, но за которые готовы убивать жители приморского города.
– Приветствую, брат-путник, – говорит он Хальданару, шаркая ногой и чуть кланяясь. – Мое имя – Беленсиан Чудоносец. Сожалею, что дождь нарушил твой добрый сон.
Хальданар ухмыляется, хмурь слетает с него.
– Перьеносец? – переспрашивает он.
Пришелец недоволен, но не подает виду.
– Чудоносец, – повторяет он спокойно, будто его не расслышали. – Предсказатель, колдун, раскрыватель тайн. Защитник и вредитель – для кого как. Беру монетами, но с тебя монет не возьму, коли сговоримся.