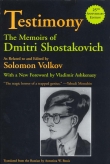Текст книги "Шостакович и Сталин-художник и царь"
Автор книги: Соломон Волков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Организованная Сталиным пушкинская юбилейная вакханалия захватила и тридцатилетнего Шостаковича. Иначе и не могло быть: имя Пушкина в этот период было у всех на устах, им клялись, с его помощью нападали на врагов и оборонялись, к нему обращались за
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*83
вдохновением самые разные, иногда противоположные по своим устремлениям мастера культуры.
Поэт Борис Пастернак, к примеру, еще в 1922 году любил ошарашивать антисоветски настроенных знакомых заявлениями о том, что «коммунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, – и слава Богу, пушкинское время…». Тогда это могло восприниматься как эпатаж в узком кругу. Но десять лет спустя Пастернак опубликовал в журнале «Новый мир» свою парафразу на пушкинские «Стансы» 1826 года – те самые, обращенные к Николаю I, с их призывом к царской милости по отношению к мятежникам. Пастернак в своем стихотворении явно и смело адресовался к Сталину с подобным же призывом:
Столетье с лишним – не вчера, А сила прежняя в соблазне В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни.
В советское время в атмосфере всеобщей подозрительности, преследований и арестов этот публичный жест имел скорее вольнодумную политическую окраску и запомнился многим: со Сталиным так, хотя бы и в стихах, разговаривать опасались. Пушкин послужил Пастернаку примером ведения политического стихотворного диалога с властью.
Андрей Платонов писал в статье, появив-
84
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
85
шейся под псевдонимом в юбилейные дни: «Риск Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина». И он цитировал стихотворение Пушкина «Предчувствие»:
Снова тучи надо мною Собралися в тишине; Рок завистливый бедою Угрожает снова мне…
Платонов знал, о чем пишет: после того как Сталин в 1931 году испещрил поля журнала с повестью Платонова «Впрок» замечаниями типа «дурак», «беззубый остряк», «подлец», писатель был лишен возможности опубликовать свои лучшие произведения, ныне составляющие гордость русской культуры XX века. Впоследствии Платонова окончательно выбросили из литературной жизни, и он умер в 1951 году нестарым еще человеком, подхватив туберкулез от своего вернувшегося из ссылки сына: огромная потеря, оставшаяся незамеченной в те времена свинцовых сталинских сумерек.
Сам Шостакович в мир Пушкина вошел с детства и с тех пор неизменно называл его в числе любимейших поэтов. Иначе и быть не
могло; как заметил Андрей Битов, «уже не столько Пушкин – наш национальный поэт, сколько отношение к Пушкину стало как бы национальной нашей чертою». Но для Шостаковича, с детства с болезненной остротой впитывавшего музыкальные впечатления, восприятие Пушкина, вероятно, во многом шло через музыку. Так произошло с «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой», «Борисом Годуновым» – операми Чайковского и Мусоргского на пушкинские сюжеты. Многие пушкинские стихотворения впервые вошли в сознание Шостаковича через знаменитые романсы Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рахманинова. Первую свою оперу тринадцатилетний Митя Шостакович написал по поэме Пушкина «Цыганы», но спустя несколько лет в припадке разочарования (как он сам выразился) сжег это произведение, о чем потом сожалел. (Чудом уцелело лишь несколько номеров.)
Вновь к пушкинским стихам композитор обратился через семнадцать лет, в трагическом для него – как и для многих советских людей – 1936 году. Сталину резко не понравилась опера Шостаковича «Леди Макбет Мцен-ского уезда», которую вождь пришел посмотреть в филиал Большого театра. В ходе широко развернутой кампании по борьбе с «форма-
86
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
87
лизмом» в советском искусстве эта опера – как и поставленный в Большом балет Шостаковича «Светлый ручей» – были осуждены и исключены из репертуара, а сам Шостакович подвергся остракизму. Многие друзья от него отшатнулись. Он опасался за свое будущее, за будущее своих произведений, за судьбу своей семьи. Но сочинять музыку не перестал: в этом был весь Шостакович.
1 августа 1936 года композитор начал работу над циклом романсов на стихи Пушкина. Первым остановило его внимание стихотворение «Бесы», одно из самых зловещих у Пушкина. Ясно, что Шостаковича привлек пушкинский образ безумной бесовской пляски, столь схожий с ситуацией вокруг его собственной опальной оперы:
Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре Закружились бесы разны…
Но Шостакович прервал сочинение этого романса: видно, негативное переживание оказалось слишком острым, а ему в стихах Пушкина хотелось найти какой-то позитивный урок и луч надежды. Поэтому он положил на музыку «Возрождение» – пушкинскую мини-притчу о старинной картине, «созданьи гения», обезображенной варварами: многие годы спустя она «выходит с прежней красотой» к вос-
хищенной аудитории. Параллель со Сталиным, который «бессмысленно чертит» (слова из «Возрождения»!) свои варварские указания прямо по «картине гения», здесь очевидна.
Столь же очевидны современные аллюзии в третьем номере цикла – «Предчувствие», на те самые стихи, которые в своей статье о Пушкине цитировал Платонов. Это вопль души:
Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей?
Но, как это всегда случалось у Шостаковича, личная и политическая трагедии откристаллизовались в музыку поразительной художественной силы, в которой страсть как бы клокочет изнутри, лишь иногда прорываясь на поверхность в монологических выкриках удивительной экспрессивности.
«Четыре романса на слова А. Пушкина» – один из шедевров вокальной лирики Шостаковича, до сих пор не до конца оцененный. Примечательно, что даже некоторые друзья композитора поначалу увидели в этом цикле «что-то хулиганское». Но, разумеется, не из-за подобных приватных отзывов Шостакович отложил премьеру этого опуса на четыре с половиной года, дождавшись, когда грозовые тучи над его головой разойдутся. В 1936 году публичное исполнение произведения со столь вы-
88
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
89
зывающе звучавшими (хотя бы и пушкинскими) текстами могло дорого обойтись Шостаковичу. Ведь от него ждали только самокритики, только покаяний и самобичевании – таков был жестокий ритуал эпохи.
После государственного скандала с оперой и балетом Шостаковича на сценах Большого театра и его филиала Сталин решил навести порядок в своем придворном театре. Впервые была официально утверждена должность художественного руководителя всего Большого театра: и его оперной, и балетной трупп. Эту позицию маленького «музыкального Сталина» занял, парадоксальным образом, переведенный в 1936 году в Москву из Ленинграда дирижер Самуил Самосуд, давний друг и поклонник Шостаковича.
В 1930 году Самосуд первым продирижировал авангардистской оперой Шостаковича «Нос», а в 1934-м осуществил премьеру его «Леди Макбет». Но Сталин за это на дирижера зуба не держал. Будучи прагматиком, вождь оценил талант, энергию и усердие Самосуда и поставил перед ним грандиозную задачу: сделать Большой ведущим театром оперы и балета не только Советского Союза, но и всего мира.
Сталин был убежденным и последовательным сторонником политики «кнута и пряника». Он любил повторять: «Я не очень верю в
совесть. Там, где нет настоящей заинтересованности, там никогда не будет и настоящего успеха». Перед штурмом заоблачных культурных высот вождь решил приободрить свои музыкальные войска. В 1937 году Большой первым из музыкальных коллективов страны был награжден высшим орденом – Ленина. Самосуда и группу избранных артистов театра также наградили орденами Ленина и присвоили им недавно учрежденные звания народных артистов Советского Союза. Еще чуть ли не сто членов труппы получили другие ордена. Все это считалось большой честью и подавалось с огромной помпой, как некое всенародное торжество.
Окрыленный Самосуд в «Правде» от 4 июня 1937 года расписывал свои планы, среди которых главное место занимали новые постановки «Ивана Сусанина» Глинки и «Бориса Годунова» Мусоргского. Это была директивная статья, и в ней при внимательном чтении нетрудно увидеть, каковы были руководящие указания Сталина и реакция на них дирижера (вероятно, стенографически записанные и лишь минимально «причесанные» для публикации).
Текст в «Правде» отчетливо распадается на два стилистически контрастных пласта: авторитетные, веские, безапелляционные формулы Сталина – и почтительная скороговор-
i . i i III;!! i ;l ;.; i i t ] i I heiilMirHilii.H'liMli11
90
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
91
ка Самосуда. Сталин: «Мы понимаем оперу«Иван Сусанин» как глубоко патриотическуюнародную драму, направленную своим острием против врагов великогорусского народа».Самосуд: «Большой театр сделает все, чтобысоответственно очистить текст, приблизив егок музыке Глинки и к подлинной исторической правде». Сталин: «По нашему мнению, встарых постановках «Бориса Годунова» на оперных сценах также неверно был показан русский народ. Его обычно представляли каким-то придавленным. Основным сюжетом оперысчитали личную драму Бориса. Это неправильно». Самосуд, разумеется, полностью согласен:«В нашей постановке роль народа в развертывающихся событиях будет значительно поднята, народные сцены показаны ярко и выпукло». '–•,.-¦'^
Факт подобной беседы Сталина с Самосудом подтверждается в недавно опубликованном письме Шостаковича к поэту Евгению Евтушенко. Письмо это написано в 1962 году, открыто обсуждать личность Сталина Шостаковичу тогда, по понятным причинам, не хотелось, поэтому он весьма прозрачно именует его «корифеем науки» – так при жизни вождя именовала Сталина раболепная советская пресса. Согласно Шостаковичу (а ему этот разговор в свое время пересказал сам Самосуд),
вождь сказал дирижеру: «Не надо ставить оперу «Борис Годунов». И Пушкин, и вслед за ним Мусоргский извратили образ выдающегося государственного деятеля Бориса Годунова. Он выведен в опере этаким нытиком, хлюпиком. Из-за того, что он зарезал какого-то мальчишку, он мучился совестью, хотя он, Борис Годунов, как видный деятель, отлично понимал, что это мероприятие было необходимым для того, чтобы вести Россию по пути прогресса и подлинного гуманизма». И Шостакович саркастически добавляет: «С.А. Самосуд с восторгом отнесся к необычайной мудрости вождя».
Шостакович умолчал, однако, что Самосуду удалось убедить Сталина в необходимости новой постановки «Бориса». Дирижер был уверен, что сумеет «реабилитировать» и Мусоргского, и Пушкина. Это было нелегкой задачей. И опера, и трагедия были очень разными произведениями, но оба – со сложной и трудной судьбой.
Пушкин закончил своего «Бориса Годунова» поздней осенью 1825 года, незадолго до восстания декабристов. Взяв за образец исторические хроники Шекспира и опираясь на материалы «Истории государства Российского» почитаемого им Николая Карамзина, Пушкин повествует о том, как честолюбивый боярин Борис Годунов, обойдя более знатных пре-
92
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
93
тендентов, воссел в 1598 году на русский трон. Но все усилия Годунова завоевать народную симпатию оказались тщетными: молва упорно винила его в гибели малолетнего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, стоявшего на пути Годунова к престолу3. Вдобавок на Москву обрушились голод и эпидемии; народ возроптал. Тут явился самозванец, объявивший себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. На самом деле это был молодой беглый монах Григорий Отрепьев. Собрав под свои знамена недовольных царем Борисом и заручившись поддержкой Польши, самозванец двинулся на Москву. Несколькими гениальными мазками Пушкин рисует картину мгновенной дезинтеграции власти и могущества Годунова в 1605 году: все его проклинают, никто ему не верит; мучимый угрызениями совести, Годунов умирает. Лжедмитрий торжествует победу.
Следуя Шекспиру, Пушкин соединил в своей трагедии возвышенное и патетическое с комичным и грубым; действие «Бориса Годунова» развивается стремительно и напряженно, без малейшего сползания в сентиментальность. Для русской драмы это была револю-
Пушкин, вслед за Карамзиным и устной традицией, считал Годунова убийцей; позднейшие историки подвергают эту версию сомнению.
ция, и Пушкин в восторге сообщал своему приятелю, князю Петру Вяземскому, о переписанной наконец набело пьесе: «… я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!»
Этот беловой список «Годунова» Пушкин захватил с собой в Москву, когда его туда в 1826 году вызвал только что коронованный Николай I. Он разговаривал с императором о своей трагедии и представил ее на высочайшее одобрение. Сначала Николай I предложил переделать пьесу «в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта», но впоследствии сменил гнев на милость: в 18 31 году «Борис Годунов» был наконец опубликован, хотя на сцену попал только через тридцать три года после смерти Пушкина, осенью 1870 года.
Тогда петербургская пресса и публика встретили премьеру трагедии Пушкина весьма прохладно. Это, вероятно, повлияло на решение оперного комитета императорского Мариинского театра, когда он той же осенью отверг представленную на его рассмотрение оперу «Борис Годунов» молодого композитора Модеста Мусоргского. Отказом комитета Мусоргский был крайне озадачен и огорчен, но друзья уговорили его сесть за переделку любимого детища. На свет появилась новая ре-
94
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И. СТАЛИН
95
дакция оперы, а с ней – вечная головоломка для театров всего мира: какой из двух вариантов (или их сочетание) предпочесть? И в какой оркестровке: подлинной авторской или же в одной из позднейших, сделанных уже после смерти Мусоргского обработок, среди которых две наиболее знаменитые принадлежат перу Римского-Корсакова и Шостаковича?
Несмотря на все эти затруднения, «Борис Годунов» остается одной из самых известных и любимых русских опер. Даже в России (не говоря уж о Западе) эта опера ставится несравненно чаще, чем пушкинская трагедия. Мусоргский – более страстный, более романтический автор, чем Пушкин. Его опера – это скорее Достоевский в звуках. Частично это проистекает из самой природы оперного жанра: музыка, пение укрупняют персонаж, ставят его на романтические «ходули». Тем более это неизбежно во взвихренном, растрепанном пространстве прото-экспрессионистскои
МуЗЫКИ МуСОрГСКОГО.' 1 : : т
Шостакович всю жизнь почитал Мусоргского своим любимейшим композитором. Его «Бориса Годунова» он досконально изучил еще в студенческие годы. Опера эта в конце двадцатых годов оказалась в центре бурной общественной дискуссии в связи с ее новыми по-
становками в Москве и Ленинграде. Большевики всегда расценивали «Бориса Годунова» как революционный манифест. Первый большевистский нарком просвещения Анатолий Луначарский видел в этом произведении Мусоргского отображение настроений «озлобленного, приветствующего бунт народничества».
Считалось, что политически Мусоргский гораздо радикальней Пушкина, который, как известно, заключил свою трагедию знаменитой символической ремаркой: «Народ безмолвствует». У Мусоргского же народ – главный герой и действующее лицо «Бориса Годунова», хотя композитор и не приукрашивает его, а рисует, согласно тому же Луначарскому, «заброшенным, забитым, трусливым, жестоким, слабым – толпой, какой она могла и должна быть при условии антинародного режима, веками сковывавшего всякую жизнедеятельность демократии».
Именно «Борис Годунов» Пушкина-Мусоргского (а не только Пушкина) много раз оказывался тем зеркалом, в которое Россия смотрела в моменты социальных потрясений, узнавая себя вновь и вновь. Вокруг этой оперы всегда кипели страсти, никого она не оставляла равнодушным. И молодой Шостакович довольно скоро выработал свое собственное от-
96*СОЛОМОН ВОЛКОВ
ношение к этому произведению. Оно сложилось под влиянием концепции Пушкина и ее последующей модификации у Мусоргского и сказалось – очень мощно – на этике и эстетике Шостаковича.
Предваряя свою «Историю государства Российского», монархист Николай Карамзин писал: «История народа принадлежит Царю». Пушкин не согласился: «История народа принадлежит Поэту». Это было очень смелое и даже вызывающее заявление для России той, как и последующих эпох.
Пушкин поставил себя между двух враждующих лагерей. Ведь оппоненты Карамзина из революционного лагеря настаивали, что история народа принадлежит народу, то есть им формируется и определяется. В дальнейшем это станет догмой русских народников, а за ними и марксистов. Позиция Пушкина гораздо более профетична. Он утверждает, что история принадлежит тому, кто ее интерпретирует, – точка зрения, ставшая влиятельной в конце XX века.
Заветную для Пушкина идею о центральности роли поэта в толковании национальной истории он воплотил именно в «Борисе Годунове». Для этого Пушкин ввел в эту пьесу автобиографический имидж Поэта, столь сложный и многомерный, что автор вынужден был рас-
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*97
пределить его разнообразные функции среди нескольких персонажей.
Наиболее очевидным образом в «Борисе Годунове» представительствует за поэта Летописец, монах-отшельник Пимен. Это – обобщенная фигура, а не слепок с определенного лица, хотя с легкой руки Пушкина все летописцы и даже вообще историки часто именуются в России пименами. «Характер Пимена, – писал Пушкин, – не есть мое изобретение… Мне казалось, что сей характер все вместе нов и знаком для русского сердца…» И Пушкин перечислил некоторые из черт, типичных, по его мнению, для поэта-летописца: отсутствие суетности, «нечто младенческое и вместе мудрое».
Пушкин, однако, не идеализировал своего героя. Он отлично понимал, что реальные летописцы вовсе не были объективными описателями, будто бы парившими над событиями, которые они запечатлевали: ведь он и сам не был таким1. Его летописец (он же – поэт) выполняет функции и свидетеля, и судьи. Царь может думать, что он – вне закона, ибо находится на вершине власти, Но Пушкин напоминает самодержцу:
Историки подтверждают, что перьями древнерусских летописцев «управляли политические страсти и мирские интересы».
98
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
99
А между тем отшельник в темной келье Здесь на тебя донос ужасный пишет: И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда.
Другим персонажем своей трагедии, с которым Пушкин определенно идентифицировался, был Юродивый. Об этом недвусмысленно свидетельствует следующий пассаж из уже цитировавшегося письма Пушкина к Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»
Юродивый у Пушкина – это, как и летописец, обобщенный образ. Оба персонажа типичны для средневековой Руси. Летописная культура существовала по всей Европе, но на Руси летописи были особенно политизированы и оттого влиятельны. То же и с юродивыми: «святые дураки» были достаточно распространены в Европе, но только в России их конфронтации с сильными мира сего получали такой широкий общественный резонанс В этом смысле можно говорить об уникальном значении фигур летописца и юродивого для русской истории и культуры. И не случайно Пушкин избрал их своими «альтер эго» в «Борисе Годунове»: их устами он дерзает говорить правду царю в лицо.
Одна из важнейших тем трагедии Пушкина – безнравственность, преступность и обреченность власти, основанной на крови. Об этом напоминает пушкинский Юродивый: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Приближенные царя Бориса серчают на Юродивого за его откровенные речи: «Поди прочь, дурак! схватите дурака!» Но пушкинский царь останавливает их: «Оставьте его. Молись за меня, бедный Ни-колка».
Этот царапающий душу обмен репликами соответствует и историческим преданиям об отношениях царей с юродивыми, и представлениям Пушкина о диалоге поэта с властью. Там, где поэт не хотел (или ему не давали возможности) играть роль степенного, величавого Пимена, он мог избрать маску безумного, а потому неприкасаемого Юродивого. Оба эти персонажа говорили напрямую с Богом – и оттого имели право судить царей. И, согласно Пушкину, цари это понимали.
Но даже этих двух масок Пушкину не хватало для полного отображения и описания тех сложных и ответственных ролей, которые, по его мнению, может и должен выполнять поэт в обществе. Поэт не только фиксируети тем самым формирует национальную историю, не только говорит правду в лицо царям. Он мо-
100 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 101
жет, если того потребуют обстоятельства, выступить в роли активного участника событий, протагониста драмы. Отсюда – внимание и парадоксальное сочувствие Пушкина к Самозванцу – дерзкому авантюристу, возмечтавшему схватить судьбу за рога.
Самозванцы (как и летописцы с юродивыми) – типичные персонажи русской истории. Мучившийся в рабстве народ создавал одну за другой легенды о «подмененных царях», о «царях-избавителях». В этих легендах содержался огромный взрывной потенциал, что было доказано феерическим взлетом Лже-дмитрия, а позднее легендарными приключениями русских крестьянских вождей Степана Разина («царевич Алексей») и Емельяна Пугачева («император Петр III»).
Пушкин явно любуется своим Самозванцем, его смелостью, находчивостью, самоуверенностью. Пушкинский Самозванец часто употребляет слово «судьба» – одно из любимых слов самого поэта. Самозванец сам лепит свою судьбу, свою биографию: здесь прямая параллель с романтической идеей «биографии поэта», как она начала складываться во времена Пушкина.
Самозванцу Пушкин дает выразить некоторые из своих заветных мыслей. «Я верую в пророчества пиитов», – говорит он. Иногда
кажется, что Пушкин относится к Самозванцу как к неразумному младшему брату. Вот, к примеру, характеристика, которую дает Самозванцу персонаж трагедии боярин Пушкин (в этом штрихе – еще одна мудрая, понимающая усмешка автора): «Беспечен он, как глупое дитя; Хранит его, конечно, Провиденье…» Тут сразу же вспоминаются и знаменитое пушкинское «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», и его же, похожее на вздох, заключение о том, каким, увы, может быть иногда поэт в частной жизни: «И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он».
Молодой Шостакович содержание и проблематику «Бориса Годунова», несомненно, впитал в себя через посредство оперы Мусоргского, а не трагедии Пушкина, которую Мусоргский сильно переделал для нужд оперной сцены (за что ему и досталось от современной критики).
Для нас особенно важно, как Мусоргский обошелся с теми тремя персонажами, которые у Пушкина представительствовали за Поэта. Все они приподняты, укрупнены; на них еще более фокусируется взгляд автора и, соответственно, публики. Роль летописца Пимена как обличителя и судьи выдвинута на первый план. Именно он (а не Патриарх, как у Пуш-
102 •соломон волков
кина) своим рассказом о чудесах, связанных с убиенным царевичем, наносит Борису последний смертельный удар.
Даже Самозванец у Мусоргского облагорожен: у него общая с царевичем светлая, приподнятая музыкальная характеристика. Эта светящаяся тема проходит в опере чуть ли не сорок раз, придавая образу Самозванца позитивный музыкальный ореол. Таким способом Мусоргский делает Самозванца реинкарнацией царевича, договаривая недосказанное Пушкиным. Это очень важный художественный и идеологический сдвиг.
Значение Юродивого в опере возросло неизмеримо. У Мусоргского Юродивый – растерзанная совесть и надрывный голос всего народа. Поэтому композитор завершает оперу тоскливым воплем Юродивого, предрекающего приход страшного темного времени:
Горе, горе Руси!
Плачь, плачь, русский люд,
Голодный люд!..
Слова этого простого и безысходного напева (одной из величайших страниц русской музыки) сочинены самим Мусоргским Это не случайно: Мусоргского даже ближайшие его друзья то и дело именовали то «идиотом», то «юродивым». Его идентификация с Юродивым из «Бориса» была, вне сомнения, еще более
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*103
сильной, чем у Пушкина. Это и дало мне когда-то повод назвать Мусоргского первым великим русским композитором-юродивым.
Вторым я посчитал тогда Шостаковича Для этого у меня были веские основания. И Шостаковича, как Мусоргского, близкие люди иногда обзывали в сердцах «юродивым». На эксцентричное поведение Мусоргского, по мнению хорошо знавшего его Николая Римского-Кор-сакова, влияло «с одной стороны, горделивое самомнение его и убежденность в том, что путь, избранный им в искусстве, единственно верный; с другой – полное падение, алкоголизм и вследствие того всегда отуманенная голова». Необычность поведения Шостаковича была, с одной стороны, более естественной, а с другой – более «сделанной», чем у Мусоргского. В этом плане Шостаковичу было у кого учиться.
Среди соратников композитора по «левому фронту искусства» в Ленинграде конца 20-х – начала 30-х годов мы видим целую группу, для которой эпатаж и эксцентричность являлись важной частью художественной программы. Это – ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), русские дадаисты, ранние представители литературы абсурда. Старый мир был взорван войной и революцией, его идеалы и ценности отброшены. Новый
104*СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 105
порядок вещей воспринимался обэриутами через призму гротеска. Их лидер, Даниил Юва-чев, взявший себе псевдоним Хармс (составленный из английских слов «шарм» и «харм»), записывал: «Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».
В этом манифесте примечателен его мора-лизаторский оттенок. Хармс здесь выступает как современный проповедник-парадоксалист, то есть в роли «нового юродивого». Эту же линию он проводил и в жизни, создав немыслимый для советского Ленинграда образ эксцентрика, чудака «не от мира сего».
Хармса можно было увидеть на улицах города в светлом пиджаке без рубашки, военных галифе и ночных туфлях на голую ногу. Наряд довершали большой нательный крест и сачок для ловли бабочек в руке. По свидетельству подруги, в этом виде Хармс вышагивал по Ленинграду очень спокойно и с достоинством, так что прохожие даже не смеялись, лишь
какая-то старушка могла сказать вслед: «Вот дурак-то».
Власти реагировали более нервно. «Комсомольская газета» ополчилась на Хармса после того, как на литературном вечере на Высших курсах искусствоведения он, забравшись на стул и потрясая палкой, заявил: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю!» Это типичное для юродивого заявление было расценено как атака на честь советского высшего учебного заведения. Но обэриуты не унимались, и на вечере в общежитии студентов Ленинградского университета, явившись туда с плакатом «Мы не пироги!», обозвали собравшихся «дикарями». На сей раз та же официозная газета разразилась по поводу обэриутов форменным политическим доносом: «Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглерство – это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их потому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага…» Вскоре ведущих обэриутов арестовали.
Выходя к широкой публике со своими инновационными опусами, Шостакович, как и обэриуты, играл с огнем. Его первую оперу «Нос» советская пресса окрестила «ручной бомбой анархиста». Многие ранние произведения Шостаковича воспринимались истэблишмен-
106 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 107
том как «музыкальное хулиганство». И наконец, в 1936 году, партийная газета «Правда» в ставшей печально знаменитой редакционной статье «Сумбур вместо музыки» вынесла Шостаковичу приговор, который должен был стать окончательным (и обжалованию не подлежал): «Это музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот»… Это левацкий сумбур…» (Как будет показано далее, эти озлобленные оценки принадлежали лично Сталину, главному культурному арбитру страны.)
Этот сталинский отзыв – «шиворот-навыворот» – есть типичная реакция разгневанного правителя на действия юродивого. Оттуда же и пресловутый «сумбур» – недаром откровения юродивых традиционно воспринимались истэблишментом как невразумительные, «сумбурные». «Правда» возмущенно описывала музыку Шостаковича как «судорожную, припадочную», «нарочито нестройный, сумбурный поток звуков», в котором композитор «перепутал все звучания». Точно так же – как нарочито безобразные, судорожные, припадочные – описывались современниками действия легендарных юродивых прошлого. Совпадения в лексиконе инвектив со стороны власти – удивительны и показательны.
При этом бытовая маска Шостаковича вовсе
не была столь же ярко вызывающей, как у его единомы шленников-обэриутов. Композитор, напротив, двигался в сторону максимально возможного опрощения своего облика и поведения – как это делал другой его ленинградский друг, писатель Михаил Зощенко. Свой сатирический писательский стиль Зощенко иронически описывал так: «Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным».
Этот нарочито бедный, «нагой» зощенков-ский язык (сравнимый с наготой юродивых как одной из их важнейших примет – недаром знаменитый обличитель Ивана Грозного юродивый Василий Блаженный именовался также и Василием Нагим) был, как показала Мариэтта Чудакова, результатом долгих поисков писателем новой, эффективной манеры для его творческих проповеднических нужд.. То, что Зощенко был проповедником, морализатором, учителем жизни, сейчас не вызывает сомнения. Примечательно здесь другое. Стилизованно упрощенная писательская манера Зощенко постепенно распространилась и на его жизненное поведение.
Этот процесс упрощения можно проследить по частным письмам Зощенко, которые с течением времени все более начинали походить на отрывки из его собственной «нагой»
108 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 109
прозы. Сам Зощенко подтверждал, что то были сознательные и мучительные поиски соответствующей его художественным задачам литературной и бытовой маски: «Я родился в интеллигентной семье. Я не был, в сущности,новым человеком и новым писателем. И некоторая моя новизна в литературе была целиком моим изобретением… язык, который явзял и который, на первых порах, казался критике смешным и нарочито исковерканным,был, в сущности, чрезвычайно простым и естественным».-